Читать книгу "Книга о смерти. Том II"
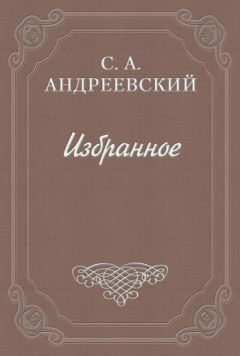
Автор книги: Сергей Андреевский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XLII
Август 1908 года. В этом августе, на расстоянии всего шести дней, столкнулся умерший Тургенев с доживающим Толстым.
22-го чествовалось двадцатипятилетие со дня смерти Тургенева, а 28-го Льву Толстому исполнилось восемьдесят лет.
Я видел погребение Тургенева. Его полированный, розоватого цвета дубовый гроб заграничной фирмы, в виде изящного длинного сундука, был привезен из Парижа. Там над ним сказал прекрасную речь Ренан. Он отметил, что большинство человечества немо для выражений своей сущности. Тургенев был одним из исключений…
Оживленная, громадная толпа сопровождала драгоценные останки от Варшавского вокзала до Волкова кладбища. Тут были женщины, артисты, молодежь – и вся наличная литература, без единого исключения.
В кладбищенском соборе светило солнце. Лакированный сундук, заключавший в себе Тургенева, возвышался над пирамидою зелени. Элегантная дочь Виардо, с мужем, в трауре, заменяла семью. Да семьи тут и не требовалось! Тургенев был родной для всех. Какая-то влюбленность в умершего светилась в каждом лице. Стоявший рядом со мною профессор А. Д. Градовский с сияющей улыбкою обратился ко мне: «Да какая же это смерть?! Это лучше жизни!.. Я бы сейчас лег в гроб вместо него»…
Помню, когда выносили высоко поднятый гроб из дверей собора, мои глаза жадно и нежно следили за этим ящиком: «Лиза, Рудин, Базаров, Ася!»… Бог создает людей умирающих, а художник – бессмертных… Эти похороны были светлым праздником поэзии.
Но прошло двадцать пять лет. И вот что вышло.
Кое-как, усилием газет, напомнили о годовщине. Привлекли к чествованию «городское управление». Заказана была обедня с архиереем (которого на похоронах не было).
22 августа был пасмурный день с пронизывающим холодом. В половине одиннадцатого я поехал на Волково. Ни одного знакомого, никаких экипажей, направляющихся к церкви, я не встретил. Войдя в собор, я нашел его заполненным самою заурядною серою публикой. Я даже подумал, что попал не в ту церковь. Посредине, где прежде возвышался гроб, зияло пустое место. Там был обычный помост для архиерея, покрытый старым, запыленным красным ковром. У одного из углов этого пустого квадрата я увидал доброго Стасюлевича (уже перешагнувшего за 80 лет), украшенного белоснежною бородою, и усталую желтолицую Савину в трауре. Когда-то, на похоронах Тургенева, она была почти девочка. Только эти две фигуры убедили меня, что именно здесь происходят поминки писателя. Впоследствии, усиленно разглядывая толпу, я нашел еще пять-шесть литераторов – не более.
Я застал «херувимскую». Хор Архангельского бесконечно затягивал службу. Духовенство, в белых ризах, давно уже приготовилось к «перенесению даров», а певчие все еще ныли и затихали. Наконец умолкли. Началось шествие. Протодьякон и священники имели вид запуганных волосатых мужиков, рабски возглашавших государя императора, супругу его, императрицу-мать, наследника цесаревича и весь царствующий дом. Архиерей повторил эти возглашения. Затем он помянул Святейший Правительствующий Синод и петербургского митрополита, при чем все сослужители пробормотали архиерею возглашение его собственной особы. Архиерей продолжал: «Правительствующий Синклит, военачальников, градоначальников и все христолюбивое воинство… да помянет Господь Бог во Царствии Своем». Этим все уже было исчерпано. В заключение, как бы в хвосте всего предыдущего, точно вспомнив о чем-то почти ненужном, архиерей добавил: «И вас всех православных христиан да помянет Господь Бог во Царствии Своем».
Никогда ранее я не чувствовал с такою наглядностью самого жалкого и дикого союза нашей церкви с начальством. Прежде всего власть, а потом люди! Раньше градоначальник, а уже после – человечество! Мне вдруг стало так гадко, что я сейчас же вышел из собора.
Могила Тургенева у самой церкви. На воздухе, среди немногочисленной публики, я встретил еще несколько писателей. Почти вслед за мною вышли из церкви Стасюлевич и Савина и направились к памятнику. Убранство могилы ничем не выделялось. Надгробная плита сильно потемнела от времени. На бронзовую голову Тургенева был нахлобучен широкий венок из мелких лавровых листьев, похожий на шапку из зеленых мерлушек. Некрасиво…
Я уехал, и, судя по газетным отчетам, ничего не потерял.
Было ясно, что прекрасный образ Тургенева заслонен «суетою дня».
XLIII
Юбилей Толстого, 28 сентября 1908 г.
Долговечный, упорный Толстой теперь владеет всемирной славой. Но, говоря словами Толстого, «все это образуется». Ведь 75-летие Толстого прошло совершенно незамеченным. Но в последующее пятилетие произошли события, казавшиеся невозможными. Россия была побеждена Японией. По всей нашей стране разлилась революция, которая теперь уже подавлена. Рикошетом эта революция страшно вознесла Толстого. Распространители его идей и брошюр отсиживали в тюрьмах. Он сам стал проситься в тюрьму. Отлучение его от церкви, после объявленной «свободы совести», сделалось смешным. Изуверы «православия», пользуясь торжеством реакции, проклинали его. Все это сделало из Толстого фетиша революционных партий. Затеялась энергичная агитация для всесветного чествования. Чем труднее было устройство юбилея, тем более горячились и напрягали усилия приверженцы свободы. А тут еще, чуть не накануне юбилея, Толстой написал «Не могу молчать!» против виселиц. Как раньше он просился в тюрьму, так теперь он предлагал правительству затянуть петлею его «старую шею».
Тысячи телеграмм, адресов и проч., проч. Всемирный апофеоз.
Повторяю, все это со временем «образуется».
Все произведения Толстого – колоссальная автобиография. Насколько он силен, как художник, я уже сказал в моих очерках. Если же говорить о его морали, то искание «морали» было в нем крепко-накрепко заложено в самый день рождения. В этом искании – вся сила и трагедия его выдающейся жизни. По-видимому, в разные возрасты и мораль у него была иная. В юности фат, развратник, расточитель. Затем убийца в качестве офицера и охотника. В зрелые годы счастливый семьянин, эгоист, думающий только о себе и своих, совершенствующий свое хозяйство, наслаждающийся литературной работой. А к 60-ти годам кризис, мысль о самоубийстве. И наконец, «своя» религия. Все эти факты я беру из подлинной исповеди писателя.
Только благодаря долголетию, Толстой нашел какой-то выход из преследовавших его ужасов жизни. Он пришел к бесконечному добродушию, к вегетарианству, непротивлению злу и т. д. Но дети, юноши, люди цветущего возраста, т. е. вся закваска человечества, вправе сказать ему: «Да, если доживем до 60-ти, мы будем, как вы».
Убежденное и воинствующее самомнение Толстого покорило ему простодушные массы людей. Если Толстого и можно назвать гением, то лишь как гениального выразителя общелюдской наивности. Впрочем, он еще удивителен, как художник-самородок. Но если Толстой возомнил себя обладателем «истины», то эта истина – его личная, и только. Он желает подогнуть под нее всех, – конечно, из самых лучших и чистых побуждений, – и однако же, никакого «откровения» он не дал. Он считает всех ниже себя, опять-таки с величайшею искренностью. И ошибается. Чтобы сразу пояснить мою мысль, сошлюсь хотя бы на его отзыв об одном из «младшей братии» – о Чехове. По мнению Толстого, «Чехов недостаточно глубок». Почему же? Неужели потому, что Чехов не ковырялся в себе самом, не резонировал? Нет. Это неверно. В Чехове есть тайна. А это и есть глубина.
Преобладающее чувство, вынесенное мною из произведений Толстого – увеличенное отвращение к самому себе. Казалось, я его имел уже достаточно от природы. А он его описал до мелочей и усилил.
Но где же спасение? Все-таки не в Толстом, не в его разрешении всех недоумений жизни. Вопрошающий необъятный гений Пушкина куда выше!..
XLIV
О чем бы ни писал человек, он всегда пишет о себе.
XLV
Все факты жизни, сами по себе, удивительны, но все людские суждения о них большей частью бессильны, ограничены или даже просто глупы.
XLVI
Синтез – общее, анализ – частное. Один из моих критиков (Сементковский в «Ниве») сказал, что у меня «нет синтетического ума». Сначала я обиделся. Мне показалось, что я урод или калека. Но, вдумавшись, обрадовался, потому что это верно передает мое отношение к миру. Все общее всегда меня коробило. Возьмите «закон природы». Скажем, у вас есть жена или близкая женщина. Вам дорого в ней все то, что в ней свое, и, конечно, ее милый голос. Но вот она рожает от вас ребенка. Начались потуги, и она надсаживается. В этом звуке окончательно исчезает любимое существо: рычит безличная и единая для всех Природа! Точно так же и храп (le râle) умирающего. Здесь опять клокочет нечто, чуждое этому человеку, но общее всем. И разве вас не терзает обида рабства перед слепой и плоской силой, истребляющей все драгоценно-личное?!
XLVII
И жизнь есть Бог, и смерть есть Бог. Недаром в молитве говорится: «Ты бо еси живот и покой»…
Удивительны последние слова Шопена (если не выдуманы):
«Приближается агония… Бог оказывает особую милость человеку, открывая ему, что наступила минута смерти. Я удостоен этой милости. Не мешайте мне».
XLVIII
Современники так устроены, что великих людей они считают обыкновенными, а пошлых – великими.
XLIX
Очень трудно найти умного читателя. Все умные читатели сами по горло заняты писанием.
L
Вы уже встречали эту женщину, дважды мелькнувшую в моих записках. С нею посетил я кладбище Новодевичьего монастыря в Москве. Перед нею заливался я слезами в лечебнице душевнобольных. Быть может, лучшее, что я мог бы сделать, была бы «Книга о любви», где бы я изобразил эту женщину, Маделену Юнг. Любовь такая же тайна, как смерть. Но «любовь» знают все. О ней труднее писать. Ничем мужчина не живет так ярко, так одуряюще полно, как любовью к женщине. С основания мира еще не изговорились языки, не исписались перья на эту тему. И так будет продолжаться. И никто не изречется до полноты.
Эта женщина была воплощением моей души. Если бы величайший художник задумал изобразить мою Музу, он бы вдохновенно нашел именно этот женский образ, и никакой другой. Печаль, гармония, тонкая чуткость и безупречная, до радости, красота… Сохранившаяся фотография дает лишь намек на прелесть Маделены. Негатив не передал ее нежного румянца. На портрете нет ее улыбки с глубокими ямками по углам губ, с пленительным сиянием счастья в глазах. Запечатлелись только бессмертно-прекрасные линии ее рук.
Гейне, великолепный иллюстратор любви, желал окунуть Кедр Ливанский в кратер Этны, чтобы затем огненной лавой начертать на небе имя своей возлюбленной. Да! Наиболее любимая женщина, как огненная надпись на голубой бездне, наполняет собою всю поднебесную. Следовало бы говорить ей не «моя милая», а «моя вселенная»…
Пятнадцать лет подряд Маделена заполняла мою жизнь. Первое впечатление было такое потрясающее, что оно сделало полный переворот в моей душе. Убедившись, что она дарит мне свою полную любовь, я еще долго не верил сказочному счастью, засиявшему на моем пути среди недоумений, трудов, болезненной вялости, покорной тоски и непрестанной, мучительной неудовлетворенности… Казалось бы, я уже многого достиг. Пристроился в жизни. Имел хорошую семью, свой угол, свой очаг и даже заманчивый внешний успех. Но внутри что-то грызло меня. Я уже перешел за сорок, а позади не было ни одной минуты, которую бы я не вспомнил без горечи. Я еще не ведал того, без чего не стоит родиться на свет – того самозабвения хотя бы на миг, когда радуешься весь и наполняешься безграничною благодарностью судьбе… За что? За то, что, кажется, будто дошел до главного, до своей цели, до какого-то смысла, объединяющего в нечто целое, – согревающее и единое, – весь холод, всю несуразную трескотню жизни. Да что же об этом писать!
А вот все-таки тянет… Хотелось бы, шаг за шагом, подробно и ясно, от начала до конца, с упорством и памятью Л. Толстого, восстановить эту громадную, яркую, важнейшую полосу жизни.
Нельзя! И время ушло, и предмет слишком близкий… Быть может, мне удались те страницы, где я переживал далекое прошлое или, как созерцатель, заносил мимо плывущие картины. Но тут, весь, с головы до ног, я жил длительным настоящим, не предвидя ни конца, ни развязки! «Жизнь на самом деле» – тут уж не до писаний!
Все же попробую дать хоть намеки на образ этой обаятельной, исключительной женщины.
Первая встреча… Обладание – и мгновенное чувство необъяснимой, как бы роковой близости. Я боялся сказать себе, что это было взаимно… Весь следующий день ее глаза горели в моем мозгу, ее сердце билось под моею грудью. Я никуда не мог отойти мыслью от нее… Она была мне чужая, в чужом городе, в Москве. Я пробовал говорить себе, что это «приятная случайность», что о происшедшем можно позабыть или, пожалуй, повторить то же самое когда вздумается, в виде развлечения… Вечером, как ни в чем не бывало, я сел в петербургский поезд. И бредил ею всю дорогу!
Через неделю я не мог выдержать и под вымышленным предлогом опять уехал в Москву.
Холодный день 1 мая. С неопределенным чувством я ждал вечера. Вошел в те же комнаты раньше назначенного времени. И, Боже, как застучало мое сердце, когда я услыхал в передней тихие, милые звуки ее голоса. Она говорила полушепотом, но я издали различил сдержанную радость ее разговора… Дверь отворилась, и нет других слов, как слова Тургенева, чтобы выразить эту минуту: «счастье всей моей жизни» шло ко мне вместе с нею!.. Я так обезумел, что, наскоро обняв ее, бросился целовать ее кожаные ботинки. Она нежно смеялась и казалась тоже счастливою. Я говорил ей, что все время воскрешал в памяти ее черты, и все-таки не мог ясно ее видеть. Я тут же зажмурил глаза, чтобы впоследствии легче было вызывать ее образ. И когда их раскрыл, ее живая красота превышала все, что мне мерещилось в потемках…
LI
28 октября – 7 ноября 1910 г.
Толстой бежал из Ясной Поляны. Толстой исчез. Толстой найден. Толстой заболел. Толстой умер.
Необычайная кончина Толстого потрясла весь мир. Она сразу подняла его на недосягаемую высоту, вызвав единодушное изумление всего человечества. Эти две недели, от бегства Толстого до его последнего вздоха, вдруг озарили с неожиданною ясностью значение его гигантской фигуры. Разномыслие между ценителями в нем художника и проповедника почти повсюду сгладилось. Пред нами остался один цельный, искренний от начала до конца, изумленный человек.
Я «не смываю строк», набросанных мною в 1908 году. Пусть они останутся, как мое искреннее впечатление от момента юбилея. Впрочем, я отнесся тогда к Толстому несравненно осторожнее, чем, например, Мережковский, беспощадно громивший Толстого в своей «критике» за славолюбие, за раздвоение между его проповедью и жизнью.
Бегство или, как называют итальянцы, «фуга» Толстого, до сегодня еще не расследована. Едва лишь намечен какой-то смутный раскол в семье.
Но порыв Толстого бесспорен. При его несомненном добродушии и при сознании им той нестерпимой боли, какую он причинял боготворившей его жене, – его отречение от всей мирской тщеты следует признать «героическим», т. е. превосходящим обыденные человеческие силы. Такую решимость могла ему дать только неотразимая вера в истину его проповеди. И этот подвиг возвел его на высоту основателя новой религии, – быть может, религии будущего.
Жизнь властно потребовала от него новой Голгофы – и он пошел на нее, как новый Христос. Боюсь, что это сравнение несколько крикливо, но оно здесь невольно напрашивается. Впрочем, думаю, что Льву Толстому его подвиг дался сравнительно легко и совершился без «моления о чаше», по неотразимому велению того Бога, к которому он с такою любовью прислушивался в себе во все периоды своей долгой и переменчивой жизни.
Он чисто по-детски не думал ни о деньгах, ни об удобствах, оставляя свой дом для какого-то неведомого уголка на земле. Но один из микробов, миллиардами кишащих в природе, тех микробов, над которыми работает Мечников (вероятно, «стрептокок»), – влетел в Толстого, расплодился в его крови, и Толстой умер.
Так объясняют нам его смерть ученые. Но Толстой отрицал все науки и никакой опасности не боялся. Его последние слова были: «Ну, вот и конец. И ничего». Что значит это «ничего»? Значит ли оно: «От меня больше ничего не остается: я обращаюсь в ничего»? Или же это было то истинно русское, осмеянное Бисмарком «ничего», которое означает: «Не велика беда и смерть. Перенести можно!»
Так или иначе, Толстой умер с твердостью. И даже после тех прощальных слов он успел сказать окружающим, что следует заботиться не только о нем, но и о миллионах людей, страдающих на земле.
Дальше он потерял сознание.
А тут-то и заключается секрет…
Вся религия Толстого выражается в четырех словах: «Царство Божие внутри нас». Нет Бога вне людей, он существует в каждом из нас. Это – величайший социализм! Я не философ и в особенности плохой теоретик, но я чувствую, что зерно толстовской религии очень живуче… Оно может в будущем искоренить не только казни, но и войны, да и вообще насилие, потому что ведь в каждом человеке Бог, а как же после этого – не то что убивать, но даже мучить Бога?!..
Теперь, когда миссия Толстого закончена, приходится снять с него все до единого упреки и подозрения. Здесь я лишний раз убеждаюсь, что судить людей вообще, а живых в особенности, невозможно. Оказывается, что переписка со всеми частями света, приемы, беседы и наставления в Ясной Поляне обусловливались не славолюбием Толстого, а неотразимою потребностью распространять свою веру для блага всего человечества. Отрицание почти всех писателей и художников слова было вызвано у Толстого не самомнением, а искренним убеждением, что вся беллетристика вообще ни к чему не ведет. И что же? Изумительная настойчивость Толстого принесла громадные практические результаты. Его добрая, искренняя душа сделалась близкою всем людям. Общелюдская наивность повсюду откликнулась на зов «своего гения». Уже и теперь сделаны великие победы этим, еще невиданным завоевателем. Взять хотя бы нашу церковь! Ведь она, со смертью Толстого, оказалась решительно «на мели». Народ от нее отхлынул. Произошел даже раскол между церковью и государством. Синод запретил молитвы о Толстом, а государь молился за его душу. Тут же, кстати, получили признание и первые в России «гражданские похороны», отныне утвержденные самою жизнью.
А сколько еще впереди, в «долготе веков», будет звучать загробный голос Толстого? Кажется, до незримой бесконечности будет цитироваться этот вероучитель общежития в судах, в конгрессах мира, будет волновать военных, будет мутить и преображать правителей и т. д., и т. д. Словом, конца-краю не видать живучести среди людей громадной тени этого феноменального человека. Не человек, а «Явление» (выражение, слышанное мною в литературных кружках) – «Глыба!» (тоже кто-то сказал).
Да, скажу я, Глыба, или гигантская Гора, чистая снежная вершина, на которой, однако, жить все-таки невозможно…
Вот почему меня никогда не тянуло повидать Толстого. Та истина, которую он думал утвердить своею верою, была слишком чужда моей природе. Спорить с этим силачом было бы бесполезно. Заимствовать же от него я ничего не мог.
Рассудочность толстовского учения уничтожила для меня его смысл. Толстой верил, главным образом, в Совесть и Разум. Но – Сердце! Его сердце ведало только доброту.
Но страсть, но самозабвение – привязанности более ценные, чем сама жизнь, бесплотные мечты, неизреченные тайны Красоты, сулящие тот обман, который дороже тысячи истин!.. Да и что такое Истина? Кто ее нашел? И не опустел ли бы сразу весь земной шар, если бы она была найдена?
Тайна жизни – вот что мнил раскрыть и превозмочь Толстой. Но титанические усилия его необычайного Духа ни на единую черточку не сдвинули с места этого вековечного Запрета…
LII
Сентябрь, 1911 г.
Убили Столыпина. Трагедия сильного, талантливого человека. Удивительна эта карьера, всего за какие-нибудь шесть лет, от Саратовского губернатора почти до Российского императора.
К открытию первой Думы Столыпин был взят из губернаторов на роль министра внутренних дел. Сквозь крики: «Вон! Вон!» Столыпин предварял первую Думу напряженным голосом: «Я обладаю всею полнотою власти!».
Он чувствовал в себе эту власть… Вторую Думу он уже в качестве премьера встретил предварением: «Не запугаете», а в третьей – у него явились «волевые импульсы» и «нажим на закон». Этими четырьмя фразами обрисовывается вся политическая деятельность Столыпина. Сперва усмирение, с наилучшими либеральными надеждами, а затем опьянение своею властью и самоуверенный произвол.
Политическое значение Столыпина меня мало интересует. Этот вопрос можно разбирать на всякие лады. С одной стороны – успокоитель, патриот, а с другой – вешатель, властолюбец. Не в этом дело. Важнее всего индивидуальность, личность. Человек, во всяком случае, решительный, эффектный и неизбежно трагический от начала до конца. Вначале взрыв на Аптекарском острове, когда погибло столько людей, когда были искалечены дети Столыпина, и в конце: небывалое по своей сценичности поражение пулею на парадном спектакле в Киеве.
Между этими двумя катастрофами Столыпин развернулся и вырос, как я уже сказал, почти до монарха. Из провинции он вышел и в провинцию вернулся после красивой жизни в царских дворцах Петербурга и красивых речей в обеих Палатах.
Человек трагический потому, что в его глубине таилось раздвоение, т. е. такое свойство, которое, по справедливому правилу всех учебников, составляет главную основу трагедии. Политика Столыпина была национально-дворянско-земельно-монархическая. А выступил он в разгаре пролетарского, социального бунта. Предстояло неизбежное столкновение прогресса и реакции европейской образованности министра с теми кровными, «исконными началами», которые были заложены в его натуре. И его перетянуло в сторону отживающего абсолютизма.
Столыпину приписывают «успокоение». Но чем же оно было достигнуто! Среди прочих афоризмов, Столыпин сказал: «Бунт подавляется силою». Но ведь подобное успокоение удалось и Виленскому-Муравьеву, прозванному «вешателем». И действительно, хотя при Столыпине было казнено революционеров несравненно больше, чем при Муравьеве и даже при Грозном, Столыпин как-то совсем этого не чувствовал. Будучи неустрашимым, он не придавал ни своей, ни чужой жизни особой цены.
Он был увлечен своей «честной» идеей, каким-то благородным культом сильной власти, приносящей несравненные дары «отечеству», сбитому с пути бредом смуты. Всех побеждала личная искренность премьера. После опыта двух первых Дум, Столыпин не поколебался сделать громадный переворот и прорвал зияющую дыру в партии 17 октября: вне закона всеобщая подача голосов была отменена. Создалась заведомо консервативная третья Дума. Вот тут-то, при открытии третьей Думы, Родичев и сказал свою лучшую, разительно сильную речь, поставив премьеру на вид количество виселиц. Народная память заклеймила виселицы Муравьева неизгладимым определением «Муравьевский воротник». И Родичев невольно бросил в аудиторию «Столыпинский галстук»… Поднялся неистовый шум. Столыпин смертельно побледнел. Чуть не произошла дуэль. Родичев как-то загладил свои слова. Но, вероятно, Столыпину хоть на минутку почудилось, что, пожалуй, потомство припишет ему все виселицы, о которых он, в сущности, вовсе не думал. «Карательные экспедиции» и казни были заведены ранее его восхождения на высший пост и продолжали действовать сами собою.
История создала перед Столыпиным обманчивую обстановку. Он думал, что его сильный характер принесет благо «родине» и что именно его работа способна обуздать революцию. А между тем, все «великие потрясения» разбились вовсе не перед его каменною волею. «Потрясения» эти отхлынули не благодаря Столыпину, а исключительно потому, что физическая сила, решающая судьбу всякого бунта, т. е. армия, осталась на стороне монарха. Ведь за исключением психопата Шмидта и мальчика Никитенко во флоте, все войско, в громадной массе, не поддалось революции.
Однако по наружному виду революция все еще казалась грозною во время первых двух Дум. И личность бесстрашного премьера, державшегося какой-то своей линии среди еще не заглохшего террора, понемногу крепла в глазах обывателя. Но вот, когда вторая Дума, не запугавшись слов премьера, продолжала пугать общество своею революционною непримиримостью, – Столыпин ее распустил. И совершилось то единственное, что, быть может, было практически удачным со стороны Столыпина: явился незаконный закон 3-го июня об отмене всеобщего избирательного права.
Уже тогда Столыпин сознавал некоторую преступность этого акта и (как пишет теперь, после убийства, его брат Александр) оставил на имя своего сына пакет для потомства, в разъяснение сделанного им шага. Прогрессист Столыпин, вероятно, оправдывался перед своим сыном побуждениями «патриота». И – странное дело – в этой третьей Думе, перед которою Столыпин ораторствовал как наставник, сверху вниз, – у него оказался неприметный противник, сделавший истинно прогрессивное завоевание. То был Алексеенко, взявший в свои руки народные деньги. Если бы не закон 3-го июня, Алексеенко не прошел бы в Думу. Но когда он в нее попал, то благодаря ему, народное представительство уцепилось за «кошелек» власти. И этим был положен предел фантазиям Столыпина, постепенно клонившимся в сторону абсолютизма.
Одна могущественная сила – армия – помимо Столыпина, осталась на стороне бюрократии. Зато другая, едва ли не равная ей – капитал – благодаря Алексеенке, – невозвратно перешла во власть народа. Чиновники почувствовали в Алексеенке мудрого и сильного защитника народных средств, превосходно знающего всю технику бюрократических изворотов, прикрывающих произвол и мотовство.
Государь узнал о трудах Алексеенки только за границей, где его неожиданно поздравили с небывалым улучшением финансов. И у царя осталось убеждение, что народное представительство доказало свои несомненные заслуги.
Что революция отхлынула сама собою, без всяких заслуг со стороны премьера, лучше всего доказывается обнаруженным после его смерти устройством охраны. Оказалось, что охрана не только была бессильна водворить порядок, но, напротив, благоприятствовала продолжению террора. Однако же, террористические акты постепенно затихли. Значит, не хватило борцов. Значит, по условиям жизни, они выродились. Столыпин был тут ни при чем.
Между тем, личное бесстрашие Столыпина гипнотизировало и бюрократию, и публику. Царь и царица начали в него верить. Им поневоле приходилось видеть в нем талисман, оберегающий от всяких катастроф. С другой стороны, и Столыпин, видя перед собою государя более смелого, окрепшего в глазах страны, вообразил, что успокоение народа совершается именно потому, что в нем возрождается культ прежнего монарха. И, неприметно для себя, Столыпин стал переделывать конституционного императора в отмененного историею Самодержца. Союз русского народа, Марков 2-й и Пуришкевич, Илиодор, открытие разных мощей – все это им поощрялось.
Символ неограниченного монарха делался все более и более близким его сердцу. Он неудержимо возвращается к старине. Дворянское «служилое сословие», с которым он был кровно связан «столбовыми» предками, воодушевляло его. Ясная формула Набокова «исполнительная власть да подчинится власти законодательной» сделалась для Столыпина абсурдом. Он усвоил обратный девиз: «законодательная власть да подчинится власти исполнительной». В конфликте с законодательными учреждениями, из-за своей упрямой идеи о земстве в Западном крае, Столыпин скрутил обе Палаты в бараний рог. Правда, он подавал в отставку, но твердо знал, что без него царь не обойдется и подпишет что угодно. И не ошибся. Его противники в Государственном совете подверглись опале. 87-я статья Основных законов была изуродована. Словом, вся конституция полетела к черту! Дальше идти было некуда…
Но умирал Столыпин как человек с громадною силою воли. Заботился не только о всех близких ему людях, но и еще более – о государственных вопросах, столь узко, но эффектно им намеченных. Театральность не покидала его и в эти страшные часы. Он успел выразить желание, чтобы его похоронили в Киево-Печерской лавре рядом с Искрою и Кочубеем… Это великолепно! И, пожалуй, в смысле исторической памяти, это самое прочное, что он сделал.
РЕЛИГИЯ
Последнее заседание Шекспировского кружка собралось у Вейнберга на реферат Мережковского о божественности Христа и бессмертии души. Мережковский говорил с подкупающею искренностью, не допускающею возражений. Его беседа, выслушанная среди общего молчания, в некоторых местах вызывала лишь невольные стоны со стороны Боборыкина, который, однако, в прениях после беседы не участвовал. Спасович кратко возразил: «Для меня вопрос о загробной жизни серое пятно, Я ничего не знаю…» Леонид Полонский заметил: «По-видимому, задача Природы состоит в том, чтобы делать и разделывать…» Больше никто не говорил. Мережковский остался милым одиноким ребенком среди собравшихся судей.
Много лет после этого собрания Д. В. Философов, читавший почти всю мою книгу, говорил мне: «Интересно было бы видеть, как это вы, так искренно признававший Христа истинным Богом в детстве, впоследствии потеряли эту веру!»
А вот как.
Я верил всему, что мне говорили. В поэме «На утре дней» рассказана моя детская вера. В деревенской церкви (в Веселой Горе), на литургии «преждеосвященных даров», я падал ниц, зажмурив глаза, и пока над моей головой раздавались звонки, возвещавшие, что «дары» переносятся, я был убежден, что в храм нисходит легким призраком сам Христос, и я был счастлив от его достоверной близости ко всем нам, здесь, на земле, в эти захватывающие душу мгновения… Моя вера сохранилась до отроческих лет и была еще нетронутою во время смерти сестры Маши. Все, что мне передавали старшие, казалось ясным. Человек отличается от животных тем, что его душа бессмертна. Христос избавил людей от «первородного греха», и каждый, живущий согласно с заповедями Божиими (Отца и Сына), получит райское блаженство.
Но дальше я узнал науки: астрономия, геология, химия, анатомия… Библейские семь тысяч лет с сотворения мира исчезли. Земля оказалась ничтожною планетою, а не центром Вселенной… Вместо «души» получился «мозг»… Да и почему же на одну только Землю сошел Христос? Или Он нисходил и на все прочие планеты? А какие существа живут в тех мирах и т. д.? Выходила путаница… Мои сверстники по гимназии и, в особенности, по университету, поголовно были чужды религии. Детская вера затуманилась – и отошла от меня…
Но христианство живуче. Быть может, оно останется на очень долго, если не навсегда – единственною практически возможною религиею в нашем мире. Бог сжалился над человеком, воплотился, пришел на землю и дал вечное утешение людям. Евангелие есть неподражаемая поэма скорби и света. Пусть это будет легенда, но лучшие народы земли уже почти две тысячи лет живут и умирают под обаянием святой сказки. Чего стоит один «Отче наш» – эта исчерпывающая молитва! А заповеди блаженства? А Евангелие от Иоанна, читаемое на погребениях?









































