Читать книгу "Книга о смерти. Том II"
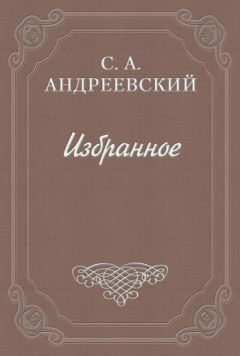
Автор книги: Сергей Андреевский
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
III
16 мая 1903 года, двухсотлетие Петербурга. Погода великолепная: день яркий, теплый, веселый. Церемонии этого дня известны из газет. Я выехал прокатиться на острова только в семь часов вечера. Отправился со Знаменской на Невский. Проехал весь Невский. А затем мимо памятника Петра, по Дворцовой набережной, сделал обычную прогулку на Стрелку, через открытый в этот день Троицкий мост и новую аллею, прорубленную в Александровском парке.
Большое оживление уличной толпы. Пестрота национальных флагов. Декорации с апофеозами Петра. В подходящих местах выставлены три гипсовых бюста: наверху крупный Петр, под ним мелкая парочка – Николай и его супруга Александра. Вокруг фальконетовского памятника полукружие из аляповатых щитов с инициалами Петра. Сбоку изящная «Царская палатка» с золотым орлом наверху, задрапированная нежно-белыми и бледно-зелеными тканями. Здесь находилась императорская чета во время молебствия. Возле памятника наибольшее скопление публики. Продавцы юбилейных сувениров, в виде бутоньерок, жетонов и раскрашенных бумажных флажков, осаждают экипажи. Дворцовая набережная, вплоть до новорожденного Троицкого моста, запружена пешеходами и катающимися. Все балконы переполнены. На противоположном берегу рисуется спокойный силуэт холодного Петропавловского собора за крепостным валом. Чуется бесстрастное величие истории…
На Троицком мосту, в этот первый день его существования, стояла неимоверная пыль от мелкого гравия, которым он был посыпан перед церемонией и который был поднят в воздух сотнею тысяч колес.
Вся печать совершенно заново восславила Петра. Городской голова с коленопреклонением возложил на гробницу медаль «незабвенному основателю столицы». Это уже вторая медаль. Петр получает их по одной в каждое столетие. Едва ли это не единственный на свете мертвец, столь успешно и правильно, с такими грандиозными промежутками времени, продолжающий свою карьеру за гробом. Ибо только на его плите, среди всего царского кладбища, как на живой груди, имеются эти периодические знаки отличия, от потомства.
В детстве я был глубоко религиозен. Поэтому мне нравились московские цари, носившие святительские одежды. Дойдя до Петра, до перенесения России в Петербург, с петровскими кораблями, ботфортами, короткими сюртуками, плотничеством, верфями, крепостями и т. п., я испытал как бы прикосновение чего-то грубого, будничного, практичного после величавых грез. Но по мере того, как я знакомился с политическими науками, я убеждался, что государственная жизнь России во всех ее областях начинается с Петра. Разносторонность Петра, его трудовая производительность, его разительная и неутомимая подвижность, громадные результаты его жизни совсем покорили меня. И я не могу смотреть на него иначе, как на чудо природы. Впрочем, весь мир насчет Петра единогласен. История не может назвать исполина, равного ему. Александр Македонский, Цезарь, Наполеон – только завоеватели. Да и то, в конце концов, несчастные. А Петр – завоеватель чрезвычайно успешный, но это у него «между прочим». Помимо этого, он создал мореплавание, горное дело, медицину, театр, коммерцию, ремесла, юстицию, лесоводство и т. д. и т. д. – чуть ли не все, чего требует жизнь. Вездесущ, неутомим, неумоляем, – и потому люди причислили его к богам. Фигура – что и говорить – незабвенная, вечная.
А все-таки: юбилеи, пожалуй, благородны и, быть может, полезны, но как они жалки. Чувствуется нечто неимоверно тупое и безнадежное, вроде оживленных бесед… с могильною плитою.
Помню, во Франкфурте я был на 150-летии рождения Гёте. Церемония происходила в августе, в тихий, солнечный день. Декораторы выдумали устроить над чугунной статуей Гёте высокую клетку из золоченых прутьев, совершенно такого же фасона, как клетки для попугаев. Прутья были перевиты зеленью и цветами, но, конечно, спереди монумент обрисовывался вполне сквозь широкое отверстие. Площадь была запружена публикой и депутациями, со знаменами и значками. По очереди какие-то румяные и коренастые ораторы в лоснящихся цилиндрах пошло и звучно отчитывали заученные приветствия, напрягая голос и жестикулируя перед статуей, как перед беззащитным, но глубокоуважаемым начальством. После каждой речи трубачи играли туш.
Мне было жутко за Гёте…
IV
В «Ниве» напечатано частное письмо Льва Толстого о нашей судьбе за гробом. Толстой открыл секрет. Оказывается, что наша земная жизнь, по сравнению с загробною, то же самое, что сон по сравнению с действительностью. Ведь во сне мы принимаем свои видения за жизнь, но это лишь грезы, а самая жизнь наступает только после пробуждения. Так будет с нами и в минуту смерти. И далее идут рассуждения: смерть в молодые годы – это пробуждение после краткого сна; смерть при самоубийстве – пробуждение после кошмара; смерть в старости – пробуждение человека, хорошо выспавшегося. И Толстой уверяет, что это не придумано им, а что это настоящая правда. Напрасное уверение! Слишком ясно, что это именно придумано: потому-то он и спешит оправдаться, что это не придумано.
А смерть новорожденных? А смерть грудных младенцев?..
Да и вообще: какое самомнение, какая дерзость оповещать людей о тайне, навеки недоступной!
Как это Лев Толстой не сообразит, что раскрытие Богом подобной тайны хотя бы самому Льву Николаевичу, было бы равносильно уничтожению и отмене всякой земной жизни. Если вывод Л. Толстого верен, если бы этот вывод был доказан, то кто бы остался жить? Кто бы не предпочел сулимую Толстым подлинную, настоящую жизнь той смене мучительных и бессмысленных призраков, среди которых мы мечемся?! Все должны были бы прибегнуть к самоубийству, и Л. Толстой раньше других, ибо ведь он-то достоверно знает, что будет дальше. Положим, по его словам, самоубийство дает пробуждение какое-то внезапное, беспокойное, как после кошмара. Но каждый по себе знает, что именно пробуждение от кошмара даже как-то особенно приятно. Пробуждающийся невольно думает: слава Богу! я очнулся! И кто же бы дотягивал до несносной старости только ради того, чтобы «хорошо выспаться»?!..[6]6
В сущности, это письмо Л. Толстого – пересказ буддийской кармы. Позже, в 1904 г., Толстой высказался проще и лучше. «Я ничего не знаю, но знаю, что в последнюю минуту скажу: вот в руки Твои предаю дух мой. И пусть Он сделает со мною, что хочет. Сохранит, уничтожит или восстановит меня опять – это Он знает, а не я» (З. Гиппиус, «Suor Maria»).
[Закрыть]
Я часто думал: когда приближаешься к кончине, то невольно цепляешься мыслью за прекрасных и великих предшественников, и чувствуешь успокоение в том, что разделишь их участь. Помимо незабвенных близких, которых знал и любил, – говоришь себе, например: там Пушкин, Лермонтов, Шекспир и другие. Глубокие сердца! Пленительные души! Как благороден и широк их взгляд на жизнь! Они исчезли… О, конечно, – туда, за ними!! Что бы нас ни ожидало, мы отойдем в сердечном согласии с их гением. Но: Толстой, Достоевский… удивительные писатели! И однако же, их ковырянье в глубинах души и тела до того придирчиво, каверзно и утомительно, что, конечно, хотелось бы от всего этого, по крайней мере, там отдохнуть. Эти великие литераторы не дали отрады ни живому, ни умирающему. Моя матушка, читая их, всегда отзывалась: «C'est le cancer de cerveau…»[7]7
«Это рак мозга» (фр.).
[Закрыть]
И после долгих терзаний в конце концов я чувствую, что со смертью мы отходим к Богу, под Его крыло. Из-под этого крыла мы вышли на свет (кажется, ничего, все произошло благополучно) – и под него мы укроемся… Да будет!
V
Люди одинаково наслаждаются и страдают от зрительных впечатлений. Чувство красоты и ужаса в равной мере получаются нами от образов, линий и красок. И мы себя запугиваем ложною иконографиею смерти.
Принято изображать смерть в виде скелета с косою. Как это нелепо! Как это детски поверхностно!
Смерть – это секунда, когда остановилось сердце и прекратилось дыхание. Будем же справедливы и дадим смерти тот образ, какой она имеет в это подлинное мгновение ее окончательной власти. Это мгновение, т. е. разлитие покоя на страдавшем лице – как хотите – прекрасно!
Все, наступающее затем, находится уже бесконечно далеко позади смерти, а скелет обнажается лишь по окончании тления.
Ведь вот, мы считаем рождение радостью. А между тем новорожденный в минуту появления на свет всегда уродливее любого скончавшегося. И если приложить к рождению ту же несправедливость, какую мы вносим в эмблематику смерти, т. е. взять предшествующие ему моменты, как для смерти мы берем последующие, то нам придется изображать зарю жизни в виде нелепых зародышей, уродливых головастиков, настолько непропорциональных, скрюченных и отталкивающих, что самый скелет, имеющий по крайней мере законченную симметрию, пожалуй, красивее.
VI
Дюма-сын, описав последние дни своего отца и обращаясь к его тени, сказал: «La terre va vite! A bientôt!» («Земля вертится быстро. До скорого свиданья!») Именно: земля вертится быстро. В этом страшном коловращении как-то явственно исчезает разница между молодыми и старыми, между живущими и умершими…
VII
Жизнь есть право, а смерть обязанность. Сохраняю за собой право собственности на это изречение.
VIII
Только тот поможет в жизни и украсит ее своим пребыванием на земле, кто различит или услышит ближе других голос непостижимого Бога.
IX
В первых строках моей книги я назвал жизнь «непроницаемою святынею». Это необходимо сознавать каждому. Но это нисколько не исключает ни пренебрежения к ценности жизни ради высших интересов, ни самоубийства, когда сама жизнь выгоняет вас из мира. Напротив, и то и другое подтверждает, что жизнь, как нечто временное, озарена изнутри чем-то великим, находящимся вне ее призрачной важности.
X
Все люди – хорошие, жалкие. Один мой родственник говаривал: «Я смотрю на людей, как на цилиндры, обращенные ко мне своими лучшими сторонами. Остальное, что в них есть, меня не интересует»… Так именно следует смотреть на людей. Ведь все мы подсудны Богу, Року, Природе – называйте, как хотите, силу, давшую нам жизнь и над нами главенствующую. Как же нам не жалеть друг друга?! Люди неприятные, вредные – в конце концов, жалки, потому что и для них было бы гораздо лучше ладить с прочими, но если им это не удалось, значит, нечто сидящее у них внутри или давящее на них извне, помешало им в жизни.
XI
Весна – время экзаменов: для молодежи – по части наук, для стариков – по части устойчивости их организма. Здесь интересы прямо противоположны. Дети и юноши стремятся непременно перейти в следующий класс и более всего – окончить. А старик мечтает: «Только бы остаться в прежнем классе». И сохрани Бог – «окончить курс»…
XII
Самая глубокая легенда Библии – Вавилонская башня. Можно было бы достроить башню до неба, если бы не «смешение языков», – если бы не взаимное непонимание. В том-то и беда, что никто никого не понимает. («Personne ne comprend personne»[8]8
«Никто никого не понимает» (фр.).
[Закрыть], как говорил Флобер). В каждом отдельном человеке сидит все человечество. И только тогда, когда более или менее все поймут друг друга, люди станут близки к счастью.
XIII
Жизнь есть радость и долг, трагедия и надежда.
XIV
С первых сознательных дней, в самом раннем детстве, я уже взглянул на жизнь, как на нечто мучительно странное. Едва ли мне было пять лет, когда уже в иные мгновения я с внезапным ужасом осматривался на все окружающее и говорил себе: «Да что это такое?! К чему я вижу эти лица?! О чем они говорят? Зачем я должен во всем этом участвовать?! Я ничего этого никогда не знал…» И хотя бы на одну страшную секунду, но уже тогда мутилась моя мысль до отчаяния, я чувствовал, будто падаю в бездну, – но тотчас же что-то приходило мне на помощь – и я снова делал все, что мне полагается, как другие, как нужно, как велено…
Эти припадки повторялись, и я иногда умел вызывать их искусственно. Я даже тогда нашел для них сравнение и название. Сравнивал я их с тем, что когда перекосим глаза, то вдруг все предметы покажутся в комнате двойными. Так и вся жизнь. Если взглянешь на нее, как бы перекосившись, откуда-то со стороны, – вдруг все покажется нелепым. Я приспособился это делать и называл это «сбоку посмотреть»… Я и боялся этого занятия, и все-таки помимо своей воли, неожиданно для себя, иногда повторял тот же прием, убедившись на опыте, что это ужасное ощущение так же внезапно исчезает, как и приходит.
XV
Очень странно видеть, что писателей, художников, общественных деятелей и т. д., перешагнувших за пятьдесят, попрекают отсталостью, называют старомодными и вообще начинают самонадеянно сдавать в архив. Прежде всего еще вопрос: кто кого переживает? Нельзя предвидеть, что привьется, что уцелеет в будущем. А затем, расстояние в два, три, даже четыре поколения совершенно ничтожно. История убеждает, что два века почти не отличаются друг от друга. А уйдет история дальше, то побледнеет разница даже между тысячелетиями. Через двадцать тысяч лет всех нас, начиная со времен Сократа, в одной общей компании будут называть «людьми первых тысячелетий», которые употребляли в пищу зверей, вели войны и т. п. И как странен Мечников с его усердием продлить нашу жизнь до двухсот и более лет. К чему? Возможно ли будет, даже в такой срок, догадаться, для исполнения какой высшей цели все мы предназначены? Вот если бы человек мог прожить этак пятнадцать тысяч лет или вроде того – ну, тогда, пожалуй, хотя какая-нибудь диаграмма, какая-нибудь мало-мальски уловимая, хотя все еще туманная линия предначертанных нам целей могла бы мелькнуть в нашем уме. Но «в высшем суждено совете», что этого никогда не будет и что для каждого, кому «показан будет свет», кто родится в какое бы то ни было время в будущем, дарованная ему жизнь останется для него, на срок его пребывания в этом мире, тайною.
XVI
Педагогия работала очень долго и упорно над тем, чтобы обезличить людей, чтобы привить каждому нечто чуждое, известное, вместо того личного и неведомого, что непременно вносит с собою в жизнь каждое дитя. Такой порядок был необходим. Он упрочил общежитие. Совместное существование людей, в главных чертах, уже закреплено навсегда. И теперь можно было бы понемногу начинать более осторожное обращение с «личностью». Следовало бы заботиться о ее сохранении, насколько это мыслимо и терпимо, в том подлинном виде, как личность создана природою. И если впредь еще допустимо некоторое обобщение, то вот в чем оно нужно. Нужно развивать в каждом с детства чувство непостижимости всего окружающего (при кажущейся его ясности), а также сознание беспредельной вечности земных дел после нашей ничтожной и временной жизни. Раз это привьется к ребенку, он во всем остальном будет прекрасным человеком. Это не помешает ему работать и не сделает его рассеянным мечтателем. Сила жизни приспособит его, в его маленьком масштабе, на все необходимые действия. Но ни рабство перед кем бы то ни было, ни жестокость к ближним уже никогда не завладеют таким ребенком.
XVII
Следует помнить, что слава, большое или великое имя – не зависят от человека. Все это дается откуда-то свыше, вследствие непостижимых велений или прихотей истории. Не только люди, но даже камни, глухие и неведомые местечки земли, случайно получают бессмертие: мрамор, из которого высечены Венера Медицейская, Марафон, Бородино, Ватерлоо, Вартбург, Констанца. Все зависит от того, на чем, на ком сосредоточится витающая над нами непознаваемая Сила. Точно «сошествие огненных языков»!
Не так же ли нисходит это пламя на головы гениев, героев, изобретателей, благодетелей и вождей человечества?
И я всегда благоговел перед этой Силой, но никогда не перед отдельными людьми. Все, что было создано этой Властью, я считал своим, данным мне в отраду и на удивление, помимо личных заслуг, со стороны моих собратьев.
XVIII
Японцы, отправляясь на войну, прощаются с родными навеки. Считают себя обреченными смерти. Смотрят на возможность вернуться, как на несчастье, потому что это случится только в случае победы неприятеля.
Мой знакомый по этому поводу сказал:
«Да. Они не ставят жизнь ни в грош. Разумный народ. Очень!»
Вся эта фраза, в ее точном виде, меня поразила. Жизнь – святыня? Жизнь – вздор? Кто прав?
XIX
Удивительна одна общая глупость, свойственная всем людям без исключения: «эгоцентризм». Каждому представляется, что он составляет центр Вселенной. Все для него. Жизнь мира с ним началась и едва ли после него к чему-нибудь понадобится. Прошлое существовало только для того, чтобы угодить его воображению. Все герои и страдальцы истории, все великие писатели минувшего, кажется, говорят ему: «Ты один нас поймешь, мы для тебя одного существовали, ты нам ближе всех». Зато все несчастья мира кажутся нам предназначенными только для других: «катастрофы, разочарования в любви, старость и самая смерть – поверь – это удел всех прочих; все это несется мимо тебя, для твоих наблюдений, созерцаний, мыслей, для любопытного возбуждения твоих чувств. Но ничто подобное с тобою не случится».
И сколь бы последовательно и явно ни убеждала нас жизнь в противном, это нелепое убеждение живет с нами до конца.
XX
Я бы охотно отдал Богу мою жизнь – этот дар, значение которого я не понял. Я носил его, как священное бремя. Иногда это бремя обращалось в крылья и, казалось, поднимало меня к счастью, но на самой вершине радости я ударялся в нечто тупое и чувствовал: «Нет, это не то… А дальше идти некуда».
Быть может, значение каждой жизни в том, чтобы она прошла. «Что пройдет, то будет мило». Наш след оставляет в живущих и печаль, и благородную, возвышающую любовь к невозвратному. Сделаем что-нибудь для будущих жителей земли, расскажем им, что видели, что чувствовали. Они наши братья, они поймут. Их сочувствие и память – продолжение нашей души.
Пародируя французский афоризм о путешествиях, я бы сказал о жизни: on vit pour avoir vécu[9]9
«Мы живем, чтобы сказать, что мы жили» (фр.).
[Закрыть].
XXI
Для того, чтобы быть любимым, надо умереть. И, напротив, если кто был любим при жизни, того забудут.
XXII
Журналистка трубит: Жизнь! Люди!
Поэзия взывает: Бог! Я!
Журналистика испаряется, поэзия остается.
XXIII
Я встретил ее 22-го апреля 1889 года. Она меня ослепила сразу своим изяществом, грациею, благородством, молодостью. Ей было двадцать, мне шел сорок второй. К ней относится мое стихотворение: «Мне снилось, я поэт…» В течение десяти лет она была единственною радостью моей жизни, невзирая на всевозможные раздоры, тягости и мучения. Ничто не могло заглушить во мне чувства близости к ней. Она мне отдалась вся, целиком, без возврата, – верная, правдивая, гордая, одинокая, чарующая и странная… Она потребовала только моей взаимной верности, высказав незабвенную мысль: «Je comprends qu'on peut rendre son corps sans rendre son coeur, mais quand on a rendu son coeur, on ne peut plus rendre à personne sons corps»[10]10
«Я понимаю, что можно отдать тело, не отдавая души, но если отдала душу, то никому другому уже не отдашь тело» (фр.).
[Закрыть]. К исходу десяти лет постепенно обнаруживалась ее болезнь. Вспыхивала беспричинная, гневная ревность. Начались непонятные и несвойственные ей требования, угрозы, – с ее кротких милых уст гремела неистовая брань, – иногда на ее бледном, измученном и очаровательном лице вдруг появлялась нежная доброта, и она в недоумении шептала: «Je ne sait ce que c'est. Je suis malhereuse. Il ne me reste que l'hôpital ou le couvent»[11]11
«Не понимаю, что со мной. Я глубоко несчастна. Мне не остается ничего, кроме больницы или монастыря» (фр.).
[Закрыть]. Наступил бурный разрыв, в течение которого (почти полгода) она не выходила из своих комнат и пролежала в постели. Я исстрадался, не понимая, что творится. Наконец она не выдержала и первая потребовала моего возврата. А через несколько месяцев обнаружилась ее душевная болезнь…
Больница. Опять разлука, на этот раз похожая на кошмар.
И еще два года мучительных радостей. Оставаясь странною, она расцвела, сделалась мирною, трудолюбивою, – любящею безропотно, смиренно, трогательно.
И вдруг, весною 1902 года, за одну неделю, весь недуг возвратился с необычайною силою.
29-го марта 1902 года она вышла из своего уголка, покорная, в бреду, села в карету и была скрыта от моих глаз почти навсегда в другой больнице. Не было дня, чтобы я не думал о ней – и не делил мысленно ее страданий и неволи.
Меня обнадеживали… 7-го августа 1904 года, через два с половиною года, я наконец решился увидеть ее (раньше не пускали), чтобы хоть проститься. С холодеющим сердцем вступил я в коридор, где была ее комната, и прошел мимо открытой в эту комнату двери… Я не узнал ее. Меня остановили и вернули. В глубине комнаты поднялась мне навстречу слабенькая высохшая женщина с побелевшими волосами. Но это была она. И я зарыдал громко, без удержу; и плакал почти целый час, как бы над ее гробом. И она молча, крепко прижималась ко мне, стоя за моей спиною и закрывая мои глаза своею прелестною ручкою, чтобы я не вглядывался в ее искаженные черты… Сердце ее страшно стучало, но, задыхаясь от волнения, она не произносила ни слова. Когда же меня позвали, сказав, что свидание наше кончено, она разомкнула свои руки, отошла и вдруг начала произносить осипшим голосом, куда-то в сторону, какой-то непостижимый набор слов с выкриками ругательств…









































