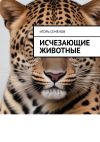Текст книги "Что мы ответим атеистам"

Автор книги: Сергей Худиев
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Этика, которую провозглашает Докинз и Сингер, называется утилитаризмом. Нравственным считается поступок, приносящий наибольшее счастье наибольшему числу людей. Этот принцип может показаться привлекательным и даже – в первом и грубом приближении – верным, но у него есть несколько роковых дефектов.
Во-первых, само понятие «суммы счастья» – это абстракция; на свете нет ни одного живого существа, которое бы эту сумму переживало. Эта сумма не более реальна, чем счастье грядущих поколений при коммунизме. Счастье (как и несчастье) могут переживать отдельные люди и семьи. Если я украл ваш бумажник и ощутил острый приступ счастья от своей ловкости и расширившихся финансовых возможностей, глупо спрашивать, перевешивает ли это мое счастье ваше огорчение от пропажи бумажника, и полагать, что, если перевешивает – и, таким образом, общая сумма счастья увеличивается, – кража полностью этична. Какое бы ликование, восторг, экстаз и неземное блаженство я ни испытывал от кражи ваших денег, я все равно не должен так поступать. Ваше огорчение никак не уравновешивается моим восторгом, и говорить о том, что в сумме у нас все-таки выходит плюс и, таким образом, произошло увеличение общей суммы счастья, довольно бессмысленно. Переживания людей не суммируются – они уникальны. Можно (с осторожностью) говорить, например, об «общей сумме доходов», хотя с определенными оговорками, – если вы получаете 15 тысяч, а я – миллион, то это делает нашу общую сумму совсем неплохой, но вы-то лично от этого не перестаете быть бедняком. Но подсчеты такого рода применительно к «счастью» и вовсе бессмысленны.
Во-вторых, сам этот принцип приводит к явным злодеяниям, если считается, что их результатом будет умножение счастья. Можно ли убить невинного человека, если его несчастье будет уравновешено счастьем других людей? Можно ли пытать невинных или предавать доверившихся, если мы имеем основания полагать, что в будущем это приведет к умножению человеческого счастья? Революционеры всегда считают, что да, конечно, прямо сейчас будет кровь и разруха, зато потом – счастье грядущих поколений. Но, как мы уже знаем, революционеры всегда страшно заблуждаются – кровь и разруху они могут обеспечить, а вот с грядущим счастьем происходит какая-то ошибка в расчетах. Есть люди, которые полагают, что жизнь вообще несет гораздо больше боли, чем удовольствия, и поэтому родиться на свет – большое несчастье. Нам такой вывод из утилитаризма может показаться комически абсурдным, но есть люди, которые всерьез его придерживаются.
В-третьих, как мы определяем, что есть подлинное счастье? Основатель утилитаризма Джереми Бентам предлагал очень простой критерий – боль и удовольствие. Как писал он сам: «Природа поставила человечество под контроль двух суверенных господ: боли и удовольствия. Только они должны указывать, что мы должны делать». Но определение счастья как избегания боли и получения удовольствия подверглось критике с самого начала – не лучше ли, в самом деле, быть страдающим Сократом, чем наслаждающейся свиньей?
Уже ближе к нашему времени появился такой мысленный эксперимент, как «машина удовольствия». Допустим, мы открыли способ внедрить в мозг человека электрод, который, раздражая определенную зону в мозгу, приводит человека в состояние постоянной эйфории – как наркотики, только эффективнее и без их побочных эффектов. Будет ли продажа и установка таких приборов нравственным делом? Хотели бы мы такого «счастья» себе или тем, кого мы любим? Ведь, если «счастье» – это только субъективное переживание довольства жизнью, это устройство будет его полностью гарантировать.
В-четвертых, кто будет судить, измерять и взвешивать влияние тех или иных жизней на «сумму счастья»? Кто такой тот же Докинз, чтобы оценивать счастье или несчастье человека с синдромом Дауна или его родных? Докинз (как и Сингер, как и другие сторонники этой позиции) исходит из того, что жизнь человека с тяжелыми врожденными заболеваниями непременно несчастна, и она не приносит окружающим ничего, кроме несчастья. Такая жизнь, на их взгляд, не стоит того, чтобы быть прожитой. Но как они это определяют? Как правило, их противники указывают на то, что это не так – семьи с детьми, у которых синдром Дауна, часто являются счастливыми, а известная активистка, выступавшая за права инвалидов, Харриет Джонсон, говорила о том, что, несмотря на прикованность к инвалидной коляске и постоянную потребность в посторонней помощи, она находит свою жизнь стоящей того, чтобы жить, притом что сама Джонсон – атеистка.
Выдающийся космолог Стивен Хокинг большую часть своей сознательной жизни провел в инвалидной коляске, общаясь с окружающим миром при помощи специального устройства. Вряд ли кто-нибудь заявит, что его жизнь имела отрицательную ценность, – по крайней мере, он сам так не считал. Представим себе, напротив, всяческого любимца фортуны и баловня судьбы, красивого, здорового, богатого, знаменитого; пусть он занимается увлекательной, творческой работой; пусть он получает общее признание; пусть он путешествует по миру и наслаждается всем, что только можно купить за деньги или обрести как плод славы. Представим себе человека, страдающего даже не гемофилией, а синдромом Дауна, живущего в небогатой семье. Кто из них более счастлив? Если учесть то обстоятельство, что счастливец, о котором идет речь, шотландский модельер Александр Маккуин, совершил самоубийство, а актеры, скажем, «Театра Простодушных», где играют люди с синдромом Дауна, чрезвычайно далеки от этого, ответ оказывается совсем не таким, какой предполагает Докинз. Счастье зависит от поведения людей и, таким образом, практически непредсказуемо. Как Докинзу и пришлось признать это в беседе с О'Коннором, он не может привести никаких логических и научных оснований своему суждению о том, что рождение такого ребенка «увеличивает сумму страдания».
В-пятых, – и это, возможно, самое важное, – утилитаризм исходит из отрицания человеческой уникальности. Поскольку каждый человек уникален и проходит уникальный жизненный путь, жизни людей не взаимозаменяемы, и оправдывать убийство одного человека тем, что оно открывает возможности появления другого, предположительно, более счастливого, есть полная бессмыслица. Представим себе, что некий безумный философ приступит к утилитаристу с револьвером (как герой одного из рассказов Честертона) и объяснит ему, что ужас, боль и в конечном итоге смерть, которые он сейчас переживет, уравновесятся счастьем других людей – конкурентов, завистников, соискателей на его место, грядущих поколений и так далее. Видимо, утилитарист отклонит это соображение на том очевидном основании, что у него-то жизнь одна, уникальная, и, поскольку она существует в единственном экземпляре, ничто не могло бы уравновесить ее потерю. Идея умертвить больного младенца, чтобы родить на его место другого, здорового, таким образом, бессмысленна с самого начала.
Этика, полностью построенная на умножении удовольствия и избегании боли, оказывается абсурдной, и может показаться странным, что Питер Сингер ее держится, а множество других людей считают его великим мыслителем. Но у них есть на это причины.
Лучше ли человек овцы?Дело в том, что в мире без Бога нам действительно будет трудно найти какие-то критерии для построения моральной системы, кроме боли и удовольствия. Конечно же, совершенно неверующие люди могут видеть смысл своей жизни в торжестве своей идеологии или в величии Родины, или в исключительности своей нации. Камикадзе, определенно, видели смысл своей короткой жизни и добровольной смерти в том, чтобы послужить императору и Японии, а большевики или хунвейбины умирали во имя бессмертных идей коммунизма. Но этот смысл придуман самими людьми, которым невыносимо взглянуть в глаза реальности, как ее описывает атеизм.
За Вселенной (и человеком) не стоит никакого замысла, мы появились на свет в результате разворачивания неких слепых, внеразумных и вненравственных природных сил, которые не имели – и не могли иметь – в виду наше появление, у которых для нас нет ничего – ни цели, ни смысла, ни заповедей, ни обетований. В такой Вселенной, однако, можно нащупать точку отсчета – способность живых существ испытывать боль и удовольствие. Само по себе существование бессмысленно, но избегание боли и поиск удовольствия могут придать человеческим поступкам какое-то понятное направление. Жизнь больного ребенка и здорового одинаково бессмысленна, но, раз есть основания полагать, что первый принесет в мир больше боли, чем второй, его можно уничтожить.
Более того, жизнь человека не имеет принципиальных качественных отличий от жизни животного. Как пишет тот же Питер Сингер: «То обстоятельство, что живое существо принадлежит к виду homo sapiens, не имеет отношения к неправильности его убийства; скорее следует принимать во внимание такие характеристики, как рациональность, автономность и самосознание. Младенцы лишены этих характеристик. Их убийство, таким образом, нельзя приравнивать к убийству нормального человека или любого другого самосознающего существа». В рамках таких воззрений убийство свиньи (Сингер – строгий вегетарианец) может быть более серьезным проступком, чем убийство младенца или человека с тяжелыми умственными дефектами.
Такие взгляды естественным образом вытекают из отказа от веры в то, что человек создан по образу Божию.
Как пишет Сингер, рассуждая об эвтаназии: «Любая дискуссия о добровольной эвтаназии должна начинаться с вопроса, может ли убийство невинного человека быть правильным поступком. Те, кто полагают, что это ни в коем случае не правильно, опираются в наибольшей степени на религиозные доктрины, которые утверждают, что только люди созданы по образу Божию, что только люди обладают бессмертной душой или что Бог даровал нам власть над животными, – подразумевая, что мы можем убивать их, если захотим, – но оставил за собой власть над человеческими существами. Отвергните эти идеи, и вам станет трудно помыслить о каких-то морально значимых свойствах, которые отличают людей с тяжелыми повреждениями мозга или другими серьезными умственными дефектами от других животных подобного ментального уровня. Почему же тогда то обстоятельство, что данное существо принадлежит к одному с нами виду, делает его убийство худшим поступком, чем убийство существа другого вида, если они обладают сходными мыслительными способностями, – или животное даже умнее?»
Конечно, – подчеркнем еще раз – не все атеисты разделяют воззрения Сингера. Хотя они не делают его парией – это принятый во всех лучших домах уважаемый мыслитель, читающий свои лекции в лучших университетах англоязычного мира.
Однако трудно не заметить его безупречной логичности – он берет мысль (Бога нет, человек развился в результате естественных причин) и, в отличие от многих других атеистов, додумывает ее до конца. Готовность Сингера умерщвлять младенцев отталкивает и многих неверующих, но разве его логика где-то хромает? Противники абортов давно говорили о том, что было бы странно считать, что моральный статус ребенка резко меняется при прохождении через родовой канал, – и, если мы считаем убийство младенца ужасным преступлением, почему мы допускаем аборты? Сингер видит валидность этого аргумента, только разворачивает его в обратную сторону: если мы считаем аборты допустимыми, то почему же мы считаем убийство младенца преступлением?
Мы должны быть благодарны Сингеру и Докинзу за их последовательное исследование философской пустыни атеизма. Большинство людей, называющих себя атеистами, не продумывают свое мировоззрение и, как справедливо упрекает их Сингер, тащат с собой немало христианского багажа. Что будет, если от этого багажа избавиться – хотя бы частично, – нам и показывают эти авторы, которые стараются быть последовательными в своем безбожии.
Разрыв в либеральном мировоззренииНеверующие оппоненты Докинза указывают на то, что его слова – вопиющий случай так называемого эйблизма, дискриминации людей по признаку инвалидности. Говорить людям, которые страдают от врожденных физических недостатков, что матери поступили «аморально», произведя их на свет, действительно чрезвычайно грубо. Представители организаций, защищающих права инвалидов, напоминают, что гуманное общество должно заботиться о своих наиболее уязвимых членах, а инвалиды действительно уязвимы и имеют особые нужды. Западный мир усвоил (по крайней мере, на уровне лозунгов), что дискриминировать кого бы то ни было, отделять какую-то группу людей как заведомо менее ценную или нежелательную – глубоко неправильно. Но в случае с Докинзом (или, например, с разделяющим его точку зрения знаменитым программистом Ричардом Столлманом) еще раз высвечивается логический разрыв в либеральном мировоззрении, выступающем против дискриминации, но за аборты.
Сам Докинз приводит неопровержимый в рамках этого мировоззрения аргумент. Если вы поддерживаете аборты, это означает, что вы не считаете дитя в утробе личностью, по отношению к которой у нас есть нравственные обязательства. Если это так, то «дискриминация» по отношению к ребенку в утробе просто невозможна – вы не можете совершить преступление по отношению к тому, кто (морально и юридически) не является личностью. Упрекать его в «дискриминации инвалидов» нелепо, потому что сама личность, которую можно было бы дискриминировать, появляется (в либеральной системе координат) не раньше родов. В самом деле, признавать «право» абортировать любого ребенка – в том числе совершенно здорового – просто потому, что его родители не хотели бы отвлекаться на его воспитание, и в то же время приходить в праведное негодование на призыв абортировать ребенка с тяжелой врожденной болезнью – значит демонстрировать лицемерие 80-го уровня. Если признавать «право на выбор» как таковое, то родители могут абортировать ребенка по любой вообще причине – потому что у него синдром Дауна, потому что он темнокожий, потому что это девочка. Если никакого человека в утробе матери нет, а есть не очень понятно что, но не обладающее никакими правами и не подлежащее никакой защите, то странно усматривать эти права в случае, если плод принадлежит к уязвимой группе.
Это напоминает ситуацию с избирательным абортированием девочек, которая сложилась в ряде районов Индии и Китая. Поскольку девочки считаются намного менее ценными (а в Китае еще и из-за практиковавшейся долгое время политики «одна семья – один ребенок»), их абортировали, и теперь существует огромный дисбаланс – юноши лишены возможности создать семью. Эта ситуация реального и массового фемицида, то есть убийства женщин именно потому, что они – женщины, оказывается вне поля зрения феминисток, которые не могут выступить против этого массового истребления девочек, поскольку это означало бы выступить против абортов.
Мы имеем дело с ситуацией, когда, с одной стороны, нравственное чувство людей говорит им о том, что пресекать жизнь ребенка потому, что он принадлежит к уязвимой и нежеланной группе, – вопиющая несправедливость. Гуманное общество, о котором они мечтают, должно заботиться о всех своих членах, особенно о тех, кто в наибольшей степени нуждается в такой заботе. С другой стороны, их идеология говорит им о том, что абортировать можно кого угодно и по какой угодно причине. Это мировоззрение, которого невозможно придерживаться сколько-нибудь последовательно.
Бог есть, и жизнь любого человека стоит того, чтобы быть прожитойНо в чем Питер Сингер (и последующий ему Ричард Докинз) абсолютно прав и безупречно логичен, так это в том, что наши представления об уникальной ценности каждой человеческой жизни, о резком качественном отличии человека от других животных видов, о праве всякого невинного человека на жизнь коренятся в христианской доктрине творения по образу Божию и усиливаются христианской же верой, что за каждого из нас умер Христос.
В рамках постхристианского мировоззрения такие представления осуждаются как «человеческая исключительность» (human exceptionalism) и – еще один термин – «списизм» (spiecism – вера в то, что любой человек – просто в силу принадлежности к человеческому роду – более ценен и важен, чем представитель любого другого биологического вида). Считается, что, приписывая такую исключительность людям, мы подвергаем несправедливой дискриминации все остальные формы жизни. Секулярный гуманизм с его пафосом возвеличивания человека оказывается еще слишком насыщенным христианским духом, слишком кутающимся в остатки одежд, унесенных из отчего дома. Но этот дух неизбежно выветривается, и оказывается, что младенец имеет не больше прав на жизнь, чем свинья.
Чтобы избежать этого вывода, надо отказаться от ложных предпосылок. На самом деле мир осмыслен, в нем есть добро и зло, цель и промысел, каждый из нас приходит в него не случайно, но по особенному о нем замыслу Создателя, каждая жизнь полна (иногда таинственного и непостижимого для нас) смысла. Как говорит псалмопевец: «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138:13–16). В лице ближних, которые нуждаются в нашей любви и заботе, особенно в лице больных детей, среди нас таинственно присутствует сам Христос, и все, что мы делаем для них, мы делаем для Него, как об этом сказано в притче о Страшном суде. Как сказал Христос, «кто примет одно такое дитя во имя Мое, тот Меня принимает» (Матф. 18:5). В сердце своем мы все – верующие и атеисты – отлично понимаем, что героические матери детей с синдромом Дауна правы в своем негодовании на Докинза, а вот он – неправ. Но, чтобы они были правы, мироздание должно быть устроено так, как его видит Церковь, а не так, как его видят Докинз и Сингер.
Ценностные суждения в мире без ценностейАтеизм, особенно в своей критике религии, не может обойтись без апелляции к ценностям – нравственным и эстетическим. Но в картине мира, которую он предлагает, эти ценности неизбежно иллюзорны. Они существуют исключительно в головах у людей, это просто частные предпочтения, которые не могут быть «правильными» или «неправильными».
Всякий раз, вынося (или хотя бы подразумевая) ценностные суждения, – например, «Это бесценное произведение искусства» или «Вандалы поступают плохо и достойны осуждения», – они неизбежно противоречат своей картине мира, в которой мы порождены какими-то слепыми, бессознательными и безличными силами, а Вселенная лишена всякого целеполагания, нравственного или эстетического измерения.
Но и вера в то, что Вселенная и жизнь «не нуждаются в Создателе», как это якобы «объяснила наука», занимающая большое место в проповеди Докинза и «новых атеистов», вообще выглядит совершенно неосновательной, о чем мы поговорим в следующей главе.
Борьба Докинза с «соблазном замысла»Одна из глав книги Ричарда Докинза «Перерастая Бога» посвящена перечислению примеров поразительного, великолепного устройства живых организмов, рассматривая которые невозможно отделаться от впечатления, что за ними стоит разумный замысел. Биология – это предмет, который Докинз, в отличие от философии, истории или теологии, знает и любит, и, когда он пишет, например, о гепарде и африканской газели, желчный и язвительный атеист в нем уступает место увлеченному биологу. Мы на какое-то время встречаем другого Докинза – искренне пораженного и восхищенного красотой творения.
Он пишет о том, что живые организмы демонстрируют «…вызывающую трепет сложность. Это выглядит так, как будто за ней стоит разумный Создатель. И мы покажем, что это не так. Это не простая задача – и цель этой главы показать, насколько это трудно».
Живые организмы постоянно наводят на мысль о том, что за их созданием стоит некий разум, и Докинз, признавая силу этого впечатления, говорит о нем как о «соблазне», для преодоления которого нужны напряженные интеллектуальные усилия.
Обратим внимание на внутреннее противоречие этой позиции: с одной стороны, Докинз пишет (в своей книге «Река, выходящая из Эдема») о том, что во Вселенной «нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла», с другой – признает, что избавиться от ощущения разумного замысла в живой природе очень нелегко.
Далее Докинз говорит, что, несмотря на ошеломляющее впечатление, что за сложностью живых организмов стоит творящий Разум, в Нем нет необходимости – все можно объяснить в рамках эволюционного процесса, когда долгие миллионы лет организмы изменялись в результате случайных мутаций. Там, где мутации оказывались вредными, организмы умирали и выбывали из эволюционной гонки, но там, где они помогали организму приспособиться, выжить и, главное, оставить потомство, изменения накапливались и приводили к появлению новых видов.
До Дарвина верующие могли прибегать к аргументу «от замысла», – как это формулировал Уильям Пейли: «Если вы нашли часы, вы предположите существование часовщика, который собрал этот сложный механизм». Но теперь, – говорит нам Докинз, – мы открыли природный механизм, который может производить такие часы. Но опровергает ли это сам аргумент от замысла?
Не являясь биологом, я не могу внести никакого вклада в споры вокруг самой теории биологической эволюции. Но хочется отметить, что в любом случае эта теория не решает той задачи, которую на нее пытается возложить Докинз.
Как признает он сам, «мы все еще не знаем в точности, как процесс эволюции начался». В самом деле, чтобы процесс развития жизни начался, необходима первая ДНК, вернее, первая живая клетка, потому что сама ДНК не может функционировать вне ее. Эта молекула отличается крайней сложностью, и ее случайное возникновение невероятно. Она никак не может быть результатом эволюции, потому что является ее предварительным условием.
Сложность ДНК была одной из причин, побудивших известного атеистического философа Энтони Флю признать реальность Создателя. Но ДНК – далеко не единственное необходимое условие.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?