Текст книги "Поэты, писатели, безумцы. Литературные биографии"
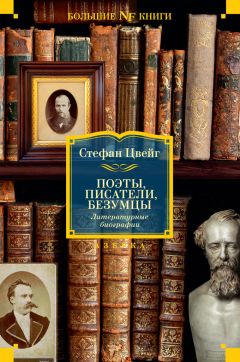
Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 60 страниц)
Во мне все спутано, как льняные волокна в прялке.
Из юношеского письма
Клейст рано ощутил в себе этот хаос чувства. Уже мальчиком, а еще сильнее двадцатилетним гвардейским офицером он полусознательно замечает, как мощно растет его внутреннее возмущение против тесного мира. Но он предполагает, что это смятение, эта отчужденность – брожение молодости, результат неудачной жизненной установки и главным образом недостаток подготовки, воспитания, системы. И действительно, Клейст не был подготовлен к жизни: из опустевшего родительского дома он попадает под начало к эмигранту-пастору, потом в кадетский корпус, где он должен изучать военное искусство, в то время как тайная склонность влечет его к музыке – первый прорыв чувств в беспредельность. Но лишь тайком он может играть на флейте (видимо, он владел ею мастерски): целый день он занят суровой прусской военной службой, учениями на невеселых песчаных плацах своей родины. Кампания 1793 года, бросившая его наконец в настоящую войну, была самой жалкой, самой неудачной, самой скучной, самой бесславной кампанией в немецкой истории. Никогда он не упоминал о ней как о военном подвиге; только в одном стихотворении, посвященном миру, он выражает стремление уйти от этого безумия.
Военный мундир стесняет его жаждущую свободы грудь. Он чувствует, как бродят в нем силы, и догадывается, что они не проявятся действенно в мире, пока он не сумеет их укротить. Никто его не воспитывал, никто его не поучал, и вот он сам хочет быть своим воспитателем, «построить себе жизненный план», или, как он говорит, «научиться правильно жить»; и, так как он пруссак, первая его мысль – о порядке. Он хочет установить в себе порядок, «жить правильно» – согласно определенным нормам, принципам, идеям – и полагает, что внутренний хаос (он его предугадывает) можно усмирить лишь правильной, построенной по определенной схеме жизнью, чтобы, как он формулирует, «вступить в нормальную связь с миром». Его основная мысль заключается в следующем: каждый человек должен составить себе жизненный план. И это заблуждение не оставляет его почти до последних дней: он считает, что нужно наметить себе цель, потом тщательно избрать средства, полагая, что можно, как в стратегии или математике, вычислить и начертить свою задачу. «Свободный мыслящий человек не остается покорно на том месте, куда его толкает случай… он чувствует, что можно возвыситься над своей судьбой, что можно даже, в точном смысле слова, руководить судьбой. Он разумом определяет то, что составило бы его высшее счастье, он намечает жизненный план… Пока человек не в состоянии определить свой жизненный план, он остается несовершеннолетним; ребенок – он под опекой родителей, взрослый – он под опекой судьбы» – так философствует молодой человек в двадцать один год, собираясь перехитрить рок. Он еще не знает, что его судьба – внутри его существа и в то же время за гранью его сил.
Но напряжением воли он швыряет себя в жизнь. Он сбрасывает мундир. «Военное сословие, – пишет он, – стало мне так ненавистно, что постепенно мне становилось в тягость содействовать его целям». Но как, ускользнув от одной муштровки, найти себе другую? Я уже говорил: Клейст не был бы пруссаком, если бы его мысль не обратилась прежде всего к порядку. И он не был бы немцем, если бы не верил, что внутреннего порядка можно достигнуть путем образования. Образование для него, как и для всякого немца, ключ к тайнам жизни; учиться, прочитать как можно больше книг, сидеть на лекциях, записывать их, слушать профессоров – так рисуется юноше путь в мир. При помощи теорий и правил, естествознания и философии, истории, литературы и математики Клейст хочет познать мировой дух, укротить демона. И, вечный преувеличитель, он неистово погружается в науку. Все, что он делает, все, к чему прикасается, он накаляет своей демонической волей; он как бы опьянен рассудительностью и превращает педантизм в оргию. Как и его немецкому предку, доктору Фаусту, ему кажется слишком медленным последовательное, постепенное приобретение знаний: он хочет всего достичь одним прыжком и в науке познать наконец подлинную жизнь, «истинную» форму жизни. Обольщенный писаниями эпохи Просвещения, он со всем фанатизмом своей стремительной воли верит, что «добродетель» в понимании греков поддается изучению, верит в единую формулу жизни, которую можно вывести с помощью науки и образования, чтобы каждый раз пользоваться ею как схемой, как таблицей логарифмов. Поэтому он, словно в отчаянии, окунается то в логику, то в чистую математику, то в экспериментальную физику, потом бросается к латинскому и греческому языкам, и все это «с самым кропотливым прилежанием», однако без цели и плана, как и следовало ожидать от его безудержной и фанатичной натуры. Ясно чувствуется, что он, стиснув зубы, старается довести до конца свое дело: «Я поставил себе цель, требующую непрерывного напряжения всех моих сил и каждой минуты времени, если я хочу ее достичь», – но эта «цель» все время остается далекой. Он учится впустую, и чем больше он наспех схватывает разрозненных знаний, тем менее он познает внутреннюю цель. «Все науки для меня одинаково важны, – неужели я должен переходить от одной науки к другой и вечно плавать на поверхности, не углубляясь ни в одну из них?» Напрасно он – лишь бы убедить себя в пользе этих занятий – самым педантичным образом проповедует своей невесте педантичную механику нравственного поведения, месяцами, как зловредный школьный учитель, мучает бедную девушку нелепыми, надуманными вопросами и ответами, которые он старательно записывает ради ее «образования». Никогда Клейст не был антипатичнее, бесчеловечнее, педантичнее, никогда он не был в большей мере пруссаком, чем в этот несчастный период, когда он, с книгами, лекциями и наставлениями в руках, искал в себе человека, никогда он не был более чужд себе и своему пламенному существу, чем в ту пору, когда он стремился выработать из себя полезного гражданина и человека.
Но не суждено ему спастись от демона, завалить его книгами и пандектами: ужасным, жгучим пламенем вырывается он внезапно из мира книг. Вдруг, в один час, в одну ночь, уничтожен первый жизненный план Клейста: погибла религия разума, вера в науку. Он прочитал Канта, злейшего врага всех немецких поэтов, их соблазнителя и губителя, и этот холодный, чересчур яркий свет ослепляет его взор. Ошеломленный, он должен объявить несостоятельным свое высшее убеждение – веру в целебную силу образования, в познаваемость истины: «Мы не можем решить, воистину ли является истиной то, что мы называем истиной, или это нам только кажется?» «Острие этой мысли» пронзает его «до сокровеннейших глубин» сердца, и, потрясенный, он восклицает в одном письме: «Моя единственная, моя высшая цель погибла, и у меня нет иной». Жизненный план сведен на нет. Клейст снова наедине с собой, с этим страшным, гнетущим, таинственным «я», которое он не умеет обуздать. Именно то, что сейчас, как всегда, в безмерной страстности он ставит на карту всю свою жизнь, всю неограниченность своего духовного бытия, делает его душевное поражение столь страшным и опасным. Когда Клейст теряет веру или страсть, он каждый раз теряет все: его трагедия и его величие в том, что он всецело и безраздельно отдается чувству, никогда не оставляя пути к возврату и обретая освобождение только в разрушительных взрывах.
И на этот раз он освобождается, разрушая. С проклятием разбивает он об стену судьбы звенящий кубок, из которого годами пил хмельное блаженство. «Печальный разум» – так называет он теперь свой поверженный кумир; он бежит от книг, от философии, от теорем и, вечный гиперболист, слишком рьяно бросается в другую крайность, с той же преувеличенной жаждой, с тем же фанатическим рвением предаваясь новому идеалу. «Мне противно все, что называется знанием». С обычным для него порывом он вырывает веру из своей души, как прожитый день из календаря. И тот, кто еще вчера видел спасение в образовании, волшебство – в знаниях, исцеление – в культуре, оплот – в науке, теперь восторгается тупостью, примитивом, животно-растительным прозябанием. Тотчас же – страстность Клейста не знает слова «терпение» – построен новый жизненный план, конструктивно столь же слабый, столь же мало обоснованный на фундаменте опыта: теперь прусский юнкер вдруг стремится к «затененной, спокойной, незаметной жизни», хочет стать крестьянином, жить в том одиночестве, которое в свое время так соблазнительно обрисовал Жан-Жак Руссо; он требует не больше того, что персидские маги считают самым угодным богу: «Обработать поле, посадить дерево и зачать ребенка». Этот план захватил и в тот же миг умчал его; с той же поспешностью, с которой он хотел стать мудрым, он стремится теперь стать тупым. Прошел день – и он покидает Париж, куда бежал, «сбитый с толку изучением печальной философии», прошел день – и он бросает свою невесту, только потому, что она не может сразу согласиться с его новым планом жизни и сомневается в том, что она, дочь высокопоставленного генерала, сможет быть полезной работницей в поле и в коровнике. Но Клейсту некогда ждать: одержимый идеей, он горит как в лихорадке. Он штудирует труды по агрономии, работает с швейцарскими крестьянами, колесит вдоль и поперек по кантонам, чтобы на последние деньги купить себе имение (на разрытой войной земле); даже в самых трезвых стремлениях – к учености или сельскому хозяйству – он не свободен от власти демона.
Его жизненные планы – будто трут: они воспламеняются при первом соприкосновении с действительностью. Чем больше его усилия, тем больше неудач: суть его в том, чтобы, преувеличивая, разрушать. Клейст достигает цели только вопреки своей воле: темная сила всегда вершит в нем то, о чем воля и не подозревает. И пока с раскаленным сверх меры педантизмом разума он ищет выхода в образовании, а потом в необразованности, освобождается инстинкт, темная деспотическая воля его существа. Она подобна нарыву, который, пока лечат его, унимая внутреннюю боль мазями и бинтами рассудка, прорывается, обнаружив скрытое брожение и освободив связанного демона, демон изливается в поэзии. Слепое орудие чувства, Клейст без всяких расчетов начал в Париже «Семейство Шроффенштейн» и робко показал его друзьям; но едва он заметил и учуял, что клапан раскрылся, едва он обрел отдушину для своих чрезмерных чувств и ощутил, что здесь, в этом мире границ, связанности и меры, дана воля его фантазии, как эта воля уже помчалась в беспредельность (стремясь с прежней жадностью в первый же час достигнуть последней грани). Поэзия – первое освобождение Клейста: ликуя, он возвращает себя демону (который готов уже был его оставить) и, как в пропасть, бросается в собственную бездонность.
ЧестолюбиеО, непростительно будить в нас честолюбие – мы становимся добычей фурий.
Из письма
Словно вырвавшись из тюрьмы, бросается Клейст в опасную беспредельность поэзии. Наконец его бурному натиску дан простор; стесненное воображение может найти свободу в образах, излиться в бескрайности слова. Но для человека, подобного Клейсту, не существует радости, ибо для него нет меры. Едва начинает он первое свое произведение, едва осмеливается признать себя творцом, поэтом, как тотчас же он хочет быть самым прекрасным, самым великим, самым могущественным поэтом всех времен, и своему первенцу он ставит дерзновенное требование – превзойти самые величественные произведения греков и классиков.
Все захватить в первом же набеге – так диктует ему чрезмерность, воплощаясь в литературном творчестве. Другие поэты робко начинают с надежд и чаяний, с подражаний и опытов и счастливы, если им удалось создать хорошее, значительное произведение; но Клейст, все возводя в превосходную степень, от первого своего опыта требует недостижимого. Его «Гискар», к которому он приступает (после раннего, почти сомнамбулического произведения «Семейство Шроффенштейн»), должен, обязан быть величайшей трагедией всех времен. Одним прыжком он хочет достигнуть вечности; литература не знает более титанического дерзновения, чем Клейстово требование бессмертия при первой же пробе силы. Это показывает, сколько высокомерия было скрыто в перегретом котле его груди: с шипением и свистом оно вырывается в клубящихся словах. Если Платон бредит Илиадами и Одиссеями, которые он собирается создать, то это робкий самообман слабой натуры. Но Клейст жестоко серьезен в своем соревновании с богами духа; охваченный страстью, он возносит ее (как и она его) в безмерность, и с этой минуты, когда открылось ему собственное назначение, честолюбие становится для него почти смертельным импульсом бытия. Его гордыня – не на жизнь, а на смерть, с тех пор как он бросил богам упрямый вызов произведением, которое (как он внушает Виланду) должно соединить в себе «дух Эсхила, Софокла и Шекспира». Вечно Клейст ставит на карту все свое достояние. И с этих пор план его жизни не в том, чтобы жить, вернее, правильно жить, а в том, чтобы достигнуть бессмертия.
Клейст начинает свое произведение в спазмах крайнего восторга, в опьянении. Все – даже творчество – у него превращается в оргию; возгласы наслаждения и муки, стоны и торжествующие клики вырываются из его писем. То, что ободряет и укрепляет других поэтов, – дружеское поощрение, – заставляет его трепетать от страха и радости: так возбуждено все его существо альтернативой удачи или неудачи. То, что приносит счастье другим, для него (здесь, как и всюду) – опасность, ибо каждым нервом принимает он великое решение. «Начало произведения, которое должно показать миру твою любовь ко мне, – пишет он сестре, – возбуждает удивление у всех, кому я его читаю. О Иисус! Если бы я мог довести это до конца! Пусть исполнит небо это единственное мое желание, а потом да вершится воля его». На эту единственную карту – на «Гискара» – ставит он всю свою жизнь. Погруженный в работу на своем острове среди Тунского озера, спустившись в собственными руками вырытую пропасть, он ведет борьбу с демоном, борьбу за освобождение, борьбу Иакова с ангелом. Иногда он ликует в восторженном исступлении: «Скоро я сообщу тебе много радостного, ибо я приближаюсь к полноте земного счастья». В другое время он познает, какие темные силы он вызвал в себе: «О, злосчастное честолюбие! Оно отравляет все радости». В минуты смятения он просит смерти: «Я молю бога о смерти», – потом снова охватывает его страх, что он «умрет раньше, чем кончит свою работу».
Никогда, быть может, поэт не боролся с большей ожесточенностью за свое произведение, чем Клейст в те недели непроницаемого одиночества на маленьком острове Тунского озера. Ибо «Гискар» больше чем литературное отображение его внутреннего существа: в этом титаническом облике он хочет изобразить всю трагедию собственной жизни, необъятные стремления мужественного духа, пробудившиеся, когда тело подорвано тайным недугом и немощью. В завершении – его Византия, власть над миром, призрачное могущество, которое конквистадор желает завоевать решимостью, преодолев сопротивление плоти, сопротивление народа. Подобно Гераклу, срывающему со своей окровавленной кожи Нессову одежду, стремится Клейст вырвать из души испепеляющее пламя, он хочет спастись от демона, загнав его в символ, образ. Завершить – это значит выздороветь. В победе – освобождение, в честолюбии – самосохранение, отсюда эта отчаянная судорога, эти напряженные, словно обратившиеся в мускулы нервы. Тут идет борьба за жизнь, – он это чувствует вместе с друзьями, заклинающими его: «Вы должны завершить „Гискара“, даже если на ваши плечи свалятся Кавказ и Атлас».
Никогда Клейст не отдавался так всецело своему произведению, – раз, два, три раза подряд пишет он эту трагедию и каждый раз уничтожает ее, каждое слово запечатлелось в его памяти так отчетливо, что он декламирует ее у Виланда наизусть. Месяцами вкатывает он на гору тяжеловесный камень и всякий раз снова скатывается в пропасть: ему не дано, как Гёте в «Вертере», в «Клавиго», одним взмахом крыльев освободиться от призрака, смущающего его душу, – слишком крепко вцепился в нее демон. Наконец, побежденный, он опускает руки. «Небо – свидетель, дорогая Ульрика (и я готов умереть, если это не подлинная правда), – вздыхает измученный поэт, – с каким удовольствием я дал бы по капле крови из моего сердца за каждую букву письма, которое я мог бы начать словами: „Мое произведение закончено“. Но ты знаешь, кто делает больше, чем в силах сделать. Полтысячи дней подряд и большинство ночей я потратил, чтобы к многочисленным венцам, украшающим наш род, прибавить еще один; теперь же наша святая хранительница говорит мне: довольно… Было бы неблагоразумно тратить силы на произведение, которое, как я теперь убедился, слишком трудно для меня. Я отступаю перед тем, кто еще не пришел, и за тысячелетие до его прихода склоняюсь перед его духом».
Наступает мгновение, когда кажется, что Клейст готов склониться перед судьбой, что его сияющий дух приобрел власть над неистовым чувством. Но им еще владеет злой демон безмерности: он не может выдержать героическую позу великого отречения, его честолюбие, раз возбужденное, не дает себя обуздать. Тщетно стараются друзья вырвать его из когтей мрачного отчаяния, тщетно они советуют ему предпринять путешествие в более светлые края: то, что было задумано как увеселительная прогулка, становится бессмысленным бегством с места на место, из страны в страну, бегством от самых ужасных мыслей. Неудача «Гискара» – удар кинжалом в бешеную гордость Клейста; его властное, титаническое высокомерие внезапно переходит в прежнее грызущее самоуничижение. Еще раз является страшная мысль его юности – страх перед импотенцией, перед бессилием, но на этот раз – в области искусства. Как тогда в отношении мужской силы, так теперь в отношении силы творческой он боится оказаться несостоятельным, и, как тогда, преувеличивая свою слабость, он в бешенстве стонет: «Это ад дал мне половинные таланты: небо дарует человеку полноту или вовсе обездоливает его». Клейст, не знающий меры, признает лишь все или ничего, бессмертие или гибель.
И он бросается в ничто; так совершается безумное деяние, как бы первое самоубийство, более трудное, чем совершенное впоследствии настоящее: в Париже, привезя с собой лихорадку из бессмысленной поездки, он сжигает своего «Гискара» и другие наброски, чтобы спасти себя от их властного требования стать бессмертным. План жизни разрушен; в такие мгновения, будто вызванная чарами, всегда всплывает его противоположность: план смерти. И, освободившись от демона честолюбия, торжествуя и в то же время сознавая свое поражение, он пишет бессмертное письмо, быть может, самое прекрасное из когда-либо созданных художником в минуту неудачи: «Моя дорогая Ульрика! То, о чем я напишу, может тебя свести в могилу, но я должен, должен, должен это сделать. В Париже я перечел свое незаконченное произведение, отверг его и сжег, и теперь – конец. Небо лишает меня славы, лучшего блага земли; как упрямый ребенок, я возвращаю ему все остальные. Я не могу быть достоин твоей дружбы, и я не могу жить без этой дружбы: я бросаюсь в смерть. Будь спокойна, возвышенная, – я умру прекрасной смертью на поле битвы… я вступлю во французскую военную службу, армия скоро переправится в Англию, и всех нас за морем встретит гибель; я радуюсь при мысли о бесконечно прекрасной могиле». И действительно – с затемненным сознанием, обезумев от совершенного им, мчится он через всю Францию в Булонь; испуганному другу едва удастся вернуть его, и месяц он с помраченным рассудком живет у какого-то врача в Майнце.
Так кончается первый отчаянный набег Клейста. Одним взмахом он хотел извергнуть весь свой внутренний мир, своего демона, но он лишь рассек свою грудь, и в его окровавленных руках остался торс, – правда, один из прекраснейших торсов, когда-либо созданных поэтом.
Он ничего не заканчивает – и это достаточно символично, – кроме сцены упорства Гискара: он стойко переносит свои страдания, свою немощь, но Византия не достигнута, трагедия не закончена. И все же эта борьба за трагедию уже сама по себе является героической трагедией. Лишь тот, кто познал в своей душе целый ад, мог так бороться за божество, как Клейст, боровшийся этим произведением с самим собой.
Пробуждение в драмеЯ творю только потому, что не могу перестать.
Из письма
Уничтожив «Гискара», мученик своей страсти думает, что задушил в себе ужасного гонителя, немилосердного кредитора. Но жив его демон, призрак, восставший из сокровенных глубин его существа, – честолюбие: злосчастное покушение было так же бессмысленно, как выстрел в собственное изображение в зеркале, – разбился угрожающий образ, но цел его двойник. Клейст теперь уже не может отказаться от искусства, как морфинист от морфия: наконец он находит клапан, который на краткое время ослабит напор воображения, невыносимую чрезмерность чувств, в поэтических грезах даст выход их избытку. Тщетно он противится, смутно сознавая, что будет неизбежно вовлечен в новую страсть; но, слишком полнокровный в своих чувствах, он уже не может обойтись без этого обильного кровопускания, приносящего облегчение. Кроме того, состояние съедено, военная карьера испорчена, скучная чиновническая судьба претит его сильной натуре, и другого выхода не остается, хотя он и восклицает, измучившись: «Писать книги за деньги – о, только не это!»
Искусство, творчество становится принудительной формой его существования; мрачный демон принял образ и вселяется в его произведения. Все жизненные планы, которые так методически составлял Клейст, разорваны в клочья бурей судьбы. Теперь он покоряется глухой и мудрой воле своей природы, из беспредельных мучений человека выковывающей беспредельность.
Как насилие, как порок, тяготит его отныне искусство. Этим объясняется удивительная принужденность, взрывчатость и разорванность его драм. Все они, кроме «Разбитого кувшина», годного для постановки и написанного на пари, правда, чрезвычайно нервной рукой, – лишь взрывы его глубочайших чувств, бегство из ада собственной души: в них слышится исступленный вопль, напоминающий вздох задыхающегося, вдруг ощутившего струю воздуха; они резко отталкиваются от туго натянутых нервов, они – прошу простить мне это сравнение, но я не знаю более удачного – извергнуты внутренним пламенем и необходимостью, как семя, разгоряченное кровью. Они не оплодотворены мыслью, едва овеяны разумом, обнаженные, нередко бесстыдно обнаженные, рожденные беспредельной страстью, они врываются в беспредельность. Каждая возводит какое-нибудь чувство, сверхчувство в превосходную степень, в каждой взрывается какая-нибудь раскаленная клеточка его замурованной, чреватой всеми инстинктами души. В «Гискаре» он, словно сгустки крови, выплевывает все свое честолюбие Прометея; в «Пентесилее» изливается его эротический пыл; в «Битве Арминия» беснуется неистовая до озверения ненависть, во всех трех драмах отражается скорее его лихорадочный пульс, чем температура внешнего мира, и даже в более спокойных, менее связанных с его личностью произведениях, в «Кетхен из Гейльбронна» и в новеллах, еще вибрируют под током его нервы, еще трепещет почти до жестокости быстрая смена эпического зноя и разумной трезвости. Куда бы ни последовать за Клейстом – всюду магическая и демоническая сфера, сумерки и затемненность чувств, те яркие молнии великих гроз, тот душный воздух, который всю жизнь давил на его собственное сердце. Вот эта вынужденность, эта сернопламенная атмосфера извержения делает драмы Клейста величественно-необычными; в драмах Гёте мы тоже чувствуем биение жизни, но лишь эпизодически – это только порыв подавленной души к свободе, самооправдание, уход и бегство. В них нет гибельно-взрывчатого, вулканического начала клейстовских драм, где из самой затаенной, самой недоступной, самой смертоносной глубины сердца внезапно выбрасываются потоки лавы. Эта насильственность взрыва, это творчество на скалистой грани между жизнью и смертью – вот что отличает драмы Клейста от костюмированной игры мыслей у Геббеля[92]92
Фридрих Кристиан Геббель (1813–1863) – немецкий драматург.
[Закрыть], где проблемы возникают из мозга, а не из вулканических глубин души, или от драм Шиллера, где великолепные концепции и конструкции воздвигаются где-то за рубежом личных страданий, за пределами исконной опасности, угрозы существованию.
Ни один немецкий поэт, кроме Клейста, не отдавался своей драме так глубоко и безраздельно, никто так убийственно не терзал свою грудь творчеством; только музыка может создаваться так вулканично, так деспотически-самозабвенно, и как раз это грозное свойство властно влекло жившего под вечной угрозой музыканта Гуго Вольфа, еще раз заставившего услышать в «Пентесилее» этот внутренний взрыв исхлестанной бичами страсти.
Не служит ли эта необходимость, эта насильственность у Клейста возвышенным воплощением требования, предъявленного трагедии две тысячи лет тому назад Аристотелем, – чтобы она «стремительным разрядом очищалась от опасных аффектов»? На определения «опасных» и «стремительным» падает (незамеченное французами и большинством немцев) главное ударение, и это правило словно специально установлено для Клейста, ибо чьи аффекты были опаснее его аффектов (я пытался это показать), чьи разряды были стремительнее? Он не был (как Шиллер) укротителем своих проблем, он был одержим ими; но именно это отсутствие внутренней свободы придает его взрывам необычайную силу и катастрофичность. Его творчество не знает обдуманного, планомерного изложения, это всегда извержение, бешеная борьба за избавление от ужасного, грозящего почти смертельной опасностью, надвинувшегося бедствия. Каждый герой его произведений (как и он сам) считает поставленную ему задачу самой существенной в мире, каждый до нелепости поглощен своим чувством, у каждого все поставлено на карту, каждый должен сказать «да» или «нет» всему своему бытию. Все в Клейсте (а потому и в его образах) становится лезвием, кризисом: страдания отечества, которые у других вызывали лишь многословную патетику, философия (которую скептически созерцал Гёте, воспринимая ровно столько, сколько было полезно для его духовного развития), Эрос и страдания Психеи – все становится у Клейста лихорадкой и манией, предельной мукой, угрожающей разрушить его существование. Но именно это и делает жизнь Клейста столь драматичной, его проблемы столь трагичными; они не остаются, как у Шиллера, поэтической фикцией, а становятся жестокой реальностью его чувств; отсюда та подлинно трагическая атмосфера его творчества, какой нельзя найти ни у одного немецкого поэта. Мир, вся жизнь у Клейста в напряжении: собственные противоречия он отразил в преувеличенных образах, возвел к полярности человеческой природы; неспособность легко воспринимать, серьезность переживания должны каждого его героя – Кольхааса, принца Гомбургского, Ахилла – привести к конфликту с его противниками, и, так как это противодействие (как и его собственное) тоже возвеличено и преувеличено до неизмеримости, неизбежно создается драматическая коллизия, не случайно возникшая, а самим роком предопределенная трагическая сфера.
Итак, естественным образом, невольно приходит Клейст к трагедии: только она могла отобразить болезненную противоречивость его натуры (в то время как эпос допускает более спокойные, более мягкие формы, драма требует крайней обостренности, и потому лишь она отвечала требованиям его склонного к преувеличениями экстравагантности характера). Его страсти с жгучей непреодолимостью влекут его к буйным излияниям, насильно толкают его к драме; они, а не он, создают эти произведения, поэтому мне кажется грубой ошибкой искать у Клейста признаки метода, планомерного построения, сознательного труда. Гёте несколько иронически говорил о «незримом театре», для которого были предназначены эти пьесы; этим незримым театром была для Клейста демоническая природа мира, которая из мощной раздвоенности, из диаметральности противоречий создает такое напряжение, такое движение, которое действительно способно взорвать и затопить подмостки. Никто не был и не желал быть менее практиком, чем Клейст; он жаждал освобождения и разгрузки; всякая игра, так же как и целенаправленность, противоречит беспокойной страстности его характера. Его концепции неуклюжи и негибки, его сцепления непрочны, вся техническая сторона сделана al fresco (поспешной и нетерпеливой рукой): там, где его кисть не гениальна, он ударяется в театральность, опускаясь до мелодрамы; местами он впадает в вульгарность уличной комедии, рыцарских представлений, волшебного театра, чтобы одним прыжком, одним взлетом (подобно Шекспиру) снова перенестись в возвышенную сферу духа. Сюжет для него только предлог и материал; накалять страстью – его подлинная страсть. Нередко он создает нарастание при помощи самых низменных, самых грубых, самых ходячих приемов («Кетхен из Гейльбронна», «Семейство Шроффенштейн»), но, воспламенившись страстью и со стремительностью парового двигателя ворвавшись в родную стихию противоречий, он создает напряжения, не имеющие себе равных.
Техника Клейста кажется наивной, его композиции ошибочными и банальными; медленно, нередко окольными, извилистыми путями он проникает в самую сердцевину конфликта, чтобы внезапно взорвать чувство с ему одному свойственной мощью и смелостью. Поэтому он должен опускаться на самое дно, поэтому нужна ему, как Достоевскому, длительная подготовка, самые причудливые сплетения, извивы и лабиринты. В начальных сценах его драм («Разбитый кувшин», «Гискар», «Пентесилея») факты и положения сплетаются в тесный узел; сначала как бы собираются тучи, которые могут вызвать трагическую грозу, и он любит эту насыщенную, тяжелую, непроницаемую атмосферу, потому что своей смятенностью, безнадежностью, безысходностью она напоминает атмосферу его души, смятенная ситуация соответствует тому «смятению чувств», которое так беспокоило чуждого демонизму Гёте. И конечно, в основе этого насильственного утаивания, этой загадочности кроется доля извращенного упоения страданием; в напряжении и торможении он вкушает сладострастие, возбуждая и воспламеняя свое и чужое нетерпение. Так драмы Клейста, прежде чем зажечь чувство, заставляют трепетать нервы; подобно музыке «Тристана»[93]93
«Тристан и Изольда» – опера Рихарда Вагнера (1859).
[Закрыть], они расточительной монотонностью, многозначительными намеками и волнующими недомолвками стремятся вызвать вихрь чувств. Только в «Гискаре» одним движением, словно отдергивая завесу, с солнечной ясностью он обнажает всю ситуацию; остальные драмы («Принц Гомбургский», «Пентесилея», «Битва Арминия») начинаются с сумбура положений и характеров, из которого вытекают и, разрастаясь, подобно лавине, с грохотом сталкиваются страсти героев. Все перегнав, они иногда ломают своей чрезмерностью намеченную вначале общую концепцию; если не считать «Принца Гомбургского», постоянно чувствуешь, что персонажи Клейста как будто вырвались из-под его лихорадочной руки и помчались в беспредельность, плененные могуществом чувств, нежданным и непредвиденным в трезвом замысле. Клейст не владеет, как Шекспир, своими образами и проблемами: они уносят его за крайнюю черту. Каждый из них – ученик чародея из Гётевой баллады, и они следуют демоническому зову, а не ясной, планомерной воле; в высшем смысле Клейст не ответствен за них, как за слова, произнесенные во сне и непроизвольно выдающие затаенные стремления.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































