Текст книги "Поэты, писатели, безумцы. Литературные биографии"
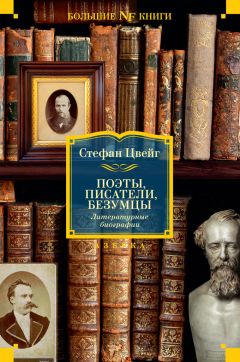
Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 57 (всего у книги 60 страниц)
Борьба за независимость
Эразм полагает – и многие разделяют его мнение, – что рейхстаг в Вормсе, анафема Рима и изгнание, объявленное императором, сделали свое дело, предпринятая Лютером попытка реформации церкви потерпела крушение. Теперь остается лишь открытый мятеж против государства и церкви, новое восстание альбигойцев, вальденсов или гуситов, которое будет, вероятно, так же как и те, жестоко подавлено, а Эразм как раз хотел избежать разрешения этого вопроса средствами войны. Он мечтал реформировать евангелическое учение церкви и с радостью отдал бы свои силы этому делу. «Если бы Лютер остался в лоне католической церкви, я принял бы его сторону», – открыто говорил он.
Но произошло непоправимое, этот упрямец навсегда оторван от Рима. «С трагедией Лютера покончено, ах, если бы ее никогда не было», – сетует разочарованный миротворец. Погашены искры евангелического учения, закатилась звезда духовного света, «actum est de stellula lucis evangelicae»[288]288
«Явившаяся из звездочки света евангельского» (лат.).
[Закрыть]. Теперь дела Христа будут вершить палачи и пушки, он же, Эразм, решил для себя окончательно – отныне остается в стороне от любого возможного конфликта, для великих испытаний он чувствует себя слишком слабым.
Он смиренно признает, что нет у него той предельной веры в Бога, нет уверенности в себе, чтобы принять столь ответственное, чреватое непредсказуемыми последствиями решение. Пусть Цвингли и Буцер – люди высокого духа, Эразм – всего лишь человек, он не в состоянии внимать голосу небес. Пятидесятилетний человек, давно уже понявший, что вопросы веры непознаваемы, не чувствует себя призванным участвовать в этих спорах; он желает тихо и смиренно служить лишь там, где царит вечная ясность, – наукам, искусству. Он бежит от богословия, бежит от государственной политики, бежит от церковных распрей, скрывается от свар и перебранок в своей рабочей комнате, в благородной тишине книг; здесь он может еще принести миру пользу.
Итак, назад, в келью, старик, и занавесь поплотнее окна от времени! Оставь борьбу другим, тем, кто чувствует зов Божий в своей груди, ты же следуй своей благородной задаче – защищай правду в чистой сфере искусства и наук: «Если испорченным нравам римского духовенства и требуются чрезвычайные средства для их излечения, то не мне, не подобным мне брать на себя дело врачевания. Я скорее предпочту терпеть существующее положение вещей, чем стану возбуждать новые волнения, которые могут увести в противоположную сторону от цели. Умышленно я никогда не был и не буду бунтарем, никогда не буду принимать участие в мятежах».
От церковных споров Эразм ушел в искусство, в науку, в свои произведения. Ему внушают отвращение брань и споры противоборствующих богословских партий. «Con sulo quieti meae»[289]289
Оберегаю покой свой (лат.).
[Закрыть], только покоя жаждет он, святой праздности художника. Но мир поклялся не оставлять его в покое. Существуют времена, когда нейтралитет именуется государственным преступлением, в такие мгновения мир требует ясности от каждого – «за» или «против», лютеранство или папство. В Лувене, в котором он живет, придерживаться нейтральной позиции трудно, и в то время, как реформаторская Германия порицает его за то, что он оказался слишком индифферентным другом Лютера, факультет городского университета, строго придерживающийся католицизма, ненавидит его и именует разносчиком «лютеровской заразы». Студенты, во все времена ударный отряд любой крайности, организуют против Эразма шумные шествия, опрокидывают его кафедру, ученые-богословы университета также энергично выступают против него, и папскому легату Алеандру приходится использовать весь свой авторитет, чтобы предотвратить публичные оскорбления старого друга.
Мужественным Эразм не был никогда, и в борьбе он предпочитает бегство. Подобно тому как раньше он бежал от заразы, теперь бежит он от ненависти из города, в котором жил и работал много лет. Поспешно собирает старый кочевник свои немногочисленные пожитки и отправляется в странствия: «Если я не покину Германию, то немцы – а сейчас они все словно одержимые – разорвут меня на куски; надо позаботиться о своей безопасности». Всегда убежденно сторонящийся любых партий, он не желает быть вовлеченным в жестокую борьбу.
* * *
Эразм по горло сыт католиками-фанатиками и протестантами-фанатиками. Он считает, что судьбой ему предопределен только нейтральный город. И он ищет убежище в извечном приюте любой независимости – в Швейцарии. На долгие годы он выберет Базель; расположенный в центре Европы, тихий и спокойный, с чистыми улицами, с уравновешенными, бесстрастными жителями, не подвластный никаким воинственным князьям, демократически свободный, он обещает независимому ученому тишину, которую тот так страстно ищет.
В университете – высокоученые друзья, хорошо знающие и глубоко уважающие его, здесь имеются фамули[290]290
Фамуль – искаженное от «фамулус» (лат.) – слуга, прислужник. Здесь: ассистент или студент, находящийся в распоряжении профессора для различных поручений.
[Закрыть], услужливые помощники в его работе, здесь живут художники, в том числе Гольбейн, и, конечно же, Фробен, печатник и прекрасный мастер своего дела, с которым его уже многие годы связывает совместная, доставляющая огромную радость, работа.
Почитатели позаботились о благоустроенном доме для него, впервые вечному бродяге кажется, что этот свободный, удобный для жизни город – его родина. Здесь может он жить в соответствии с потребностями своего духа, а следовательно – в подлинно своем мире. Он чувствует себя хорошо лишь там, где может писать в тиши свои книги, лишь там, где их напечатают – хорошо, со знанием дела.
Базель – важный этап в жизни Эразма. Здесь вечный путник живет дольше, чем где бы то ни было, полных восемь лет. Теперь нельзя представить себе Эразма без Базеля, а Базель– без Эразма. Отныне ученого и город соединяют славные, крепкие узы. До сих пор стоит здесь охраняемый городом его дом, здесь берегут некоторые картины Гольбейна, удержавшие для вечности его облик, здесь Эразм написал многие свои произведения, и прежде всего «Разговоры запросто», блестящие латинские диалоги, книгу, первоначально задуманную как учебник для юного Фробена и ставшую великолепным образцом для многих поколений книг латинской прозы. Здесь завершает он объемный труд «Отцы церкви», отсюда посылает он в мир письма; здесь, в своей рабочей крепости, в стороне от волнений мира, создает он произведение за произведением, и когда духовный мир Европы наблюдает за своим вождем, то обращает свой взор в сторону старого королевского города на Рейне.
Благодаря Эразму Базель в те годы становится резиденцией европейского духа. Вокруг великого ученого собираются гуманисты, его ученики, среди них – Эколампадий, Ренанус и Амербах; ни одно значительное лицо, ни один князь или ученый, ни один друг изящных искусств не преминет нанести визит в книгопечатню Фробена и в «дом на холме»; гуманисты Франции, Германии, Италии совершают сюда паломничество, чтобы увидеть глубоко почитаемого ими человека за работой. Похоже, что здесь, в тиши Базеля, искусства и науки нашли свое последнее пристанище, тогда как в Виттенберге, в Цюрихе, во всех университетах Германии, Швейцарии разгорается богословская борьба.
* * *
Но не заблуждайся, старый человек, время твое уже прошло, поле твое – опустошено. В мире разгорелась борьба не на жизнь, а на смерть, дух стал партийным, люди собираются во враждебные друг другу толпы: они не желают более терпеть независимых, свободных, стоящих в стороне. Во всем мире бушует война, решается вопрос – быть или не быть обновлению Евангелия, теперь бесполезно зашторивать окна, прятаться за книгами; теперь, когда Лютер разодрал христианский мир на две части, уже не спрячешь голову в песке, смешна детская попытка бежать в работу, книги Эразма никто читать не будет. Теперь и справа, и слева гремят ужасные слова: «Кто не с нами, тот против нас». Если вселенная раскалывается надвое – это несчастье каждого человека; нет, Эразм, напрасно бежал ты, огнем и дымом выкурят тебя и из этой твоей цитадели. Время желает, чтобы ты высказался, мир этот хочет знать, где стоит Эразм, его духовный вождь, с Лютером или против него, с папой или против него.
* * *
И начинается потрясающая трагедия. Мир решил уничтожить уставшего бороться человека. «Какое несчастье, – жалуется пятидесятипятилетний человек, – что эта ужасная буря захватила меня врасплох как раз тогда, когда я после проделанной мной большой работы рассчитывал на так необходимый мне отдых. Почему не дано мне быть просто зрителем этой трагедии, к участию в которой я совершенно не гожусь, зачем мне принимать в ней активное участие, когда такое множество людей страстно рвется на сцену?»
Но в подобные трагические времена слава обязывает и вызывает на себя проклятья. Эразм очень хорошо виден любопытствующим всего мира, слово его слишком весомо, чтобы люди той и другой партии могли пренебречь его авторитетом; всеми средствами вожди обеих партий пытаются перетянуть Эразма на свою сторону. Они соблазняют его деньгами и лестью, они высмеивают отсутствие у него мужества и все это делают для того, чтобы выкурить его из норы «сверхумного» молчания, они запугивают его ложными сообщениями о том, что Рим запретил читать его книги и предал их сожжению, они подделывают его письма, они извращают его собственные слова.
В подобные времена истинная цена независимого человека очевидна. И император, и короли, и три папы, а с другой стороны – Лютер, Меланхтон, Цвингли – все они домогаются одобрительного слова Эразма. Стоит ему лишь примкнуть к какой-либо партии, и его осыплют всеми мыслимыми земными благами, он знает, что сможет «стоять в первом ряду деятелей Реформации», если только ясно, недвусмысленно признает ее, но знает также и другое: «Я могу получить епископство, если письменно выступлю против Лютера». Но как раз эту безоговорочность и односторонность мировоззрения порядочность, честность Эразма принять не хочет, страшится ее.
Католическую церковь искренне, от всего сердца защищать он не может, так как первый в этом споре порицал злоупотребления в ней, требовал ее обновления, полностью же принять учение евангелистов он также не желает, поскольку они не несут в его, Эразма, мир идею Христа-миротворца, а превратились в диких фанатиков: «Они непрерывно кричат: Евангелие, Евангелие! А им следовало бы быть его толкователями. Прежде Евангелие диких смягчало, разбойников делало полезными людьми, спорщиков – миролюбивыми, ругателей – благословляющими. Эти же, словно одержимые, разжигают бунты и говорят заслуженным людям только скверное. Я вижу в них новых лицемеров, новых тиранов, ни искры евангелического духа в них нет». Нет, Эразм не желает примкнуть ни к одной из этих партий, ни к папе, ни к Лютеру. Лишь мир, мир, мир, лишь обособленность и тишина, лишь работа на благо всего человечества! «Con sulo quieti meae».
* * *
Но слава Эразма очень велика, каждая партия со страстным нетерпением ожидает, что он признает именно ее правоту. Со всех концов света множатся призывы, ему следует выступить, он должен сказать решительное слово – за себя и за других. Среди гуманистов глубоко укоренилась вера в него как в благородную и неподкупную личность; об этом, в частности, свидетельствует потрясающий по своей силе призыв, вырвавшийся из глубин души великого немецкого гения. Альбрехт Дюрер познакомился с Эразмом во время своей поездки в Голландию; несколько месяцев спустя, когда распространились слухи, что Лютер, вождь немецкого религиозного движения, умер, Дюрер видит в Эразме единственного человека, который достоин продолжить святое дело, и в потрясении души призывает Эразма в своем дневнике: «О Эразм Роттердамский, чью сторону ты примешь? Слушай, рыцарь Христа, выезжай вперед, встань рядом с Господом Христом, защити правду, добудь мученический венец! Ты уже старый человек, я сам от тебя слышал, что ты считаешь, будто работать тебе осталось всего пару лет. Отдай их Евангелию и праведной христианской вере в Бога, и ты убедишься, что римский престол, эти адовы врата, как говорил Христос, никогда тебя не осилит… О Эразм, держись, чтобы я славил тебя перед Богом, как Давида, ведь ты можешь свершить деяния и поистине повалишь Голиафа».
* * *
Так думает Дюрер и с ним вместе – вся Германия. Но и католическая церковь, находящаяся в бедственном положении, тоже рассчитывает на Эразма, и наместник Христа на земле, папа, в письме, написанном им лично, едва ли не дословно повторяет призывы Дюрера: «Выступи вперед, выступи вперед ради поддержания дела Божьего! Употреби свои блестящие дарования во славу Божью! Думай о том, что с Божьей помощью именно тебе надлежит вернуть на праведную стезю большую часть тех, кто был совращен Лютером, сохранить в твердой вере еще не отпавших, предостеречь близких к отпадению!» Наместник Христа и его епископы, владыки мира – Генрих VIII Английский, Карл V, Франциск I, Фердинанд Австрийский, герцог Бургундский, а с другой стороны – вожди Реформации, все они, прося и торопя принять благоприятное для своей партии решение, стоят перед Эразмом, как в свое время стояли гомеровские вожди перед палаткой разозленного Ахилла, умоляя его оставить праздность и вернуться на поле боя.
Сцена великолепна – редко в истории случалось, чтобы сильные мира сего боролись за слово человека духа. Редко верховная власть духа имела такие безусловные преимущества перед земной. Но и здесь в сущности Эразма обнаруживается тайный дефект. Он не говорит домогающимся его благосклонности ясно, героически: «Я не желаю!» Ему не решиться открыто и отчетливо сказать слово «нет». В силу присущей ему внутренней независимости он не желает быть ни с одной партией. Но он одновременно и не хочет портить отношения ни с одной партией; и таким образом, его вообще-то правильное поведение выглядит весьма недостойно. Он не решается оказать открытое сопротивление всем этим могущественным людям, своим покровителям, поклонникам, всем, кто оказывает ему поддержку.
Нет, он не дает им ясного ответа, он выискивает всяческие отговорки, уклоняется, лавирует, тянет, вольтижирует – здесь следует осмотрительно выбирать самые точные слова, чтобы суметь передать искусство его поведения, – он обещает и воздерживается выполнять, пишет обязывающие слова, не связывая себя ими, льстит и притворствует, задержку ответа объясняет то болезнью, то усталостью, то некомпетентностью. Папе он с утрированной скромностью отвечает: как? Он, ничтожная личность, он, образование которого более чем скромное, должен взять на себя чудовищный труд – истребление ереси? Короля Англии обнадеживает из месяца в месяц, из года в год. Меланхтона и Цвингли успокаивает льстивыми письмами.
Однако за всей этой малосимпатичной возней таится решительная воля: «Если кто-либо считает Эразма скверным христианином, не желает ценить его, пусть думает о нем все, что ему угодно. Другим, чем я есть, я быть не могу. Если Христос оделил кого-нибудь большими духовными силами и если этот человек к тому же еще и более уверен в себе, чем я, пусть он и отдаст свои силы во славу Христа. В соответствии с моим темпераментом, с моим характером я предпочитаю идти более спокойной, более безопасной дорогой. Я не могу иначе, я ненавижу раздор, люблю мир и взаимопонимание, так как понял, насколько безнадежно решать иные человеческие вопросы. Я знаю, что неизмеримо легче поднять смуту, чем ее успокоить. И, не во всех вопросах доверяя своему разуму, я предпочитаю встать в сторону от этих вопросов, уклониться от однозначного высказывания своего мнения по любому из них. Я хотел бы, чтобы все мы боролись за победу христианского дела и мирного Евангелия, но не оружием насилия, а лишь силой правды и разума, чтобы мы понимали друг друга и чтили и достоинство священнослужителей, и свободу народа – то есть поступали так, как этого хотел наш Господь Иисус. Эразм в меру своих сил поддержит всех, кто будет стремиться к этому. Но никто, желающий втянуть меня в свару, не станет мне ни вождем, ни товарищем».
Решимость Эразма непреклонна: годы и годы император, короли, папы и реформаторы, Лютер, Меланхтон, Дюрер – весь огромный воинственный мир – будут ждать и ждать, и никому из них не удастся выжать из него слова согласия. Его губы вежливо улыбаются каждому, но для последнего решающего слова они упрямо сжаты.
* * *
Но есть один, не желающий ждать, горячий, нетерпеливый воин духа, непреклонно решивший разрубить этот гордиев узел: Ульрих фон Гуттен. Этот «рыцарь против смерти и черта», этот архангел Михаил немецкой Реформации с верой и любовью смотрит на Эразма, словно на отца; сокровенной мечтой страстно преданного гуманизму юноши было «стать Алкивиадом этого Сократа»; всю свою жизнь он доверчиво передал в руки Эразма: «In summa[291]291
В общем (лат.).
[Закрыть], если боги защитят меня, а ты сохранишь меня для славы Германии, я буду отказываться от всего, лишь бы остаться с тобой». Эразм, со своей стороны, всегда очень чувствительный к знакам преклонения, сердечно поддерживает этого «неповторимого любимца муз». Он привязан к цветущему молодому человеку, бросившему в небо, словно железного жаворонка, великолепное ликующее «О saeculum, о litterae! Juvat vivere!»[292]292
О век, о науки! Какая радость жить! (лат.)
[Закрыть], это блаженное, исполненное доверия «Какая радость жить!».
Эразм искренне надеется воспитать из юного странствующего студента большого ученого. Но очень скоро политика захватывает молодого Гуттена, спертый воздух библиотеки становится ему душен, груды книг гуманизма перестают удовлетворять его широкие запросы. Молодой рыцарь и сын рыцаря, он вновь надевает свои доспехи, он не желает более воевать только пером, он хочет поднять меч на папу и папство. И, увенчанный лаврами латинского поэта, он бросает этот чужой, выученный им язык затем, чтобы немецкими словами призвать Время к оружию за дело немецкого Евангелия:
Писал я раньше на латыни,
Не всякий мог меня понять…
Услышь мой крик, отчизна-мать.
Но Германия изгоняет бесстрашного человека, в Риме хотят предать его сожжению как еретика. Выброшенный из своего дома, обедневший и преждевременно – в тридцать пять лет – состарившийся, до костей изъеденный язвами французской болезни, покрытый гнойными нарывами, из последних сил тащится он в Базель. Ведь там живет его великий друг, «светоч Германии», его учитель, его покровитель – Эразм, предвещавший ему, Гуттену, славу; дружба Эразма сопровождала его в изгнании, рекомендательные письма – поддерживали; ему, Эразму, обязан он своей творческой силой, увы, почти полностью утраченной, растраченной, разрушенной. И, словно потерпевший кораблекрушение человек, который хватается за доску, за бревно, чтобы удержаться на темной волне, этот демонический изгнанник перед самой своей смертью спешит к Эразму.
Но Эразм – никогда жалкая боязливость его души не обнажалась так полно, как в этом потрясающем испытании, – не впускает отверженного в свой дом. Уже давно неприятен, неугоден ему этот вечный задира и спорщик; еще живя в Лувене, когда Гуттен настоятельно просил его объявить священникам открытую войну, он писал отклоняюще: «Моя задача – способствовать делу образования». Он не желает иметь никаких дел с этим фанатиком, который писательский труд отдал на потребу политике, с этим «Пиладом Лютера», во всяком случае открыто и никак не в этом городе, где за ним наблюдают сотни соглядатаев. Эразм боится этого жалкого, затравленного, загнанного до полусмерти человека, боится его по трем причинам: во-первых, как носителя заразы – ничего Эразм не боится так сильно, как опасности заразиться, – ведь Гуттен может попросить пристанища в его доме; во-вторых, потому, что этот «egens et omnibus rebus destitutus», этот нищий, лишенный всякого имущества, будет ему надолго в тягость; и в-третьих, потому, что этот его бывший ученик, оскорбляющий папу и подстрекающий немцев к войне против священников, компрометирует беспартийность Эразма, так выставляемую им напоказ. И Эразм отклоняет посещение Гуттена, но, как обычно, не открыто, решительно: «Я не желаю», а под надуманным предлогом, что, дескать, не может принять нуждающегося в тепле Гуттена в отапливаемых комнатах, так как из-за болей в почках и колик ему, Эразму, просто непереносим любой, даже самый малый печной угар, – очевидная или, вернее, жалкая отговорка.
И вот на виду всего города разыгрывается постыдный спектакль. По Базелю, тогда еще маленькому городку, в котором, наверное, не более сотни улиц и всего две-три площади, где каждый знает каждого, по улицам, по трактирам неделями бродит, хромая, достойный жалости больной Ульрих фон Гуттен, большой писатель, трагический ратник Лютера и немецкой Реформации, не один раз в день проходя мимо дома, где живет его бывший друг, первый его покровитель, человек, побудивший его бороться за святое дело Евангелия. Иной раз Гуттен останавливается на рыночной площади и гневно смотрит на запертую дверь, на окна, наглухо закрытые в страхе человеком, который некогда восторженно провозгласил его новым Лукианом, величайшим сатириком своего времени. За окнами, бессердечно закрытыми ставнями, сидит, словно улитка в своей раковине, Эразм, сухонький человечек, ждет и не может дождаться, когда же этот нарушитель покоя, этот назойливый бродяга наконец-то покинет Базель. Негласно к обеим сторонам обращаются доброжелатели – все ждет Гуттен, что дверь откроется и наконец-то старый друг протянет ему руку помощи. Но Эразм молчит, обороняясь нечистой совестью, осторожно прячется в своем доме.
Наконец Гуттен уезжает – с отравленной кровью, с ядом в сердце. Он направляется в Цюрих, к Цвингли, который бесстрашно примет его. Пройдет несколько месяцев, и рыцарь Реформации найдет наконец себе вечный покой на острове Уфенау. Но прежде чем пасть, этот Черный рыцарь без страха и упрека в последний раз поднимет сломленный меч, чтобы его обломком смертельно ранить сверхосторожного Эразма, отрекшегося от своего ученика. Насыщенным гневом трактатом – «Expostulatio cum Erasmo»[293]293
«Требования к Эразму» (лат.).
[Закрыть] – нападает он на своего бывшего друга, на своего вождя. Он обвиняет его перед всем светом в ненасытном честолюбии, в том, что тот завидует успехам ученых (язвительный намек на споры Эразма с Лютером), вменяет ему в вину презренную непорядочность в отношениях с людьми, стыдит его образ мыслей и кричит всей немецкой земле в ожесточении, что Эразм бросил на произвол судьбы национальное дело, дело Лютера, постыдно предал его, хотя внутренне и принадлежит ему.
Со смертного одра бросает Гуттен в лицо Эразму пламенные слова, говорит Эразму, что, если у того недостает мужества защищать дело Евангелия, то пусть открыто нападает на это дело, ведь в рядах евангелистов уже давно никто не считает его своим: «Препояшься, время приспело для действия, и задача достойна твоего преклонного возраста. Соберись с силами и направь их на ратный подвиг. Ты найдешь своего противника во всеоружии. Партия лютеран, которых ты хотел смести с лица земли, ждет битвы и не уклонится от нее». Прекрасно понимая тайную раздвоенность Эразма и то, что он к этой битве не готов, так как совесть его принимает многое в учении Лютера, Гуттен пишет: «Одна часть тебя будет направлена против нас, а вернее, против твоих собственных более ранних произведений, ты вынужден будешь свою совесть направить против себя самого и своим красноречием новым бороться с красноречием прежним. Твои собственные произведения будут бороться друг против друга».
Эразм сразу же чувствует силу удара. До сих пор на него тявкали лишь мелкие людишки. Время от времени разозленные писаки ставили ему в вину небольшие погрешности, допущенные им в переводах, неточные цитаты, нечеткие формулировки; но и эти неопасные укусы доставляли неприятные минуты очень чувствительному человеку. Здесь же впервые на него нападает настоящий противник, бросает ему вызов перед всей Германией. Перепуганный, он пытается было задержать печатание рукописи Гуттена, которая пока распространяется в списках, но так как ему это не удается, то гневно хватается за перо и отвечает своим «Spongia adversus asperjines Hutteni»[294]294
«Губка против Гуттена» (лат.).
[Закрыть], чтобы губкой стереть несправедливые нападки Гуттена. Он борется не на жизнь, а на смерть – и не страшится даже в этой жестокой битве посылать противнику удары ниже пояса, зная, что такие удары смертельно ранят Гуттена.
В четырехстах двадцати четырех параграфах отвергает он каждую нападку своего противника и, наконец, в заключении – Эразм всегда остается великим, когда дело касается самого главного для него, самого основного – независимости, – очень ясно и точно формулирует свое кредо: «В бесчисленных книгах, в бесчисленных письмах, в бесчисленных диспутах и спорах я непреклонно заявлял, что не желаю присоединиться ни к какой партии. Если Гуттен злится на меня за то, что я, как ему хотелось бы, не поддерживаю Лютера, то уже три года назад я во всеуслышание заявил, что совершенно чужд этой партии и хочу остаться ей чужим; и не только я один остаюсь вне этой партии, но и побуждаю к этому также всех моих друзей. На этой позиции останусь неколебимо. Под партией я понимаю полное, безоговорочное признание всего, что Лютер написал, пишет или когда-либо напишет; такого рода полное саморастворение иногда происходит с превосходными людьми, я же публично всем моим друзьям заявил, что не являюсь ортодоксальным лютеранином, пусть они, если хотят, принимают меня именно таким, каков я есть. Я люблю свободу и никогда не смогу служить одной партии».
* * *
Сильный ответный удар в Гуттена не попал. Когда гневное послание Эразма выйдет из книгопечатни, вечный воитель Гуттен уже будет покоиться вечным сном, и Цюрихское озеро мягким своим шумом будет баюкать его одинокий гроб. Смерть победит Гуттена прежде, чем его достигнет смертельный удар Эразма. Но умирающему Гуттену, великому побежденному, удалось все же одержать последнюю победу: он добился того, что не удалось ни императору, ни королям, ни папе, ни клиру, обладающим чудовищной властью; ядом насмешек выкурил он Эразма из лисьей норы. Публично вызванный, обвиненный перед всем светом в робости и нерешительности, Эразм должен объяснить, что он не страшится столкновения с самым сильным из его противников, с Лютером; он должен раскрыть карты, он должен показать, что по принципиальным соображениям не может примкнуть к какой бы то ни было партии.
С тяжелым сердцем приступает Эразм к делу, старый человек, которому ничего более не нужно, кроме покоя. Он нисколько не заблуждается в том, что дело Лютера давно уже переродилось в насилие, которое пером не перебороть. Он знает, ему никого не переубедить, он ничего не сможет изменить, ничего – улучшить. Без удовольствия, безрадостно вступает он в навязанный ему бой. Но назад уже пути нет. И, передавая наконец в 1524 году печатнику сочинение против Лютера, он с облегчением вздохнет: «Alea jacta est!» – «Жребий брошен!»
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































