Текст книги "Поэты, писатели, безумцы. Литературные биографии"
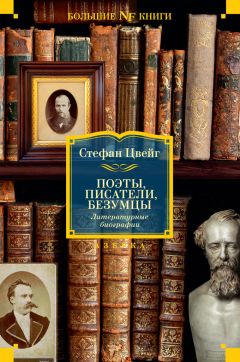
Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 40 (всего у книги 60 страниц)
Его самого, Стендаля, чувствуешь до конца как художника только в патетические миги его героики. Художественная мощь и живость его произведений обусловлены единственно внутренним движением. Они лучше всего там, где обнаруживается его душевное соучастие, и всего несравненнее, когда собственная душа Стендаля, пугливая и таящаяся, воплощается в словах и действиях его любимых героев, когда он заставляет их страдать от собственной раздвоенности. Описание битвы при Ватерлоо в «Пармской обители» представляет собой подобную гениальную аббревиатуру всей его итальянской юности. Как некогда сам он в Италию, так и его Жюльен отправляется к Наполеону, чтобы на полях сражений обрести ту героику, к которой тянется его душа; но шаг за шагом действительность обрывает его идеальные представления. Вместо звучного грохота кавалерийских атак переживает он бессмысленный хаос современной битвы, вместо великой армии встречает шайку грубых, изрекающих хулы наемников, вместо героев – людей, одинаково посредственных и дюжинных как под простой одеждой, так и под расшитым мундиром. Эти миги отрезвления освещены им с мастерством исключительным; ни один художник с большим совершенством не показал того, как душевная восторженность неизменно посрамляется в земном нашем мире холодной действительностью; в моменты, когда нервы мозга и чувства, наэлектризованные, готовы дать вспышку, когда обнажается двойственность Стендаля, психологический его гений неизменно торжествует. Только там, где он показывает своего героя в родственных себе переживаниях, он становится художником превыше своего понимания искусства; его образы совершенны только тогда, когда они вызваны к жизни родственностью душ. Таким образом, последние, заключительные слова его автобиографии вскрывают и последнюю тайну его искусства: «Quand il était sans émotion, il était sans esprit».
Но странно, именно эту тайну своего соучастия хочется Стендалю, сочинителю романов, скрыть какой бы то ни было ценой. Он стыдится того, что случайный и, может быть, иронически настроенный читатель отгадает, сколько душевной своей наготы вложил он в этих воображаемых Жюльенов, Люсьенов и Фабрицио. Пусть никто не заподозрит, что каждый его нерв дрожит в унисон описываемому, – того требует его странное душевное целомудрие. Потому и притворяется Стендаль в своих эпических произведениях холодным как лед; он прикидывается, будто дает в чисто деловом изложении хронику каких-нибудь дальних событий романического свойства, он сознательно леденит свой стиль: «Я всячески стараюсь быть сухим».
Но он сказал лучше и искреннее: «pour paraitre sec» – казаться безучастным, ибо нужно иметь очень уж нетонкий слух, чтобы это нарочитое «secco»[193]193
Сухо (фр.).
[Закрыть] обмануло относительно эмоционального соучастия писателя. Кто-кто из романистов, только уж не Стендаль был в своем повествовании холоден, он, патетик из патетиков! На самом деле, с той безнадежностью, с которой он в своей личной жизни противился «de laisser deviner ses sentiments» – выдавать свои чувства, пытается он и в своих произведениях стыдливо скрывать свое волнение за ровным и бесстрастным тоном. Публичная исповедь чувства отвратительна этому поклоннику такта, этому сверхвпечатлительному человеку, как выставленная напоказ зияющая рана; его замкнутая душа отвергает всякий участливый трепет, подступающие к горлу слезы, шатобриановский «ton déclamatoire», актерскую напыщенность, перекочевавшую из театра в литературу. Нет, лучше казаться жестким, чем слезливым, лучше безыскусственность, чем пафос, лучше уж логика, чем лирика! Он и пустил в оборот набившие в дальнейшем оскомину слова – что каждое утро перед работой он читает свод гражданских законов, насильно приучая себя к его сухому и деловому стилю. Но при этом Стендаль вовсе не рассматривал сухость как свой идеал; на самом деле за этим «amour exagéré de la logique»[194]194
«Преувеличенная любовь к логике» (фр.).
[Закрыть], за любимой своей прозрачностью он искал единственно стиля незаметного, который словно улетучивается, создав представление: «Стиль, как прозрачный лак, не должен изменять окраски, т. е. действия и мысли, им прикрываемые». Слово не должно выпирать лирически, при помощи затейливых колоратур, «fiorituri» итальянской оперы, на первый план; наоборот, оно должно исчезать за предметностью, оно должно, как хорошо скроенный костюм джентльмена, не бросаться в глаза и лишь точно выражать движения души. Ибо точность для Стендаля дороже всего; его галльский инстинкт ясности ненавидит все расплывчатое, затуманенное, патетическое, напыщенное, раздутое, и прежде всего тот самоуслаждающийся сентиментализм, который Жан-Жак Руссо перетащил во французскую литературу. Он хочет ясности и правды даже в самом смятенном чувстве, добивается света для самых затененных уголков сердца. «Ecrire» – писать – значит для него «anatomiser», т. е. разлагать сложное ощущение на его составные части, устанавливать градусы жара, клинически наблюдать страсть как некую болезнь. Ибо в искусстве, как и в жизни, все запутанное бесплодно. Кто опьяняет сам себя грезами, кто с закрытыми глазами бросается в свое собственное чувство, тот, в очаровании услады, упускает высшую, духовную форму наслаждения – познания в наслаждении; только тот, кто точно мерит свою глубину, мужественно и во всей полноте ею наслаждается; только тот, кто наблюдает свою смятенность, познал красоту собственного чувства. Поэтому охотнее всего упражняется Стендаль в старой персидской добродетели – осмысливать ясным умом то, о чем поведало, в своем опьянении, восторженное сердце; душой преданнейший слуга своей страсти, он, по рассудку, ее постоянный господин. Познать свое сердце, придать новое очарование тайне своей страстности, разумом измеряя ее глубины, – вот формула Стендаля. И так же точно, как он, чувствуют и его духовные чада, его герои. И они не хотят поддаться обману, позволить слепому чувству увлечь себя в неизвестность; они хотят быть настороже, наблюдать это чувство, исследовать его, анализировать, они хотят не только чувствовать свои чувства, но одновременно и понимать. Ни одна фаза, ни одно изменение не должны скрыться от их бдительности; непрестанно проверяют они себя: подлинно ли данное ощущение или ложно, не кроется ли за ним другое, еще более глубокое. Когда они любят, они время от времени переводят двигатель своей страсти на холостой ход и следят по стрелке за числом атмосфер, давлению которых они подвержены, статистики своего собственного сердца, трезво мыслящие, чуждые сентиментальности исследователи своих чувств. Неустанно спрашивают они себя: «Полюбил я уже ее? Люблю ли ее еще? Что чувствую я в этом ощущении и почему не чувствую больше? Искренне ли мое влечение или надуманно? Может быть, я сам себе внушаю чувство к ней или, может быть, просто разыгрываю что-то?» Неустанно держат они руку на пульсе своей возбужденности, сразу замечая, если хоть на мгновение кривая сердечного жара оборвется; их бдительность беспощадно контролирует их самозабвение, с механической точностью учитывают они расход своего чувства. Даже в моменты самых увлекательных переживаний торопливый ход повествования прерывается этими «подумал он», «сказал он сам себе»; для всякого движения, для всякого нервного толчка ищут они, как физики или физиологи, рассудочных объяснений.
Это сообщает им особенную, чисто стендалевскую двойственность: вдохновенно рассчитывают они свои чувства и после холодного размышления решаются на страсть, как на предприятие. В качестве примера, для того чтобы показать, с каким холодным расчетом, с какой прозорливой бдительностью Стендаль заставляет действовать своих героев даже в пылкие мгновения увенчавшейся обладанием юношеской страсти, беру описание знаменитой любовной сцены из «Красного и черного». Жюльен, рискуя жизнью, в час ночи взбирается по лестнице к мадемуазель де ла Моль, близ открытого окна ее матери, – поступок, продиктованный романтическим сердцем и проверенный страстным расчетом, – но в разгаре страсти над обоими берет верх разум. «Жюльен был очень смущен, он не знал, как держать себя, он не чувствовал никакой любви. В своей застенчивости решил он быть смелым и попробовал ее обнять. „Фу“, – сказала она и оттолкнула его. Он остался очень доволен этим и торопливо огляделся кругом». Так рассудочно-сознательно, так холодно-осторожно мыслят герои Стендаля даже в самых своих рискованных приключениях. И прочтите теперь продолжение сцены, когда в конце концов, после всяческих волнующих соображений, гордая девушка отдается секретарю своего отца. «Матильде стоило некоторого труда сказать ему „ты“. И так как это „ты“ произнесено было без нежности, оно не доставило Жюльену никакого удовольствия; он с удивлением сообразил, что не чувствует пока никакого счастья. Для того чтобы все-таки почувствовать его, он в конце концов обратился к рассуждению: он представил себе, что пользуется благосклонностью молодой девицы, которая до сих пор ни о ком не отзывалась до конца благосклонно. Благодаря таким соображениям он создал себе счастье, исходившее из удовлетворенного самолюбия». Значит, в силу «соображения», без всякой нежности, без какого бы то ни было пылкого порыва соблазняет этот мозговой эротик романтически любимую девушку; а та, в свою очередь, говорит сама себе, непосредственно «après»[195]195
Потом (фр.).
[Закрыть]: «Надо теперь говорить с ним, так полагается, с возлюбленным ведь разговаривают». «Кто женщиной подобною владел?» – приходится спросить вместе с Шекспиром; решился ли какой-нибудь писатель до Стендаля заставить людей, в самый миг обольщения, так холодно и с таким расчетом себя контролировать, да еще людей, в жилах которых, подобно всем стендалевским характерам, отнюдь не рыбья кровь.
Но тут мы близко подходим к сокровеннейшим приемам Стендаля как мастера психологической изобразительности, разлагающего даже высший жар на градусы и дробящего чувство по его импульсам. Никогда Стендаль не рассматривает страсть в целом, а всегда делит ее на составные элементы; он следит за ее кристаллизацией в лупу, даже в лупу времени; то, что в реальном пространстве протекает как единое судорожное движение, его гениальный аналитический ум рассекает на бесконечное множество молекул времени; он искусственно замедляет психические движения, чтобы сделать их более ясными нашему уму. Действие стендалевских романов разыгрывается, таким образом, исключительно в пределах психического, а не земного времени – в этом их новизна! Оно, это действие, протекает не столько в области вещественных событий, сколько на молниеносных нервных путях, соединяющих мозги сердце; начиная со Стендаля, эпическое искусство впервые обращается к освещению бессознательных функциональных процессов, обещая дальнейшее развитие в этом направлении; «Красное и черное» открывает собой тот «roman experimental»[196]196
«Экспериментальный роман» (фр.).
[Закрыть], которому суждено впоследствии создать кровное родство между психологической наукой и поэтическим творчеством.
Нас не должно удивлять, что современники Стендаля, еще не подготовленные к такому почти математическому анализу чувства, отвергали поначалу этот новый род искусства, считая его грубой механизацией душевных переживаний; в то время как сам Бальзак (не говоря уже о других) преувеличивал и объединял каждое душевное движение почти до пределов мономании, Стендаль упорно, при помощи микроскопа, ищет бацилл, возбудителей всякой страсти, ищет незримых носителей и передатчиков той особой болезни, которую психология, пребывающая еще в пеленках, обозначает неясным и чрезмерно обобщающим словом «amour», любовь; его интересуют именно варианты любви, в пределах этого широкого понятия, дробление чувства на мельчайшие клеточки, движущий момент каждого движения. Несомненно, от такого неторопливо-исследовательского метода теряется кое-что в плавности и нарастающей силе импульсивного воспроизведения; некоторые страницы Стендаля отзываются трезвостью лабораторной обстановки или прохладой школьного помещения; но тем не менее художественная напряженность Стендаля столь же творчески действенна, как и у Бальзака, и лишь обращена к логике, к фанатическому исканию ясности, к познанию душевных тайников. Его мировосприятие есть лишь обходной путь к восприятию души, его образотворчество – лишь опыт на пути создания собственного образа. Ибо Стендаль, эгоист в высшем, самом высшем смысле этого слова, дает образы страсти лишь затем, чтобы вернуть их себе обратно усиленными и осознанными; он старается узнать человека лишь затем, чтобы лучше узнать самого себя; искусства ради искусства, радости объективного изображения, изобретательства и сочинительства, самодовлеющего творчества Стендаль – тут его граница – никогда не знал и никогда к этому не стремился.
Никогда не доходит этот себялюбивейший из художников, этот мастер в области духовного аутоэротизма, до бескорыстного отказа от себя во имя вселенной, до потребности раствориться до конца в чувстве, до широкого душевного движения: «Прими, о мир, меня в объятья»; неспособный чувствовать такое самоотреченье, Стендаль, несмотря на свое выдающееся понимание искусства, не способен понимать и творчество таких писателей, которые черпают свою мистическую мощь не только из области человеческой, но и из первоисточника всякого хаоса, из космоса. Все паническое, все титаническое, все проникнутое чувством вселенной – Рембрандт, Бетховен, Гёте – пугает этого человека, и только человека; всякая сумрачная и не осмысленная до конца красота остается безнадежно сокрытой от его острого умственного взора, – он постигает прекрасное только в аполлинически-выдержанных, отчетливых очертаниях – Моцарта и Чимарозы, мелодически ясных в музыке, Рафаэля и Гвидо Рени, сладостно-понятных в живописи; он остается полностью чужд другим, великим, раздираемым, гневно-расщепленным, гонимым демоническими силами. Среди шумного мира его страстное любопытство приковано только к человечеству, а среди человечества – только к одному, непостижимому до конца человеку, к микрокосму, к Стендалю. Для того чтобы постигнуть этого единственного, стал он писателем; стал творцом только для того, чтобы его сотворить. Один из совершеннейших художников в силу своего гения, Стендаль лично никогда не служил искусству; он пользовался им только как тончайшим и духовнейшим из инструментов, чтобы измерить полет души и воплотить его в музыку. Никогда не было оно для него целью, а всегда только средством, ведущим к единственной и вечной цели – к открытию своего «я», к радости самопознания.
De voluptate psychologica[197]197О психологическом желании (лат.).
[Закрыть]
Моей истинной страстью было познавать и испытывать. Эта страсть так и не получила полного удовлетворения.
Как-то в обществе подходит к Стендалю добрый буржуа и в вежливо-благодушном тоне осведомляется у незнакомого ему господина о его профессии. Тотчас же коварная улыбка кривит рот этого циника, в маленьких глазках появляется надменный блеск, и он отвечает с наигранной вежливостью: «Je suis observateur du coeur humain» – наблюдатель человеческого сердца. Ирония, конечно, порожденная мгновенной глумливой мыслью поразить мещанина, но все же к этой шуточной игре в прятки примешалась добрая доля откровенности, так как в действительности Стендаль всю свою жизнь ничем не занимался так планомерно и целеустремленно, как наблюдением над душевными процессами. Его справедливо можно причислить к искуснейшим психологам всех времен, к великим знатокам души и признать его новейшим Коперником в области астрономии сердца; и все-таки Стендаль вправе улыбнуться, если ему самому или кому-либо другому случится по ошибке признать психологию его призванием. Ибо призвание обозначает во всех случаях полнейшую увлеченность, означает профессиональную, целеустремленную деятельность, в то время как Стендаль никогда не занимался изучением души систематически, научно, а всегда как бы мимоходом, ambulando, прогуливаясь и развлекаясь. И если до сих пор неоднократно упоминалось, то придется, в целях ясности, настоятельно подчеркнуть и еще раз: всегда и во всех случаях, когда Стендалю приписывают сколько-нибудь серьезное отношение к работе, строгую деловитость, пафос или мораль, – его, в отношении его характера, понимают плохо, судят вкривь и вкось. Даже свои страстные увлечения этот поразительно легкий ценитель жизни, избравший себе девизом «L’unique affaire de la vie est le plaisir»[198]198
Единственное дело в жизни – это удовольствие (фр.).
[Закрыть], переживал, не морща значительно лоб, не выполняя усидчиво программу, а единственно для «diletto», для личной сердечной утехи, бесцельно и непринужденно.
Никогда не принадлежит он своему творению с маниакальной беззаветностью какого-нибудь Бодлера или Флобера; творя образы, он поступает так, чтобы в них полнее насладиться собой и вселенной; равным образом и в своих путешествиях он не уподобляется какому-нибудь Гумбольдту, тщательно обследующему и обмеряющему встречные земли, а ведет себя как турист, восхищающийся на прогулке природой, нравами и чужеземными женщинами. Точно так же и психологией он не занимается в качестве «главного предмета», как можно было бы выразиться про ученого (к каковым он не относится); никогда не бросается он навстречу познанию со сверлящей и жгучей совестливостью Ницше или с покаянной жаждой Толстого; познание, так же как искусство, для него лишь род наслаждения, усиленное прохождением через мозг; он любит познание не как задачу, а как одну из осмысленнейших игр ума. Поэтому к каждой из его склонностей, к каждому увлечению примешивается легкий, радостный тон, что-то поистине музыкальное, блаженное и дающее крылья, что-то от легкости и жгучей страстности огня.
Нет, он не похож на суровых, усердных пролагателей путей в глубины этого мира, на немецких ученых, не похож и на таких пылких, гонимых жаждой охотников за последним познанием, как Паскаль и Ницше. Мышление Стендаля – это опьяняющая радость мысли, чисто человеческая утеха, светлая и звенящая игра нервных центров, подлинное и настоящее, истинное и редкое в мире сладострастное любопытство.
Стендаль знал как немногие это логическое сладострастие и служил ему в степени, близкой к порочности; но как овеяно его тонкое опьянение тайнами сердца, как легко, как одухотворяюще его психологическое искусство! Из мудрой нервной системы, из тонкой, ясно прозревающей чувствительности возникает его любопытство и, протягивая свои щупальца, с какой-то возвышенной похотью высасывает сладкий мозг духа из живых вещей. Этот гибкий интеллект не нуждается в том, чтобы хватать с налету, не душит своих жертв и не ломает им костей, дабы уложить в прокрустово ложе своей системы; стендалевский анализ блещет неожиданностью внезапных счастливых открытий, новизной и свежестью случайных встреч. Его благородная и мужественная страсть слишком горда для того, чтобы, в поту и запыхавшись, гнаться за частицами познания и травить их на смерть сворами аргументов; он брезгливо презирает непривлекательное ремесло непрестанного вспарывания животов у фактов и разглядывания их внутренностей, по образцу древних жрецов, – его тонкая восприимчивость, высоко развитое в области эстетики осязание не нуждаются в грубой и алчной хватке. Аромат вещей, неуловимое дыхание их сущности, их легчайшие излучения вполне определяют для этого гения вкуса их смысл и их тайну; по ничтожному движению он узнает чувство, по анекдоту – историю, по афоризму – человека; ему достаточно мимолетной, еле осязаемой детали, «raccourci», слабого намека, чтобы острым взором уловить целое; он знает, что эти разрозненные наблюдения, «les petits faits vrais», имеют в психологии решающее значение. «Только в деталях правда и оригинальность», – говорит в его романе банкир Левен, и сам Стендаль превозносит метод «справедливого предпочтения деталей», предчувствуя следующее столетие, которое перестанет возиться с пустыми, тяжеловесными, претендующими на широкий охват психологическими гипотезами и будет по молекулярным истинам о клетках и бациллах воссоздавать тело, а по кропотливым наблюдениям над деталями, по легчайшему трепету нервов – исчислять напряжение душ. В то самое время, когда преемники Канта, Шеллинг, Гегель и им подобные, с ловкостью фокусников ловят с кафедры в свои профессорские шляпы мировую истину, этот отшельник, влекомый к познанию себялюбием, знает уже, что пора многобашенных дредноутов от философии, пора гигантских систем безвозвратно миновала и что только легко скользящие подводные лодки малых наблюдений господствуют в океане духа.
Но как одинок он в своем искусстве умной догадки, среди односторонних профессионалов и потусторонних поэтов. Как обособлен он, как опередил их, усердных, вышколенных психологов тогдашнего времени, как далеко опередил он их тем, что не тащит за спиной груза начиненных эрудицией гипотез; он, вольный стрелок в великой войне духа, никого не хочет завоевать и поработить – «Я не порицаю, не одобряю, а только наблюдаю», – он гонится за познанием ради игры, ради спорта, ради собственной мудрой услады! Подобно своему собрату по духу, Новалису, так же, как он, опередившему философию поэтическим своим вымыслом, он любит только «пыль от цветка» познания, эту случайным ветром занесенную, но пронизанную сущностью всего живого пыльцу, плодотворящую стихию, в которой заложены все возможные, широко разветвляющиеся системы познания.
Наблюдательность Стендаля неизменно направлена лишь на мельчайшие, доступные только микроскопу изменения, на короткие мгновения первичной кристаллизации чувства. Только тут подходит он жизненно-близко к тому таинственному моменту слияния духа и тела, который схоластики высокопарно именуют «мировой загадкой»; в минимуме восприятия видит он залог величайшей истины.
Таким образом, его психология кажется поначалу филигранной, кажется искусством миниатюры, игрой в тонкости, ибо везде, в том числе и в романах, открытия Стендаля, его догадки и прозрения касаются только предельных проявлений, последних, едва уж воспринимаемых движений чувства; но он держится непоколебимого (и справедливого) убеждения, что малейшее достоверное проявление чувства больше дает для познания движущих сил души, чем всякая теория; нужно научиться определять душевные изменения по сокровеннейшим симптомам, подобно тому как определяют температуру тела по тонким делениям ртути в термометре, ибо наука о душе не располагает иным, более надежным доступом во мрак, как только эти случайно проявляющиеся признаки. И вот достаточно «в течение всей жизни внимательно наблюдать пять-шесть идей» – и уже обозначаются – не директивно, а, конечно, только для индивидуального наблюдателя – законы, своего рода духовный строй, понять который или хотя бы угадать составляет радость и наслаждение для всякого истинного психолога.
Таких мелких удачных наблюдений Стендаль сделал бесчисленное множество, множество мгновенных открытий, из которых некоторые стали аксиомами, фундаментом для всякого художественного воспроизведения духовной жизни. Но сам Стендаль не придает никакого значения этим находкам; мысли, его осенившие, он небрежно бросает на бумагу, не приводя их в порядок и тем более в систему; в его письмах, дневниках, романах можно найти эти зерна добротной истины рассыпанными среди груды фактического материала; случайно найденные и брошенные туда, они беззаботно предоставлены случаю, который вновь может их обнаружить. Все его психологические труды состоят в общем итоге из сотни или двух сотен сентенций; сам он дает себе иногда труд связать две-три мысли воедино, но никогда не приходит ему в голову спаять их в одно упорядоченное целое, в одну законченную теорию.
Даже единственная его монография на психологическую тему, выпущенная им в свет между двумя другими книгами, монография, посвященная любви, является смесью отрывков, сентенций и анекдотов; из осторожности он называет свой труд не «L’amour» – «Любовь», a «De l’amour» – «О любви»; правильнее было бы перевести: «Кое-что о любви». Он ограничивается установлением наскоро, без особой проработки вопроса, нескольких разновидностей любви: amour-passion – любовь по страсти, amour-physiqyue, amour-goût[199]199
Любовь физическая, любовь по вкусу (фр.).
[Закрыть] – и набрасывает, недолго думая, теорию ее возникновения и угасания, но все это поистине карандашом (он и в самом деле писал книгу карандашом). Он ограничивается намеками, предположениями и мало обязывающими гипотезами, которые перемешивает, в непринужденной беседе, с анекдотами; ибо Стендаль ни в коем случае не хотел быть глубокомыслящим, думать «до конца», думать для других; никогда не давал он себе труда проследить случайно найденное.
Усидчивый труд по продумыванию, проработке и возведению в систему он, этот беззаботный турист по Европе человеческой души, великодушно и небрежно предоставляет ломовым извозчикам и носильщикам психологии, людям труда; и в самом деле, целое поколение французов перекомпоновало большинство мотивов, наигранных его легкой рукой. Десятки психологических романов возникли из его знаменитой теории кристаллизации любви (эта теория сравнивает осознание чувства с «rameau de Salzbourg», с веткой, давно когда-то побывавшей в соленой воде и насыщенной солью, которая, попав в щелочную воду из рудника, в одну секунду обрастает кристаллами); одному вскользь брошенному им замечанию о влиянии расы и среды на художника Тэн обязан своей пухлой, тяжеловесной гипотезой, а заодно и своей знаменитостью. Но сам Стендаль, не работник, а лишь гениальный импровизатор, не выходил в своем увлечении психологией за пределы отрывочной мысли, афоризма, следуя в данном случае примеру своих учителей-французов: Паскаля, Шамфора, Ларошфуко, Вовенарга, которые, так же как и он, из чувства благоговения к крылатости подлинной истины, никогда не уплотняли своих взглядов в единую, полновесную, широко рассевшуюся Истину. Он, ни о чем не заботясь, бросает свои догадки, равнодушный к тому, угодны они людям или нет, будут ли они признаны уже сегодня или только через сто лет. Он не беспокоится о том, написано ли уже это до него кем-нибудь или другие спишут у него; он думает и наблюдает так же легко и естественно, как живет, говорит и пишет. Искать спутников, последователей и учеников никогда не приходило в голову этому свободному мыслителю; его счастье в том, чтобы созерцать и все глубже созерцать, думать и все яснее думать. Как всякая простая человеческая радость, радость его мышления щедра и общительна.
В том и все великолепие стендалевского преимущества над всеми психологами, деловитыми и маститыми, что он предается этой науке сердца мудро, беззаботно и с наслаждением, как искусству, а не как серьезному профессиональному занятию. Он не только обладает мужеством мышления, как Ницше, но, при случае, и чарующим задором мысли; он достаточно силен и дерзок, чтобы вступить в игру с истиной и любоваться познанием с почти плотским сладострастием. Ибо духовность Стендаля не только рассудочна; в качестве подлинной и полновесной жизненной интеллигентности она напоена и пропитана всеми жизненными элементами его существа. В ней привкус теплокровной чувственности и соль острой иронии; сухая горечь переживаний пересыпана в ней перцем колющей злости; чувствуется душа, гревшаяся под солнцами многих небес, впитавшая в себя ветры всего обширного мира; чувствуется все богатство жадно открытой и в пятьдесят лет все еще не насытившейся и не увядшей жизни. Как пенится, обильно и легко, как искрится этот ум от переливающегося через край жизненного чувства! – и все-таки все его отдельные афоризмы – только разрозненные капли его душевного богатства, случайно выплеснувшиеся; а подлинная его сущность все время остается в нем, одновременно и огненная и ледяная, в тонко отшлифованной чаше, которую разобьет только смерть. Но в этих выплеснувшихся каплях – светлая и окрыляющая мощь духовного опьянения; они, как хорошее шампанское, ускоряют медленное биение сердца и поднимают падающий жизненный дух. Его психология – это не геометрический метод хорошо вышколенного мозга, а сконцентрированная сущность целой жизни, мыслительная субстанция одного из подлинных людей; это делает его истины такими правдоподобными, его взгляды – такими проникновенными, его домыслы – такими ценными и сообщает им, при их импровизированности, такую длительную прочность, – ибо никакое усердие в мышлении не даст столь полного жизненного охвата, как радость самопроизвольной мысли, как беззаветный задор свободно определившего себя ума. Все целеустремленное застывает в своей цели, все временное костенеет во времени. Идеи и теории, как тени гомеровского Аида, – только голые схемы, бесплотные отражения вовне; лишь тогда, когда напоит их человеческая кровь, приобретают они голос и плоть и могут говорить человечеству.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































