Текст книги "Поэты, писатели, безумцы. Литературные биографии"
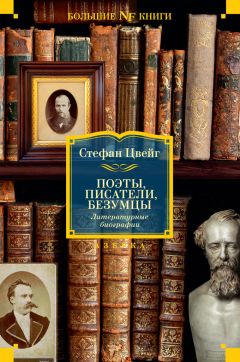
Автор книги: Стефан Цвейг
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 53 (всего у книги 60 страниц)
Годы мастерства
Если художник находит для своего произведения форму, в которой может развернуть все грани своего таланта, – это счастливый случай, блестящая удача. Так было с «Похвалой Глупости» – наиболее совершенным произведением Эразма; здесь братски соседствуют и ученый с очень широким кругозором, и острый критик своего времени, и сатирик-насмешник, ни в одном произведении не видишь Эразма таким мастером, как в этом его самом знаменитом, единственном, которое противостояло времени. Этим произведением Эразм легко, как бы играя, поразил в сердце свое время: за семь дней, и действительно лишь для своего удовольствия, был свободно, легко написан этот блистательный сатирикон. Но эта самая легкость дала произведению крылья и беззаботность легкого порыва.
Эразму шел тогда сорок первый год, в это время он не только безмерно много писал, но также пристально всматривался своим беспристрастным и скептическим взглядом в окружающий его мир. И он увидел человечество не таким, каким желал бы увидеть. Он видел, как мало власти у разума над действительностью, очень глупой представилась ему вся суматошная жизнь, и, куда бы ни обратился его взгляд, он видел то, что через сто лет увидит и о чем напишет Шекспир:
Кто долго, подобно Эразму, был беден, кто подолгу стоял перед дверьми, ожидая подачки от сильных мира сего, у того сердце полно горечи, словно губка – желчи, тот хорошо знает о несправедливости и глупости всего совершаемого человеком, и губы подчас дрожат от гнева и едва сдерживаемого крика. Но в сущности своей Эразм никакой не «seditiosus»[260]260
Мятежник (лат.).
[Закрыть], не бунтовщик, не радикальная натура – его умеренный и осторожный темперамент не способен на резкое, патетическое обвинение.
Эразму совершенно чужда красивая и наивная иллюзия, что все скверное можно сбросить с земли одним толчком, одним ударом. К чему же тогда ссориться со светом, спокойно думает он, если все равно мира не изменишь, ведь мошенничество присуще всему человеческому, оно вечно. Умный не пожалуется, мудрый не возмутится; и, презрительно скривив губы, Эразм смотрит острым, внимательным взглядом на людей, так глупо себя ведущих, и идет своей дорогой: дантовское «Guarde e passa!»[261]261
Взгляни и пройди! (ит.)
[Закрыть]. Но иногда, в час легкого расположения духа, суровый и сознающий все свое бессилие взгляд мудреца смягчается: тогда он посмеивается и этим ироническим смешком освещает мир. В те дни (а было это в 1509 году) путь Эразма пролегал через Альпы, он ехал в Англию из Италии. Там видел он церковь во всем ее упадке, папу Юлия, словно кондотьер, окруженного своими военачальниками, епископов – не в убогих одеждах апостолов, а купающихся в роскоши, транжирящих несметные богатства, там был он свидетелем преступных военных безумствований князей этой истерзанной страны, хищно, словно волки, рвущих друг у друга добычу, наблюдал высокомерие властителей, ужасающую нищету народа, там постоянно погружал свой взгляд в разверзшиеся перед ним глубины нелепости человеческих отношений.
Теперь все это было далеко позади, словно облако, за залитым солнцем хребтом Альп; Эразм, ученый, книжник, ехал верхом налегке, фолиантов его с ним не было, не было с ним и его пергаментов, которые могли бы занять его досуг. Ум его здесь, на чистом воздухе, был свободен, и у него появилось стремление к игре, к озорству; его осенила мысль, чарующая, яркая, словно бабочка, и он привез ее с собой из этой счастливой поездки. Едва приехав в Англию, в считаные дни он пишет в светлом, дружеском ему доме Томаса Мора небольшое шуточное произведение, может быть, только для того, чтобы подарить развлечение собравшемуся кружку друзей; в честь Томаса Мора назовет эту свою работу каламбуром: «Encomium Mortal» (по-латыни же – «Laus stultitiae», что ближе всего можно перевести как «Похвала Глупости»).
По сравнению с основными произведениями Эразма, работами серьезными, тяжелыми, нагруженными и перегруженными научными знаниями, этот маленький, дерзкий сатирикон представляется поначалу юношески беспечным, пожалуй даже легковесным. Но не объем, не вес художественного произведения определяют его внутреннюю силу, его живучесть; подобно тому как в политической сфере какая-нибудь острая фраза, смертоносная шутка подчас действует более сильно, чем демосфеновская речь, так и в литературе роль ведущих колес чаще всего выпадает на долю небольших произведений: из ста восьмидесяти томов Вольтера в живых, в сущности, осталась одна небольшая язвительная новелла – «Кандид», от бесчисленных фолиантов любящего писать Эразма – лишь это дитя случая, веселая шутка, лишь эта сверкающая игра духа – «Laus stultitiae».
* * *
Единственным в своем роде, неповторимым искусным приемом, использованным в этом произведении, является его маскарадное одеяние: чтобы высказать сильным мира всю горькую правду, которую хотел бы Эразм им сказать, он берет слово не себе, нет, он посылает Стультицию, Глупость, на кафедру, и она хвалит на кафедре сама себя. Благодаря этому возникает забавное quiproquo, путаница. Читая любую страницу «Похвалы», не знаешь, кто же в действительности в данный момент говорит: Эразм – всерьез или сама Глупость, которой и можно, и должно простить любую дерзость, любую глупость?
Взяв на вооружение такую неопределенность, Эразм обеспечивает себе позицию, неприступную для любых отважных нападающих: его собственное мнение неясно, и, если кто-нибудь вздумает обидеться на него за жгучий удар кнутом, за язвительные насмешки, щедро разбрасываемые им во все стороны, он сможет издевательски возразить: «Это не мои слова, это сказала госпожа Стультиция; кому взбредет в голову всерьез принимать ее дурацкие рассуждения?»
В мрачные времена инквизиции и жестокой цензуры люди свободного духа умели иносказательно передать миру свои мысли, но никто так виртуозно не использовал священное право Глупости говорить вольные речи, как это сделано в «Похвале», в самом смелом и одновременно таком художественно совершенном сатирическом произведении своего времени. Серьезное и шутка, знание и веселое подтрунивание, правда и вымысел – все эти составляющие запутаны в пестром клубке, и попробуй только ухватиться за любую из нитей, чтобы отмотать ее, выделить, она тотчас же ускользает из твоих рук. Сравнивая этот блистательный фейерверк мыслей и острых словечек с бездуховной полемикой, с грубой перебранкой современников Эразма, понимаешь, в какой восторг, в какое восхищение привела эта сатира людей шестнадцатого века.
Сатира начинается очень остроумно. Госпожа Стультиция в мантии ученого, но с шутовским колпаком на голове (так изобразил ее Гольбейн) выходит на кафедру и произносит академическую похвальную речь в свою собственную честь. Она единственная, похваляется она, вместе со своими служанками, Лестью и Себялюбием, управляет вселенной: «…без меня никакое сообщество, никакая житейская связь не были бы приятными и прочными: народ не мог бы долго сносить своего государя, господин – раба, служанка – госпожу, учитель – ученика, друг – друга, жена – мужа, квартирант – домохозяина, сожитель – сожителя, товарищ – товарища, ежели бы они взаимно не заблуждались, не прибегали к лести, не щадили чужих слабостей, не потчевали друг друга медом глупости»[262]262
Здесь и далее цитаты из «Похвалы Глупости» даются в переводе И. Губера.
[Закрыть].
Лишь о приумножении своих денег заботится купец, лишь «ради соблазна суетной славы» увлеченный обманчивым светом бессмертия, творит писатель, лишь вследствие пленивших его иллюзий воин становится смелым. Трезвый, умный человек бежал бы от любой борьбы, делал бы лишь самое необходимое для заработка, никогда пальцем не шевельнул бы, душу свою не насиловал бы, если б пышным цветом не цвела глупость, вызывающая у смертных жажду бессмертия.
И здесь весело развертываются, один за другим следуют парадоксы. Лишь одна дарящая иллюзии Стультиция делает счастливыми людей, каждый человек будет тем более счастлив, чем более слепо будет следовать своим страстям, чем безрассуднее будет жить. Ибо любые размышления, любые самоистязания духа омрачают душу; радость никогда не содержится в ясности, в уме, всегда лишь – в сумятице, в чрезмерности, в иллюзиях, в заблуждении; Глупость метит в действительность, праведника, прозорливца, того, кто не является рабом своих страстей, она не считает нормальным человеком, это своего рода болезненное явление, уродство, исключение из правил. «Лишь тот, кто в этой жизни одержим глупостью, может действительно называться человеком». Поэтому и расхваливает себя, задирая нос, Стультиция как истинную движущую пружину всей человеческой деятельности. Красноречиво доказывает она, что все достославные добродетели мира – способность ясно видеть, прямодушие и порядочность – вредны человеку, поскольку, следуя им, он отравляет себе жизнь, а так как она, кроме всего прочего, особа ученая, то с гордостью цитирует Софокла: «Блаженна жизнь, пока живешь без дум».
Чтобы держать свою речь в соответствии с академическими канонами, подтверждая пункт за пунктом свои тезисы, она, паясничая, обращается к свидетелям. Люди разных сословий и профессий, разных состояний и положений, разных склонностей и характеров показывают в этом грандиозном параде присущие им недостатки и заблуждения. Все они проходят перед нами: болтливые риторы, казуисты-правоведы, философы, каждый из которых тащит в мешке свою систему мироздания, спесивцы, князья денежных кубышек, схоласты и писатели, игроки и воины и, наконец, рабы своих чувств – влюбленные, которые видят в своих возлюбленных предел совершенства, неземную красоту.
Великолепную галерею человеческой глупости показывает Эразм, обладающий несравненным пониманием человеческой природы, и великим комедиографам, Мольеру и Бен Джонсону, потребуется лишь вникнуть в игру этих марионеток, чтобы из едва обозначенных карикатур сформировать живых людей. Ни одна разновидность человеческой глупости не пощажена, ни одна не забыта, и именно этой полнотой Эразм защищает себя. Кто же может считать себя особенно сильно осмеянным, если все остальные изображены не лучше, чем он? Вся универсальность Эразма-ученого пущена в ход, все силы его интеллекта, его ясный взгляд, его дар, его юмор. Скептицизм и благородство понимания мира переливают здесь великолепной палитрой красок, рассыпаются бесчисленными искрами ракет; высокий дух писателя проявлен здесь в совершеннейшей игре.
По существу, это творение Эразма для него – неизмеримо значительнее, чем шутка, в этой миниатюре он показал себя более полно, чем в любой другой своей работе, это его любимое произведение. «Laus stultitiae» является также подведением его духовных итогов. Эразм, который ни в чем и ни в ком не заблуждается, знает глубочайшую основу таинственной слабости своих произведений, слабости своей творческой личности: он чувствует всегда слишком рассудочно, слишком мало в нем страстности, пылкости, он не желает примкнуть ни к какой партии, он стремится стоять над событиями – все эти присущие его характеру особенности изолируют его от людей. Разум всегда – только регламентирующая сила, сам по себе творческим началом быть он не может; творческое же начало всегда предполагает наличие некоторой мечты.
Вот поэтому Эразм на протяжении всей своей жизни остался поразительно приземленным, трезвым мыслителем, великим праведником, никогда не знавшим счастья жизни, полной самоотдачи, священной самоотрешенности. Только вчитавшись в «Похвалу Глупости», можно понять, что Эразм тайно страдает из-за рассудочности, справедливости, обязательности своего умеренного темперамента. Художник всегда более уверенно творит, когда облекает в образы и плоть то, о чем он тайно мечтает, то, чего ему недостает, и здесь – человек разума par excellence[263]263
Здесь: преимущественно (фр.).
[Закрыть], он призван, чтобы создать веселый гимн Глупости и очень тонко, изящно наставить нос тем, кто обожествляет Разум.
Но искусная маскировка книги не скрывает все же истинного ее значения и назначения. Под карнавальной шутовской маской «Похвала Глупости» – опаснейшая игра своего времени, и то, что забавляет нас сегодня, как потешные огни, в действительности было взрывом, расчистившим путь немецкой Реформации: «Похвала Глупости» относится едва ли не к самым эффектным, самым действенным памфлетам из тех, которые были когда-либо написаны. Немецкие паломники возвращались из Рима потрясенные виденным там: папы и кардиналы ведут безнравственную расточительную жизнь итальянских владетельных князей Возрождения, верующие люди все более и более настоятельно требуют коренных церковных реформ. Но Рим погрязших в роскоши пап отклоняет любые протесты, любые ходатайства, даже если они составлены и очень мягко; на костре, с кляпом во рту, каются все те, кто говорил слишком громко, слишком страстно; лишь в грубых народных виршах или в сочных анекдотах можно тайно излить свое озлобление против института индульгенций, против злоупотреблений в продаже реликвий; нелегально из рук в руки распространяются листки с изображением папы в виде огромного вампира.
Эразм в своей «Похвале Глупости» открыто предал всеобщему осмеянию перечень грехов курии: виртуоз неопределенности, он использует свой великолепный художественный прием, позволяющий Стультиции высказать все, что писатель считает полезным сказать для решающего похода против злоупотреблений церкви, сказать даже такое, что высказывать открыто было бы чрезвычайно опасно. И хотя кнутом как будто размахивает рука Глупости, всем предельно ясен критический смысл таких слов: «А верховные первосвященники, которые заступают место самого Христа? Если бы они попробовали подражать его жизни, а именно бедности, трудам, поучениям, крестной смерти, презрению к жизни, если бы задумались над значением своих титулов – „папа“, иначе говоря, отца и „святейшества“, – чья участь в целом свете оказалась бы печальнее? Кто стал бы добиваться этого места любой ценой или, однажды добившись, решился бы отстаивать его посредством меча, яда и всяческого насилия? Сколь многих выгод лишился бы папский престол, если бы на него хоть раз вступила Мудрость? Мудрость, сказала я? Пусть не Мудрость, а хотя бы крупица той соли, о которой говорил Христос. Что осталось бы тогда от всех этих богатств, почестей, владычества, побед, должностей, диспенсаций[264]264
Диспенсация – акт, отменяющий применение закона к данному лицу в данном случае, ничтожные действия признающий действительными, недозволенные – дозволенными.
[Закрыть], сборов, индульгенций, коней, мулов, телохранителей, наслаждений? (В нескольких словах я изобразила вам целую ярмарку, целую гору, целый океан всяческих благ.) Их место заняли бы бдения, посты, слезы, проповеди, молитвенные собрания, ученые занятия, покаянные вздохи и тысячи других столь же горестных тягот».
И тотчас же Стультиция оставляет свою роль Глупости и однозначно и ясно определяет требования грядущей Реформации: «Поскольку все христианское учение основано лишь на кротости, терпении и презрении к жизни, кому не ясно, как следует понимать это место? Христос призывал своих посланцев забыть все мирское, чтобы они не только не помышляли о суме и обуви, но даже платье совлекли с себя и приступили, нагие и ничем не обремененные, к дарам евангельским, ничего не имея, кроме меча, – но не того, которым действуют разбойники и убийцы, но меча духовного, проникающего в самую глубину груди и напрочь отсекающего все мирские помышления, так что в сердце остается одно только благочестие». И совершенно неожиданно из шутки возникает язвительная серьезность. Из-под шутовского колпака с бубенчиками смотрят строгие, неподкупные глаза великого критика своего времени. Глупость выговорила то, что готово было сорваться с губ тысяч и сотен тысяч. До сознания мира доведена настоятельная необходимость суровой церковной реформы – сильнее, убедительнее, языком более понятным для всех, чем язык любого другого произведения того времени. Прежде чем начать строить новое, необходимо поколебать авторитет существующего. Во всех духовных революциях критик, просветитель всегда идет впереди творца, преобразователя: лишь взрыхленная почва примет в свое лоно зерно.
* * *
Но бесплодное критиканство и одно лишь отрицание не в характере Эразма; если он говорит об ошибках, то делает это для того, чтобы требовать исправления, никогда не порицает он из высокомерного превосходства, из желания хулить. Ничто не было более несвойственно этому темпераменту, основная черта которого – терпимость, как грубое иконоборническое выступление против католической церкви: как гуманист, Эразм мечтает не о протесте против церковного, а о «reflorescentia»[265]265
Новый расцвет (лат.).
[Закрыть], о возрождении религии, об обновлении христианской идеи через возврат ее к первоначальной, назорейской чистоте, подобно тому как науки и искусства только что пережили свое возрождение, свое великолепное омоложение через возвращение к античным образцам, так Эразм надеется – можно и должно очистить религию, погрязшую в показном, раскопав ее исконные источники: возвратив учение к Евангелию и тем самым, по слову Христа, «открыть Христа, погребенного под догматическими учениями». С этим тезисом, высказываемым Эразмом вновь и вновь, он – впереди, как всегда, – выступает во главе Реформации.
Но гуманизм по своей сущности никогда не революционен, и если Эразм, следуя своим убеждениям, и очень помогает церковной Реформации, готовя ей путь, то, согласно присущему ему чрезвычайно миролюбивому образу мыслей, он страшно боится открытого раскола. Никогда Эразм не занимает, подобно Лютеру, Цвингли или Кальвину, непримиримую позицию в обсуждаемых вопросах, никогда не ввязывается в спор о том, что правильно в католической церкви, а что неправильно, какие таинства следует разрешать, а какие – нет, является ли причастие материальным или нематериальным; он неустанно подчеркивает, что истинной сущностью христианского благочестия является не соблюдение внешних церковных обрядов, – нет, каждый человек на основе внутренних убеждений сам для себя должен определить степень своей веры.
Не почитание святых, не паломничество, не распевание псалмов, не богословская схоластика с бесплодным «иудаизмом» приближает человека к Христу, а его духовная защищенность, его человечный, его христианский образ жизни. Ибо святым служит наилучшим образом не тот, кто отправляется к их могилам, кто собирает их мощи и чтит их, кто сжигает наибольшее количество свечей, а тот, кто наиболее совершенно пытается подражать в своей жизни их благочестивому поведению. Неизмеримо более важным, чем точное следование всем предписаниям ритуала, всем обрядам и молитвам, чем соблюдение постов и своевременное чтение мессы, является личное поведение человека в духе Христа: «Квинтэссенция нашей религии – мир и согласие».
Здесь, как и всегда, Эразм пытается не подавить живое формулами, а возвысить его, поднять до уровня человеческого. Он осознанно хочет освободить христианство от всего церковного, и это освобождение должно приблизить христианство к универсальному гуманизму; он стремится ввести в круг идей христианства – как плодотворный элемент – все то, что до сих пор было в этическом смысле совершенным у всех народов, у всех религий, и этот великий гуманист в столетие ограниченности, тупости и догматического фанатизма говорит удивительные, огромной прогрессивной силы слова: «Где бы ты ни встретил истину, считай ее христианской».
Таким образом перекинут мост во все времена, во все страны. Кто, подобно Эразму, всюду – в мудрости, человечности и нравственности – видит формы наивысшей гуманности и тем самым элементы христианского миропонимания, тот не будет, подобно монахам-фанатикам, изгонять в ад философов античности («святой Сократ», – скажет однажды восторженно Эразм), нет, все великое, все благородное прошлого он будет вводить в религию, «подобно тому, как евреи при исходе из Египта взяли с собой свою золотую и серебряную утварь, чтобы благородным металлом украсить свой храм».
В соответствии с религиозными представлениями Эразма, христианству не следует ограждать себя от всего, что некогда украшало человеческую мораль или нравственный дух человечества, ибо у человечества не существует двух истин – христианской и языческой, истина во всех своих проявлениях божественна. И поэтому Эразм никогда не говорит о богословии Христа, о его вероучении, а только о «философии Христа», то есть об учении как жить: для Эразма христианство – лишь другое слово, означающее высокую и гуманную нравственность.
Эти основополагающие идеи Эразма по сравнению с архитектонической силой католической экзегезы[266]266
Экзегеза – объяснение библейских текстов.
[Закрыть] и пламенной страстностью мистиков звучат, пожалуй, несколько обще и отвлеченно, но они гуманны; здесь, как и в любой области знаний, действенность Эразма не столь глубока, она распространяется вширь. Его «Enchiridion militis christiani» («Кинжал христианского воина»), созданный как христианское произведение по просьбе одной набожной женщины для ее мужа, в предостережение ему, становится популярным народным богословским руководством, и благодаря этой книге Реформация найдет вспаханное, подготовленное к посеву поле для своих воинственных радикальных требований.
Но этот одинокий крик в пустыне не призывает начать битву, он пытается успокоить людей в последний час перед ее развязыванием; в то время, когда на церковных соборах идут ожесточенные споры по ничтожным догматическим вопросам, автор этой книги мечтает о конечном объединении всех благородных форм духовной религиозности, о rinascimento[267]267
Возрождение (ит.).
[Закрыть] христианства, которое должно навсегда освободить весь мир от распрей и столкновений и тем самым возвысить веру в Бога до религии Человека.
* * *
То, что Эразм одну и ту же мысль рассматривает с разных сторон, говорит о многогранности его творческой натуры. В «Похвале Глупости» неподкупный критик показывает злоупотребления в католической церкви, в «Кинжале христианского воина» он создает общедоступный, понятный всем идеал глубоко прочувствованной и очеловеченной религиозности, и одновременно свою теорию необходимости «откапывания» источников христианства он реализует как филолог, как критик и комментатор текста Евангелия, переводя его вновь с греческого на латинский, свершает деяние, подготовившее путь для перевода Библии Лютером, труд, значение которого трудно переоценить.
Назад к источникам истинной веры, искать их там, где они, еще божественно чистые, не затуманенные никакими догмами, – таково требование Эразма к новому немецкому богословию, и, увлеченный глубочайшим инстинктивным пониманием того, что требуется его времени, он за пятнадцать лет до Лютера указывает на этот труд – перевод Евангелия на латынь – как на самый важный. В 1504 году он пишет: «Я не в состоянии сказать, как стремлюсь к Священному писанию и как противно мне все, что удерживает или даже хотя бы задерживает меня в этом моем стремлении». Рассказанная в Евангелии жизнь Христа не должна быть более привилегией монахов и священников, знающих латынь; народ должен, обязан обращаться к ней, «крестьянину следует читать ее за плугом, ткачу – за ткацким станком», женщины должны передавать эти зерна христианства своим детям.
Но прежде чем решиться осуществить эту великую мысль перевода на национальный язык, ученый устанавливает, что и Вульгата[268]268
Вульгата (лат.) – народная, общедоступная, первый перевод Библии на латинский язык, выполненный Иеронимом Блаженным. Этот перевод стал официальным для Римско-католической церкви текстом Библии.
[Закрыть], этот единственный латинский перевод Библии, который церковь терпит и разрешает им пользоваться, содержит огромное количество темных мест и уязвима с филологической точки зрения. Но Библия не должна иметь никаких изъянов; и вот Эразм приступает к грандиозному труду, заново переводит ее на латинский. Свободное изложение Библии и свои отступления от текста он сопровождает обстоятельным комментарием.
Этот новый перевод Библии, изданный Фробеном в Базеле одновременно на греческом и латинском в 1516 году, – революционное событие: этим самым свободомыслящее исследование победоносно проникает и в последнюю инстанцию, в богословие. Но характерно для Эразма: даже свершая революцию, он так искусно выбирает внешние формы, что и самые мощные удары с его стороны не дают оснований к ответным ударам. Чтобы заранее предупредить всякие враждебные нападки богословов, он этот первый вольный пересказ Библии посвящает владыке церкви, папе, и папа Лев X, сам гуманистически настроенный человек, в своем бреве[269]269
Бреве – короткое папское послание.
[Закрыть] дружелюбно отвечает: «Мы радовались» – и даже хвалит усердие, с которым Эразм трудился над этим священным произведением.
Всегда Эразм, человек чрезвычайно миролюбивый, сам преодолевает конфликты между церковью и своими воззрениями, тогда как у других ученых подобная ситуация неминуемо привела бы к возникновению жестоких споров: его гений посредника и его искусство уклоняться, смягчать наносимые им удары блистательно восторжествовали и в этой опаснейшей сфере.
* * *
Этими тремя книгами Эразм завоевал мир. Он произнес просвещающее слово для главнейших проблем своего поколения и благодаря спокойной, понятной всем гуманистической манере, в которой он изложил своим современникам самые жгучие вопросы того времени, завоевал у них глубокую симпатию. Человечество всегда испытывает большую благодарность к тем, кто считает возможным прогресс на основе разума; человечество видит счастье нового столетия в том, что, несмотря на огромное количество беснующихся монахов, грызущихся между собой фанатиков, неисправимых зубоскалов и неразумных схоластов-профессоров, наконец-то в Европе появился человек, оценивающий духовные и религиозные категории исключительно с точки зрения человечного, появилась миролюбивая душа, которая вопреки всем и всяческим царящим в мире неурядицам верит в этот мир и хочет эти неурядицы устранить.
И происходит то, что обязательно должно произойти, когда появляется человек, пытающийся разрешить важнейшие проблемы своего времени: вокруг него собирается некая общность и своим безмолвным ожиданием множит его творческие силы. Все надежды, все нетерпеливое стремление к улучшению нравственности, к возвышению человечности с помощью вновь появившихся и развивающихся знаний наконец-то сфокусировались в этом человеке: он или никто, думают они, может снять так характерное для их времени чудовищное напряжение. Чисто литературная слава, снискавшая Эразму имя в начале шестнадцатого века, дала ему огромную власть: обладай его характер смелостью, он смог бы как диктатор использовать эту свою популярность для всемирно-исторических деяний на поприще Реформации.
Но деяния – не его удел. Эразм может просвещать, но не созидать, лишь подготавливать к действиям, но не действовать. Не его имя будет начертано на скрижалях Реформации, другой пожнет то, что посеял он.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































