Текст книги "Либеральные реформы при нелиберальном режиме"
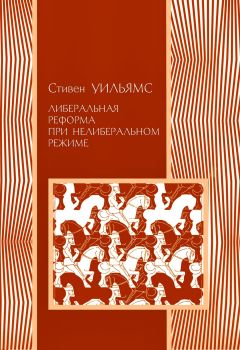
Автор книги: Стивен Уильямс
Жанр: Прочая образовательная литература, Наука и Образование
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Отношение к закону, собственности и личным достижениям
Прежде чем завершить анализ прав собственности, следует обратить внимание на некоторые установки, широко распространенные среди русских крестьян. В обширном трактате о социологических аспектах деревенской жизни Миронов изображает столкновение крестьян с «официальным законом» как чисто негативное: приходилось выполнять государственные повинности – платить налоги и выкупные платежи, отдавать парней в армию и ходить на дорожные работы; крестьяне конфликтовали со всеми некрестьянами по поводу условий договоров, а время от времени подавали наверх петиции с просьбой о помощи[170]170
Mironov, Social History of Imperial Russia, 104 [См. Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. Т. 1.].
[Закрыть]. Миронов предлагает довольно размытую концепцию «официального закона», противопоставляя ему регулирование на основе «обычного права», которым, по его словам, руководствовались при разрешении гражданских и уголовных дел, затрагивавших крестьян[171]171
Ibid., 304–305. Там же. С. 439.
[Закрыть]. По‐видимому, он имеет в виду закон, применявшийся в местных крестьянских судах (в волостных судах), о которых речь будет ниже.
Миронов приводит русские пословицы и поговорки, в которых закон неизменно изображен в отрицательном свете: «Где закон, там и обида», «Где суд, там и неправда», «Не будь закона, не стало бы и греха»[172]172
Ibid., 305. Там же. С. 439–440.
[Закрыть]. Такое отношение – если считать, что оно было преобладающим, – представляется естественной реакцией со стороны людей, которые как класс не только были исключены из процесса формирования закона, но и имели дело с законом только при столкновении с чужаками – с помещиками и чиновниками, обладавшими правом творить и применять закон безо всякой оглядки на крестьян. Энгельгардт, помещик с литературными способностями, опубликовавший письма о деревенской жизни в пореформенной России, приводит слова крестьянина, недовольного уголовным законодательством: «Что это за закон? Кто его писал? Это все господа писали»[173]173
См., например, Aleksandr Nikolaevich Engelhardt and Cathy A. Frierson, Aleksandr Nikolaevich Engelhardt’s Letters from the Country, 1872–1887 (1993), 63. [Энгельгард А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887. СПб., 1999.]
[Закрыть]. Крайняя скованность ресурсов, обусловленная (наряду с другими факторами) системой собственности на надельную землю, означала, что у русского крестьянина было куда меньше возможностей, чем, скажем, у американского или европейского фермера в том же XIX в., даже помыслить об обращении к закону для разрешения споров о собственности с юридически равными лицами в таких, скажем, ситуациях, как оспаривание договоров, дарственных, права прохода, создания помех и причинения ущерба.
Судя по тому, что писалось об отношении крестьян к воровству и обману, у них не было идеи права, отделенного от социального статуса сторон. Крестьяне проводили различие между обманом чиновника или помещика (это хорошо) и надувательством соседа или родственника (это плохо)[174]174
Ibid., 305. Ср.: James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant (1976), with Samuel L. Popkin, The Rational Peasant (1979).
[Закрыть] и не считали за воровство рубку деревьев в помещичьем или казенном лесу, потому что дерево никто не сажал, оно само выросло[175]175
Hoch, Serfdom and Social Control in Russia, 166.
[Закрыть]. В этом много общего с поведением получивших свободу американских негров, которые воспринимали воровство как способ получения возмещения за украденные у них свободу и труд[176]176
Leon F. Litwack, Been in the Storm So Long: The Aftermath of Slavery (1979), 142–143.
[Закрыть] и готовы были восхищаться «подвигами» таких же, как они, осужденных за преступления против жизни или собственности белых (и только белых)[177]177
Leon F. Litwack, Trouble in Mind: Black Southerners in the Age of Jim Crow (1998), 446.
[Закрыть]. Но отношение крестьян может иметь и другое объяснение. Согласно Энгельгардту, крестьяне могли понимать, что нанести ущерб помещику – дело почти столь же нехорошее, как навредить крестьянину, но при этом они также исходили из того, что с дворянами иметь дело безопаснее, потому что «помещик» действует «по простоте, то есть по глупости, а не как крестьянин»[178]178
Engelhardt & Frierson, 60, 224. [Энгельгард А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887. СПб., 1999.]
[Закрыть]. Крестьяне основывали свои суждения о ком‐либо, исходя не только из оценки социального положения человека, но и в зависимости от покровительственных и личных связей с ним[179]179
Burds, 101.
[Закрыть], что было неизбежно в системе, отличавшейся слабостью прав собственности и ограниченностью рыночных возможностей.
В крестьянской жизни было много враждебности, причем не только в отношении помещиков. Мы уже отмечали чрезмерность власти старших по возрасту, но это лишь один аспект противоречий, раздиравших крестьянский мир. Хох отмечает, что в большинстве случаев на воровстве, даже если пострадавшим был помещик, ловили только потому, что один крестьянин доносил на другого. Имеющиеся свидетельства подтверждают это объяснение. Хох заключает, исходя из данных о развитии доносительства, что «трудно представить, чтобы там не преобладала атмосфера враждебности, недоброжелательства и мстительности»[180]180
Hoch, Serfdom and Social Control in Russia, 168.
[Закрыть].
К тому времени, когда Столыпин стал премьер‐министром, ситуация уже во многом изменилась под влиянием как самого освобождения от крепостной зависимости, так и судебных реформ Александра II. В 1864 г. он создал крестьянские суды на уровне волости, самой мелкой территориально‐административной единицы. Этим судам было поручено рассматривать маловажные гражданские и уголовные дела, вытекающие из крестьянского быта. Суд состоял из трех избираемых судей, один из которых уездным съездом назначался председателем и судил на основе местных обычаев, если это допускалось государственными законами[181]181
Jane Burbank, “Legal Culture, Citizenship, and Peasant Jurisprudence: Perspectives from the Early Twentieth Century,” in Reforming Justice in Russia, 1864–1994: Power, Culture, and the Limits of Legal Order, ed. Peter Solomon, Jr. (1997), 85–86. См. также: Burbank, Russian Peasants Go to Court.
[Закрыть]. В 1889 г. эти суды были сделаны судами первой инстанции по всем делам с участием сельских жителей, исключая дворян, а судьям начали платить жалование[182]182
Burbank, “Legal Culture,” 89, 91.
[Закрыть]. Крестьяне избирали судей из числа домохозяев. Выборы проходили под надзором земского начальника, который во всех случаях назначался не из крестьян. В большинстве случаев земские начальники не вмешивались в решения крестьянского суда[183]183
Burbank, Russian Peasants Go to Court, 167–173.
[Закрыть].
Решения волостных судов сохранялись в архивах и в принципе могли бы служить основой для развития системы прецедентного права. Но трудно представить, чтобы лишенные профессиональной юридической помощи крестьяне нашли время для архивных изысканий и анализа прошлых дел, без чего невозможно прийти к последовательной и непротиворечивой судебной политике. Поэтому когда Миронов пишет об отношении крестьян к «обычному праву», он имеет в виду не англо‐американское общее право, в котором идея прецедента предполагает стремление соблюдать связность и логичность при вынесении приговоров, но просто тот факт, что судьи руководствовались неким общим пониманием ситуации.
Более того, решения волостных судов могли быть обжалованы в «областном [уездном] съезде», составленном из земских начальников нескольких волостей (но, очевидно, с участием мировых судей), а потом в губернской судебной палате[184]184
Gareth Popkins, “Peasant Experiences of the Late Tsarist State: District Congresses of Land Captains, Provincial Boards and the Legal Appeal Process,” Slavonic and East European Review 78, no. 1 (January 2000): 100. См. также George L. Yaney, Systematization of Russian Government (1973), 326–328.
[Закрыть]. На этих чиновников – в большинстве своем не имевших юридического образования – была возложена обязанность каким‐то образом интегрировать крестьянское обычное право в систему государственных законов, но при этом не существовало четких и последовательных правил о том, в каких случаях нужно следовать нормам государственного права, и даже не было надежных способов установить содержание крестьянского обычного права[185]185
Corinne Gaudin, “Peasant Understanding of Justice in Appeals of Volost Court Verdicts, 1889–1917” (рукопись, датированная ноябрем 2003 г.). См. также: George L. Yanye, “The Concept of he Stolypin Land Reform,” Slavic Review 23 (1964): 275, 279–280; Gareth Popkins, “Code versus Custom: Norms and Tactics in Peasant Volost Court Appeals, 1889–1917,” Russian Review 59 (2000): 408–424.
[Закрыть]. Все участники неизбежно должны были быть сбиты с толку.
На самом деле волостные суды проделывали огромную работу. В 1905 г. только в одной Московской губернии, например, они рассмотрели более 25 000 гражданских дел (для сравнения – почти 22 000 уголовных дел в волостных судах и почти 80 000 всех видов дел во всех судах Московской губернии). Ученый, основательно пропахавший архивы волостных судов, обнаружил, что многие дела были связаны с землевладением и землепользованием, т. е. представляли собой иски о возмещении за «нарушение права на землю», за «нарушение права на наследование земли», за причинение различного рода вреда (сброшен мусор на чужой земле, посажены деревья там, где их нельзя было сажать, вытоптаны посевы, сожжены чужие дрова и т. п.)[186]186
Burbank, “Legal Culture,” 96–97. См. также: Burbank, Russian Peasants Go to Court, 86–87, 97—109, 230–232. Бербанк отмечает предметы исков (ibid., 86–87), и из ее выборки следует, что значительная доля исков – пожалуй, существенно больше половины – имеет отношение либо к земле, либо к имуществу, напрямую связанному с землей, такому как сено, конюшни, сараи и ограды.
[Закрыть]. Крестьяне явно демонстрировали готовность решать многие конфликты через суд, по крайней мере если говорить об истцах, но и проигравшие покорно подчинялись решению суда[187]187
Burbank, Russian Peasants Go to Court, 253, 268.
[Закрыть].
Хотя волостным судам явно недоставало последовательности в толковании правовых норм, они давали крестьянам прекрасную возможность познакомиться со многими характерными чертами верховенства права: с процессом вынесения решений беспристрастным арбитром и с последующими формальными процедурами, цель которых – дать обеим сторонам шанс на справедливое решение. И исследование ряда очевидных категорий дел, в которых могла быть проявлена дискриминация (мужчины против женщин, члены общины против чужаков, грамотные против неграмотных), показало, что такого рода вещи не оказывали заметного влияния на исход рассмотрения в суде[188]188
Ibid., 193, 255.
[Закрыть]. Если число истцов, решивших обратиться в суд, – это одностороннее свидетельство, то согласие проигравшей стороны с решением суда говорит о том, что они принимали закон, который вершили волостные суды. Есть сообщения, что даже после реформ 1889 г. судьи волостных судов иногда брали взятки деньгами, водкой и продуктами, что они не всегда воздерживались от ведения дел, по которым проходили их родственники, и можно только гадать о том, сколь распространенными были эти явления, бросавшие тень на правосудие[189]189
Cathy A. Frierson, “I Must Always Answer to the Law…: Rules and Responses in the Reformed Volost Court,” Slavonic and East European Review 75, no. 2 (April 1997): 308, 322–325.
[Закрыть].
В общем, налицо были свидетельства марша, или по крайней мере движения, к воспитанию здорового правового сознания. Но поскольку даже в 1905 г. подавляющая часть крестьянских земель представляла собой общинные наделы, едва ли этому процессу удалось сильно разрушить склад ума, неизбежно сопутствовавший системе без четко очерченных прав частной собственности.
Из всего этого не следует, что недоверие крестьян к закону было результатом исключительно системы собственности, созданной для надельной земли. Серьезным уроком для крестьян было беззаконие, творившееся правительством России. До 1848 г. крестьянин имел возможность, по меньшей мере на практике, купить себе землю на имя своего помещика, хотя система эта явно создавала условия для взаимного непонимания и обоюдных претензий. В 1848 г. новый закон разрешил крепостным покупать землю на свое имя, но при этом признавал их притязания на земли, купленные на имя помещика, только если помещик добровольно подтверждал их обоснованность. Но поскольку закон не был широко опубликован, крепостные продолжали действовать старым методом, и лишь немногие попытались переписать прежде купленную землю на себя. Наконец, в 1861 г. в законе об отмене крепостной зависимости государство установило ограничения на признание старых приобретений, отказавшись признавать право собственности на землю, купленную более чем за десять лет до публикации закона, а многие приобретения были сделаны задолго до этого срока[190]190
Gerschenkron, «Agrarian Policies,” 155–157; Gorshkov, 650–651 (обсуждение закона от 1848 г.). Cм. также: Robert Conquest, We and They (1980), 63 (отмечает незащищенность прав собственности на всех этажах русского общества, что лишало дельцов возможности полагаться на будущее и заставляло стремиться к «немедленной выгоде», ради чего они готовы были и на обман).
[Закрыть]. Учитывая эту легкомысленную готовность государства задним числом разрушать собственность, русские крестьяне имели все основания не доверять закону и без причудливых особенностей общинного землевладения.
Наконец, крестьяне зачастую неодобрительно относились к благосостоянию, превышающему средний уровень. Они понимали дело так, что необычно богатые «добились успеха или с помощью нечистой силы, либо за счет нарушения крестьянской этики коллективности и взаимности. Поскольку вероятность найти клад стремилась к нулю, они делали вывод, что удачливые крестьяне обязаны богатством тому, что занимались ростовщичеством и другими неправедными делами»[191]191
Worobec, 41.
[Закрыть]. Было сделано все, чтобы стреножить и остановить любого, желавшего работать больше других. Существовало очень много обязательных религиозных праздников (их число выросло с 95 в середине XIX в. до 120 к его концу), и в наказание нечестивцев община могла сломать рабочий инвентарь. В Подмосковье одного бедолагу, решившего поработать в один из церковных праздников, привлекли к суду по обвинению в богохульстве[192]192
Mironov, Social History of Imperial Russia, 341–342 [Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. Т. 1. С. 474].
[Закрыть]. В черноземных губерниях, где старые традиции были еще крепче, крестьяне высказались об одном трудолюбивом односельчанине следующим образом: «Что он? Как жук в земле копается с утра до ночи»[193]193
Ibid., 342 [Там же. С. 474].
[Закрыть].
Похоже, что в основе циничного отношения крестьян к богатству лежало предположение, что по производительности люди мало отличаются друг от друга. Это соответствует моей гипотезе, что практика переделов отражала веру в то, что допущение больших различий в обеспеченности землей не имеет особого значения, потому что это все равно не особо скажется на урожае, а если скажется, то толка от этого все равно будет немного, потому что куда же все это девать, ведь возможности сбыта ограничены? Но подобное умонастроение должно было понемногу исчезать с ростом специализации и появлением новых профессий, а также в той мере, в какой становилось все более очевидным, что укрупнение земельных владений ведет к росту производительности (в силу экономии на масштабах производства, а также предприимчивости и смекалке хозяина), а расширяющийся рынок предлагает новые товары, на которые можно было истратить деньги.
После освобождения эти установки также претерпели значительные изменения. Миронов утверждает, что крестьяне «стали гордиться богатством» и «а «умение нажить копейку стало служить мерилом оценки ума, характера и вообще достоинств человека»[194]194
Ibid., 354 [Там же. С. 486].
[Закрыть]. Он говорит, что после 1861 г. в общине начали развиваться «связи общественного типа, основанные на прагматичном расчете, рациональном обмене услугами и вещами, на различии в имущественном положении»[195]195
Ibid., 355 [Там же.].
[Закрыть]. В том же направлении изменялось содержание еженедельника «Нива», чрезвычайно популярного издания в кругах городской и сельской интеллигенции, и не исключено, что под действием тех же сил, которые меняли установки крестьян. «Нива» часто публиковала биографии выдающихся людей, жизнь которых казалась редакторам поучительной. За 1870–1880‐е годы она опубликовала шестнадцать биографий предпринимателей, и во всех герой подвергался критике за свою страсть к личному обогащению. Но девятнадцать биографий предпринимателей, опубликованных в 1990–1913 гг., были лишены этой критичности, а в центре их оказались патриотизм героя и польза, которую он принес науке, а порой даже подчеркивалось, что их дело полезно для общества. Хотя редакция не дошла до того, чтобы печатать статьи, выставляющие в благоприятном свете саму предприимчивость и предпринимательство, но зато со страниц «Нивы» исчез блиставший там прежде герой‐аскет, а с ним и проклятия в адрес стремления разбогатеть[196]196
Ibid., 491–495 [Там же. Т. 1. С. 317–320].
[Закрыть].
Другим признаком роста уважения к личным экономическим достижениям были выборы судей волостного суда. В своем довольно поучительном исследовании Бербанк обнаружила, что крестьянские выборщики предпочитали выбирать в судьи «зажиточных мужиков», из чего она делает вывод, что «выбирая таких людей в судьи, сельский люд демонстрировал, что связывает богатство с долгом и ответственностью»[197]197
Burbank, Russian Peasants Go to Court, 174.
[Закрыть]. Бербанк находит аргументы, выдвигавшиеся в этих судах, довольно «буржуазными»: «…будучи налогоплательщиками, участниками рыночной экономики, производителями и продавцами продукции, крестьяне рассчитывали, что их суды будут защищать собственность и обеспечивать выполнение договорных обязательств»[198]198
Ibid., 266. См. также p. 201, 260–261.
[Закрыть].
Изменение установок сказывалось и на функционировании общины. Молодежь все чаще заботилась о разделе семейного имущества при жизни отца и благодаря этому получала голос на сходе. Растущие сезонные заработки за пределами общины[199]199
Если в 1861 г. в 43 губерниях крестьянам было выписано 1,2 млн паспортов, открывавших возможности для трудовой миграции, то в 1910 г. их было выписано примерно 8,7 млн. См.: Burds, 22.
[Закрыть] давали семьям независимые источники дохода, что уменьшало потребность в большой семье как опоре и защите, а одновременно повышало у крестьян чувство самостоятельности и протест против перераспределения[200]200
Cathy A. Frierson, “Razdel: The Peasant Family Divided,” Russian Review 46 (1987): 35–52.
[Закрыть]. Крестьяне начали покупать землю за пределами общины, что открывало путь к экономической независимости[201]201
Mironov, Social History of Imperial Russia, 145 [Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи.].
[Закрыть]. Даже такой горячий сторонник общины и коллективизма, как Энгельгардт, видел это движение к личной независимости и понимал, что первыми идут в этом направлении самые умные и прилежные крестьяне[202]202
Engelhardt & Frierson, 87, 121–122. [Энгельгард А. Н. Из деревни. 12 писем. 1872–1887. СПб., 1999.]
[Закрыть].
За индивидуализм, разумеется, приходится платить. Ослабла готовность участвовать в общинном сходе и нести общинные повинности, а уровень преступности сильно вырос (более чем на 50 % за период с 1874–1875 гг. по 1909–1913 гг.)[203]203
Mironov, Social History of Imperial Russia, 343, 344 [Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. Т. 1. С. 476]. Уровень преступности на 100 000 населения вырос со 177 до 271.
[Закрыть]. Обычай «помощи» – вся деревня дружно бралась за строительство, скажем, конюшни, после чего следовали развлечения и выпивка, – постепенно отходил в прошлое. Нехватку трудового энтузиазма отчасти восполняли богатые крестьяне, видимо, из соображений престижа: в обмен на чисто символическую работу они ставили обильное угощение[204]204
Burds, 96–98.
[Закрыть].
С началом XX в. выгоды, извлекаемые Россией из своеобразного характера земельных отношений в общине, становились все меньше, а издержки – как и издержки от ограничения крестьянского выбора новых альтернатив – все выше.
Глава 3
Жизнь крестьян накануне реформы
Революция 1905 г. началась 9 января с чисто городского события, ставшего известным как Кровавое воскресенье. В Санкт‐Петербурге войска расстреляли мирный марш протеста, в котором участвовали преимущественно рабочие. По официальным данным, было убито 130 и ранено 299 человек[205]205
Abraham Ascher, The Revolution of 1905: Russia in Disarray (1988), 83–92.
[Закрыть]. Последовала волна забастовок в городах и в сельской местности. Группы крестьян нападали на имения помещиков, захватывали зерно и землю, сжигали усадьбы. Деревня долго раскачивалась; в январе было только 17 выступлений. Но к июню их число дошло до 492, потом сократилось до 155 в июле и до 71 в августе и сентябре (уборка урожая) и, наконец, достигло пика в ноябре – 796[206]206
Ibid., 162. Эти цифры охватывают крупные и мелкие выступления.
[Закрыть]. Первую волну беспорядков удалось в основном взять под контроль к концу 1905 г., но в мае 1906 г. пошла вторая волна. На этот раз крестьяне меньше жгли и грабили усадьбы, а больше занимались незаконным выпасом скота, валкой леса и, естественно, перестали платить налоги. Забастовали батраки, потребовавшие повысить плату. Остановить забастовки для правительства оказалось труднее, потому что нужно было не защищать усадьбы от разрушения и разграбления, а заставить крестьян вернуться к труду. Солдаты, вернувшиеся с неудачной войны с Японией, выступали в поддержку крестьян[207]207
Abrachm Ascher, The Revolution of 1905: Authority Restored (1992), 117–118, 123–128.
[Закрыть].
Было ли это результатом бедственного материального положения? Похоже, что крестьянская беднота довольно вяло участвовала в восстаниях, возможно, потому что их было легче запугать, чем зажиточных крестьян[208]208
Ascher, Russia in Disarray, 163–164; Ascher, 1905: Authority Restored, 115. Будучи губернатором Саратовской губернии, Столыпин в письме к тогдашнему министру внутренних дел Дурново отметил, что в событиях 1905 г. особую активность проявили зажиточные крестьяне. См.: George Tokmakoff, P. A. Stolypin and the Third Duma: An Appraisal of Three Major Issues (1981), 29–30.
[Закрыть]. В 1905 г. урожай зерновых (0,461 т на душу) оказался ниже, чем годом ранее, а урожай 1906 г. упал почти до уровня катастрофически неурожайного 1891 г. (0,377 т)[209]209
Ascher, 1905: Authority Restored, 117–118; Stephen G. Wheatcroft, “Crises and the Condition of the Peasantry in Late Imperial Russia,” in Peasant Economy, Culture, and Politics of European Russia, 1800–1921, eds. Easther Kingston‐Mann and Timothy Mixter (1991), 142. Хотя в большинстве районов беспорядки начинались до времени уборки урожая, урожай 1906 г. был настолько плох, что это только подлило масла в огонь. См.: David Moon, The Russian Peasantry, 1600–1930: The World the Peasants Made (1999), 124–125 (озимая рожь была сжата в центральных районах в конце июля, а в черноземных чуть ранее).
[Закрыть]. Вполне естественно, что восстания увязали с бедственным материальным положением крестьян, и, когда в июле 1906 г. Столыпин стал премьер‐министром, главным пунктом повестки дня оказался «аграрный вопрос», толковавшийся по‐разному, но вращавшийся вокруг необходимости улучшить материальное положение крестьян или по меньшей мере унять крестьянские волнения.
В действительности, вполне возможно, что объяснять восстания бедностью было ошибкой. Как мы увидим ниже, период перед революцией 1905 г. – подобно времени перед Французской революцией – был временем постепенного повышения зажиточности. Но русские крестьяне были еще довольно бедны, по крайней мере в сравнении с мелкими фермерами в других странах. Предложения по борьбе с бедностью распадались на два главных типа: они были нацелены либо на повышение производительности, либо на перераспределение земли. В этой главе мы рассмотрим положение дел с производительностью сельского хозяйства и с обеспеченностью крестьян землей, чтобы сделать понятными потенциальные возможности каждой из этих соперничавших идей.
Динамика сельскохозяйственной производительности на душу населения
Неадекватность дореформенного правового режима может привести к мысли, что к началу ХХ столетия положение русского сельского хозяйства было абсолютно безнадежным. Но это не так. Фактически, начав с очень большого отставания от Западной Европы, после освобождения крестьянства производительность в сельском хозяйстве России постепенно повышалась, в том числе в расчете на душу населения. Тем не менее в начале столетия отставание все еще было очень значительным, и темп улучшений не мог служить основой для удовлетворенности ситуацией в области прав собственности на землю.
До недавнего времени преобладало довольно мрачное представление о производстве зерна в России в последней четверти XIX в. Видный экономический историк Александр Гершенкрон, например, доказывает, что в этот период «русское сельское хозяйство… предпринимало героические усилия для поддержания на неизменном уровне производства на душу населения, но не справилось с этой задачей»[210]210
Wheatcroft, 131.
[Закрыть]. Потом выяснилось, что полученные им результаты объясняются тем, какие годы он взял для сравнения. Он сравнил 1870–1874 гг. с 1896–1900 гг., но первый пятилетний период был исключительно урожайным: 1870 г. был просто необыкновенно удачным, два года были просто хорошими (1872, 1874) и не было ни одного плохого[211]211
Ibid., 131, 133.
[Закрыть]. Если начальный пятилетний период сдвинуть вперед или назад всего на один год, те же данные показывают рост производства зерна примерно на 1,5 % в год, что соответствует годовому приросту населения[212]212
Ibid., 131.
[Закрыть]. Советский статистик Обухов, взявший период 1883–1914 гг. (выбор объясняется доступностью данных), использовал метод, при котором вес зерна в каждом промежуточном году принимался равным весу в первом и последнем годах периода, и получил рост производства зерна на 2,1 % в год при росте населения на 1,5 % в год, или чистый прирост обеспеченности зерном на 0,6 % в год[213]213
Ibid., 133, n. 5. По сути дела, Обухов использовал технику регрессии, при которой на график наносятся все годы периода и проводится обобщающая прямая, минимизирующая сумму расстояний от прямой до точек графика. Полученные коэффициенты роста сопоставимы с результатами Кондратьева (Кондратьев Н. Д. Рынок хлебов и его регулирование во время войны и революции. М., 1922), цит. по: Peter Catrell, The Tzarist Economy, 1850–1917 (1986), 121–122.
[Закрыть]. Уиткрофт делает вывод, что даже после вычета зернового экспорта получается, что потребление зерна увеличивалось[214]214
Wheatcroft, 133–142.
[Закрыть].
Таблица 3.1
Годовые темпы роста расходов на личное потребление

Пол Грегори, использовав другой подход, рассчитал количество зерна и других продуктов питания, остававшихся в сельскохозяйственных районах, чтобы оценить качество снабжения сельхозпроизводителей. Как показывает табл. 3.1, взяв чистый объем сельскохозяйственного производства и вычтя продукцию, вывезенную из сельских районов, Грегори обнаружил, что в период с 1885–1889 гг. по 1909–1913 гг. потребление продуктов питания в сельских районах увеличивалось на 2,7 % в год, и при этом периоды очень быстрого роста сменялись периодами стагнации или медленного роста[215]215
Paul R. Gregory, Russian National Income, 1885–1913 (1982), 130–132, 222–245.
[Закрыть].
Грегори получил сходные результаты для ряда других показателей экономических изменений. Он обнаружил, что производительность труда в сельском хозяйстве увеличивалась в период с 1883–1887 гг. по 1909–1913 гг. примерно на 1,35 % в год[216]216
Ibid., 168; also ibid., 133–134, 138. Грегори использовал термин «производительность труда» для обозначения количества продукции на одного работника. См.: ibid., 136. Можно было бы подойти к исследованию производительности труда таким образом, чтобы зафиксировать все переменные и измерить, например, зависимость роста от изменения человеческого капитала. Грегори эта возможность не заинтересовала.
[Закрыть], а доход на душу увеличивался на 1,7 % (из‐за падения производства в период революции 1905 г. после 1900 г. его рост на душу населения был существенно более медленным)[217]217
Ibid., 126, 147–148.
[Закрыть]. Кроме того, он обнаружил, что в сельском хозяйстве рост производительности не очень отставал от промышленности (75 %!) и что это соотношение было примерно таким же, как в странах Запада в тот же период[218]218
Ibid., 133, 168–169.
[Закрыть]. Грегори также показывает, что в период после освобождения крепостных рост дохода на душу населения в городах параллельно вызывает рост дохода в сельской местности, так что, если бы не было ограничений миграции в города, последняя вела бы к выравниванию реальной заработной платы[219]219
Paul Gregory, Before Command: An Economic History of Russia from Emancipation to the First Five‐Year Plan (1994), 42–43.
[Закрыть]. Конечно, как мы видели, в стране имелись препятствия к внутренней миграции, но они были сравнительно легко преодолимы.
Какое‐то время преобладало мнение, что рост крестьянской задолженности по выкупным платежам увеличивался, из чего делался вывод, что это было признаком растущей нищеты. При этом наблюдатели приводили суммы накопленной задолженности[220]220
См., напр.: Geroid T. Robinson, Rural Russia Under the Old Regime (969), 111.
[Закрыть]. Но это ведь не очень существенный показатель. Если крестьяне в целом ежегодно не могли внести ничтожный процент выкупных платежей, суммарный долг, естественно, должен был увеличиваться. Но фактически среднегодовые недоимки составляли всего около 5 %, и на протяжении всего периода эта величина оставалась достаточно постоянной. Пару раз, в 1887 и 1888 гг., сборы составили 106–107 %, т. е. какие‐то крестьяне погасили накопившуюся задолженность, а другие внесли плату вперед[221]221
Steven L. Hoch, “On Good Numbers and Bad: Malthus, Population Trends and Peasants Standard of Living in Late Imperial Russia,” Slavic Review 53 (1994): 44–48; James L. Simms, “The Crisis in Russian Agriculture at the End of the Nineteenth Century: A Different View,” Slavic Review 36 (1977), 381.
[Закрыть]. Поскольку правительство установило завышенную величину выкупных платежей, чтобы иметь возможность расплатиться с бывшими владельцами, даже собрав только 92 % намеченной суммы, пятипроцентная недостача фактически означала превышение. Когда в 1906 г. операция по выкупу надельных земель была завершена, правительство уже располагало растущим резервным фондом, составлявшим более 25 млн руб., или примерно 60 % годового платежа (вернее, таким он был бы, если бы ранее правительство не аннулировало половину долговых обязательств)[222]222
Hoch, “Good Numbers,” 45, 46–47.
[Закрыть]. Таким образом, история погашения выкупных платежей никак не свидетельствует о растущем обеднении крестьян.
Наконец, демография может косвенно измерить бедность сельского населения или отсутствие таковой. В быстром росте населения России после отмены крепостного права принято было видеть некую иллюстрацию к теории Мальтуса. Идея заключалась в том, что быстрый рост населения России демонстрирует неуклонно увеличивающийся разрыв между численностью населения и ресурсами (что по меньшей мере сомнительно). На самом деле рост населения России в 1861–1914 гг. – это еще одна иллюстрация изречения Эберштадта, что в новое время ускоренный рост населения начался «не потому, что люди внезапно стали размножаться как кролики, а потому что они наконец перестали умирать как мухи»[223]223
Nicholas Eberstadt, “Population, Food and Income: Global Trends in the Twentieth Century,” in The True State of the Planet, еd. Ronald Bailey (1995), 15.
[Закрыть]. Уровень рождаемости в России был почти неизменен до 1900 г., когда он начал быстро сокращаться (никаких кроликов, знаете ли!). Но уровень смертности начал снижаться задолго до этого – он медленно снижался с конца 1860‐х до начала 1890‐х годов, а затем его падение резко ускорилось[224]224
Hoch, “Good Numbers,” 62–63. Поскольку в этот период возрастная структура была стабильна, общие коэффициенты рождаемости и смертности поддерживают демографически значимую гипотезу о зависимости этих коэффициентов от возраста. См. также: Arcadius Kahan, Russian Economic History: The Nineteenth Century, ed. Roger Weiss (1989), 3.
[Закрыть]. Таким образом, в конце XIX в. в России имел место стандартный для новейшего времени демографический процесс – уровень рождаемости начал падать вслед за падением уровня смертности, а временной лаг между этими двумя тенденциями стал причиной значительного разового роста населения[225]225
Ср.: Geoffrey Drage, Russian Affairs (1904), 114–115 (обнаружено, что в первые 20 лет после освобождения крестьянства население увеличивалось пропорционально величине земельного надела: начиная с 16,6 % для имеющих менее десятины на душу и до 30,3 % для имеющих шесть и более десятин). Анализ недоразумения, приведший исследователей к необоснованно мрачному представлению о тенденциях изменения производительности и материального благосостояния, см. в: Elvira M. Wilbur, “Was Russian Peasant Agriculture Really That Impoverished? New Evidence from a Case Study from the ‘Impoverished Cenre’ at the End of the Nineteenth Century,” Journal of Economic History 45 (1983): 137–147.
[Закрыть].
В той мере, в какой улучшение питания может служить объяснением снижения уровня смертности, благоприятная демографическая динамика может свидетельствовать о повышении производительности сельского хозяйства в расчете на душу населения. Вообще говоря, возможны и другие объяснения снижения уровня смертности, но большинство из них (помимо улучшения питания) не представляются особо правдоподобными для России того времени. Главной причиной младенческой смертности в России была практика раннего прекращения грудного вскармливания, из‐за чего многие дети погибали от расстройств пищеварения, но, насколько известно, в этом отношении значительных изменений не происходило[226]226
Hoch, “Good Numbers,” 69.
[Закрыть]. Не было значительных изменений санитарно‐гигиенических условий жизни и в сельской местности, так что этот фактор не мог сыграть существенной роли, а скромность достижений вакцинации и терапии в Западной Европе того времени свидетельствует о том, что эти факторы не могли оказать значительного влияния на смертность в России XIX в.[227]227
Ibid., 70. См. также: Thomas McKeown, “Fertility, Mortality and Causes of Death: An Examination of Issues Related to the Modern Rise of Population,” Population Studies 31 (No. 3, November 1978): 535–542.
[Закрыть] С другой стороны, имело место некоторое сокращение смертности от оспы, что мало связано с питанием, а также от тифа и дифтерии, что может быть как‐то с ним связано. О серьезном улучшении уровня питания говорит увеличение среднего веса рекрутов в 1890–1899 гг.[228]228
Hoch, “Good Numbers,” 68–70. В другой работе Хох обнаруживает, что после 1830 г. периоды повышенной смертности (на 50 % выше скользящей средней [trended average]) не имеют никакой связи с нехваткой хлеба, измеряемой уровнем цен на зерно. Если бы это в целом оказалось верным для России, у нас исчезли бы основания связывать острые проблемы смертности и обеспеченности продовольствием, а благоприятные демографические данные перестали бы служить свидетельством повышения производительности сельского хозяйства. Хох, однако, не считает, что эти данные ставят под сомнение его предыдущие утверждения. См.: Hoch S. L., “Famine, disease, and mortality patterns in the parish of Borshevka, Russia, 1830–1912,” Population Studies 52 (1998): 357–368.
[Закрыть] В целом данные в какой‐то степени поддерживают вывод о повышении производства на душу населения. Или, если говорить более строго, они подрывают убедительность противоположного утверждения.
В начале XX в. производительность сельского хозяйства в России была значительно ниже, чем в Западной Европе. Согласно П. И. Лященко, средняя урожайность зерновых в России в 1909–1913 гг. была 43 пуда (0,69 метрической тонны) на десятину (2,7 акра, или 1,09 га), тогда как в Дании урожайность составляла 195, во Франции 190, а в Германии 152 пуда[229]229
Peter I. Lyashchenko, History of the National Economy of Russia to the 1917 Revolution, trans. L. M. Herman (1949), 735. [Лященко П. И. История народного хозяйства СССР. Т. 1. М., 1939. С. 613.] Справочник по европейской статистике, содержащий данные об общем производстве различных видов зерновых и о площадях их выращивания, свидетельствует о примерно таком же отставании России. См.: B. R. Mitchell, European Historical Statistics: 1750–1970 (1975), 210–226, 249–266. Митчелл приводит данные о площади, отведенной под пшеницу, рожь, ячмень и овес, и о производстве этих культур. Разделив урожай на площадь, получаем, что в 1909–1913 гг. средняя урожайность зерновых в России составила 0,75 т с гектара, тогда как в Германии она составляла 1,93 т, в Великобритании – 1,91 т, во Франции – 1,29 т, в Швеции – 1,64 т и в Бельгии – 2,37 т. В 1900–1904 гг. сопоставление выглядело не лучше: 0,71 т с гектара в сравнении с 1,67 т в Германии, 1,23 т во Франции, 1,07 т в Швеции и 2,29 т в Бельгии. В 1905–1909 гг. урожайность в России составила 0,67 т с гектара, что было отчасти связано с разрухой, воцарившейся в результате революции 1905 г. (У Митчелла данные об урожайности в Великобритании за 1900–1904 гг. приведены в гектолитрах, т. е. в мерах объема, а не веса, что трудно перевести в тонны с гектара.) Сходные данные приводит Анфимов. См.: Анфимов А. М. Крестьянское хозяйство европейской России 1881–1904. М., 1980. С. 202. См. также: I. M. Rubinow, Russia’s Wheat Surplus (1906), 25.
[Закрыть]. Отчасти это отставание может быть объяснено географическими факторами – в России не совпадают районы с плодородными почвами и зоны теплого климата с достаточным количеством осадков. При движении с северо‐запада на юго‐восток качество земли в целом ухудшается, а количество осадков увеличивается[230]230
Moon, 120. См. также: Kahan, Russian Economic History: The Nineteenth Century, 7 (о засушливом климате Черноземья).
[Закрыть]. Летом дожди приходят слишком поздно, и само лето из‐за северного положения страны слишком короткое[231]231
Richard Pipes, Russia Under the Old Regime (1975), 5–6. [Пайпс Р. Россия при старом режиме. М., 1993. С. 15.]
[Закрыть]. Альтернативное объяснение указывает на бедность крестьян, но здесь мы начинаем ходить по кругу. Не приходится спорить, что новшества всегда сопряжены с риском, а всякий риск опаснее для людей, живущих на грани нищеты, чем для более зажиточных. Но в любой момент XIX в. Россия была не беднее, чем страны Западной Европы в более ранний период; иными словами, бедность западноевропейских крестьян не остановила прогресс.
В России бедность – или что бы то ни было еще – также не остановила прогресс. Но страна явно отставала от Западной Европы, а русские крестьяне все еще жили в условиях чересполосицы (от которой в Европе к тому времени уже в основном избавились) и регулярных переделов земли (которых западноевропейцы никогда не знали). Нетрудно предположить, что если бы крестьянам, желавшим действовать самостоятельно, позволили выйти из системы, они сумели бы выращивать на русских почвах более богатые урожаи.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































