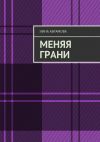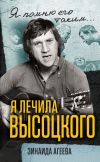Текст книги "Голова рукотворная"

Автор книги: Светлана Волкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
– Патогенез не ясен, – после долгой паузы наконец вымолвил Станкевич. – И что там с генами? В нашем случае это сильнейший фактор.
«В нашем случае», он так и сказал. Логинов почувствовал острый укол ревности – ревности профессиональной, научной и поэтому самой тёмной из всех возможных. И тут же что-то паскудное заныло под грудиной, и гаденький голос внутри просифонил: «Никому не отдавай Мосса, он только твой!»
– У отца была паранойя.
Станкевич кивнул, будто и ожидал это услышать. На самом деле у Мосса-старшего была не только паранойя, но и целый букет энциклопедических профильных синдромов неясной этиологии, Логинов умолчал, что собрал о нём, как и о матери Виктора, всю возможную информацию. Только как это знание теперь поможет? То, что в детях часто повторяются болезни родителей, конечно, неоспоримый факт, но надо не гипотезы строить, а вытаскивать Мосса из западни. Теперь, к концу разговора, Логинову было абсолютно очевидно, что Станкевич ему в этом не поможет.
Раздался громкий звук будильника, и профессор недовольно нажал на какую-то кнопку на больших наручных часах. Брови зашевелились на узком покатом лбу, напомнив Логинову двух толстых волосатых гусениц, короткий нос задвигался, будто обнюхивал что-то.
– Пора. – Станкевич поднялся и протянул ему руку. – Желаю вам терпения. И удачи. Дерзкой такой удачи. Ох, и пригодится же она вам!
Дав жестом понять, что не хочет, чтобы Логинов провожал его, Станкевич подхватил портфель и скорым шагом направился к двери. Но уже у самого выхода он вдруг обернулся и, вернувшись к столику, тихо произнёс:
– Как забавно, не правда ли? Если перефразировать народную мудрость: ты – то, что ты ешь… Выходит, ты – то, чего ты боишься. Боялся бабочек. Теперь вот самого тебя кто-то будет бояться.
И, неожиданно громко захохотав, он спешно вышел из ресторана.
14
Вера проснулась от рваного ощущения безграничной пустоты, обитавшей повсюду: и в темной комнате – некогда кабинете, где она теперь спала, и за неплотно занавешенным окном, и внутри, в сердце. Лишь голова была до отказа нафарширована обрывками мыслей, недосказанных фраз, сумрачных ожиданий неотвратимой надвигающейся беды. Вера села, натянув на колени край короткой ночной рубашки, обхватила себя руками за худенькие плечи и заплакала.
Чувство потери любимого человека, холодное и циничное, при нём живом – более того, находящемся рядом, в соседней комнате, было болезненным и отчаянно горьким. Нет, Виктор не изменил ей, как некогда изменил её первый парень, уйдя к другой, пышнотелой и яркой, – но именно тоска измены и тягость невозвратной утраты теперь наполнили душу по самый обод. Вера постоянно думала об отстранённом ледяном взгляде мужа, когда он часами сидел на полу, погружённый в свои мысли. Она боялась предположить, какие это могут быть мысли. Он лишь поворачивал голову на звук её голоса, но сам находился далеко – в таких неведомых далях, куда ей никогда не дойти, да и все двери закрыты. До него теперь не достучаться и не докричаться, как бы она ни старалась. Он не просто стал чужим, он стал для неё запретно чужим. Если подумать чуть глубже привычного: это ведь тоже измена – отдалиться настолько.
Вера всё ещё не могла забыть, как Мосс ударил её, и вздрагивала при громких звуках – падении книги со стола, хлопанье дверцы шкафа, стуке распахнутой от порыва ветра форточки. Принести в дом бабочек было абсолютным злом, она это понимала, но ведь того требовало лечение. Человек миролюбивый и тихий от природы, она искренне не принимала агрессию ни в каком виде. Но агрессия должна была принести избавление, так сказал доктор. Привыкшая с детства беспрекословно верить людям в белых халатах, сама следующая их предписаниям и выпивающая все назначенные таблетки, микстуры и порошки, Вера испытывала некий равный благоговейный трепет перед любым врачом, будь он участковым терапевтом или профессором-нейрохирургом. Доктора же, работавшие с тем, что внутри головы, вообще казались ей магами. Такие как Логинов, например.
Но что произошло с мужем? Сильнейший испуг, стресс должны были избавить его от фобии. Так фобии больше и нет. Даже наоборот. Ненависть трансформировалась в любовь. Наверное, так бывает. Доктор Логинов говорил что-то о гиперкомпенсации. Вера вспомнила, как наутро после тех роковых событий Виктор нашёл за мусорным ведром погибшего мотылька. Это было случайностью, потому что она тщательно вымыла всю квартиру, стараясь вытравить любое напоминание о бабочках и чувствуя перед мужем нескончаемую вину. Крохотный мотылёк лежал тонким белым лепестком, плотно сложив крылья, Виктор взял его на ладонь и долго ходил с ним по комнатам, баюкая и шепча ему что-то. Ближе к вечеру он похоронил мотылька во дворе, под тополем. Соседские дети с интересом наблюдали за ним, бросив свои привычные игры. Вера смотрела на мужа из окна с замиранием сердца и боялась, что ребятня скажет ему что-то обидное, злое, по-детски циничное. Но малыши серьёзно и молчаливо соучаствовали в игрушечных похоронах, а кто-то из них даже принёс из дома бледно-розовую головку бегонии и положил на могилку. Дети любят играть в смерть и делают это талантливо.
Вера сначала возликовала: он больше не боится! У него не сводит скулы от прикосновения, не бледнеет лицо, не немеют пальцы! Виктор здоров?
Но, приглядевшись к нему поближе, она с ужасом поняла: он здоров не тем здоровьем, которое ей бы желалось.
Вера встала, накинула халат, на цыпочках прошла по коридору к спальне и приоткрыла дверь. Зайти не рискнула: сон Виктора был по-звериному чу́ток.
Кровать, на которой ещё совсем недавно они спали вдвоём, с этого ракурса выглядела невероятно громоздкой, особенно в соотношении со скрюченной фигурой Мосса. Вера обратила внимание, что его поза за последнюю неделю поменялась – не припомнить, чтобы он когда-то мог заснуть вот так, согнувшись пополам, скрючившись, скособочив плечи и положив голову набок на колени. Его тело стало гуттаперчевым, неестественно гибким, как прорезиненная подвеска от бегунка застёжки-молнии, – и так же, похоже, завязано в петельку.
Лицо Мосса казалось сосредоточенно-каменным. Глаза – Вера вздрогнула – были закрыты не полностью, и белёсая щель между верхним и нижним веком придавала им ощущение чего-то неживого, зловещего. Вера зажмурилась. Чушь! Это же её любимый, вон он мирно спит в трёх шагах! Она сейчас откроет дверь, подойдёт и поцелует его. Просто поцелует. Она – жена, все жёны так делают.
Но подойти Вера не решилась.
Сомнений к этому моменту у неё уже не оставалось – Мосс болен. Болен незаразной, но такой страшной болезнью, мысли о которой всё это время беспокойно роились в Вериной голове, не давали покоя. Уже утро, пройдёт не более часа, и он проснётся – дикий, чужой. Проснётся, чтобы сразу нырнуть в иную галактику, куда ей визы никогда не дадут.
Вера почувствовала, что предательские слёзы снова покатились по щекам, и осторожно прикрыла дверь.
Войдя в кухню, она заварила свой любимый сорт зелёного чая, достала телефон и послала Логинову сообщение: «Феликс Георгиевич, я больше не могу».
Несмотря на ранний час, он сразу перезвонил ей.
– Верочка, я понимаю. Но потерпите. И ни в коем случае не показывайте ему, что вы грустны и обеспокоены.
– Да он и не смотрит на меня! Вообще меня не замечает!
– У него постшоковое состояние. Но я работаю с этим, дайте мне время и…
– Феликс Георгиевич! Что-то не так. Мне кажется, Виктор очень болен. Шок не может длиться так долго. Вы… – она запнулась. – Вы что-то от меня скрываете!
В паузе ему было слышно, как Вера всхлипывает.
– Феликс Георгиевич… Он ведь не сошёл с ума?
Она хотела сказать «не окончательно сошёл с ума», но не решилась.
– Что вы, Вера! Никогда не произносите таких слов!
Это были именно те слова, сказанные доступным немедицинским языком, которые и отражали суть. Надо было подобрать не менее простые и убедительные фразы, чтобы она успокоилась.
– Вера, мозг человека – самое сложное устройство во Вселенной. То, что с ним происходит, напрямую зависит от среды, от отношения окружающих, от тех слов, которые…
Она издала какой-то пищащий протяжный звук. Логинову даже показалось, что завыла.
– От каких слов, Феликс Георгиевич? Он со мной не разговаривает! И не слышит меня!
– Совсем?
Вопрос был лишним. Логинов прекрасно знал, что это так и есть.
– Проронит пару слов за обедом и снова – в свой панцирь, будто нет меня.
– Ну вот видите, – Логинов попытался передать голосом улыбку. – Какой же он сумасшедший? Просто молчун. Хуже было бы, если бы ваш муж трещал без умолку по всякой ерунде.
– Феликс Георгиевич… – она снова всхлипнула. – Я уже думаю, чёрт с ним, жили бы мы дальше спокойно с его боязнью бабочек. Ведь жили же раньше… А сейчас в нём всё изменилось. Абсолютно всё. Даже внешность. Он не просто отдалился, он стал каким-то… Даже слова точного не подобрать. Инородным, что ли. И смотрит на меня так… так…
– Вера! – он резко перебил её. – Возьмите себя в руки! Виктор больше никогда не ударит вас. Никогда, запомните! Мы с вами делали всё правильно. То, что он замкнулся в себе, – в рамках нормы. Считайте это временным аутизмом. И не забывайте ни на минуту: муж целиком зависит сейчас от вас.
Вера молчала. Потом тяжело вздохнула – будто скрипнуло старое сухое дерево.
– Вы ведь вылечите его? Скажите мне, только правду, я всё выдержу! Вылечите?
– Я уже его в-ы-л-е-ч-и-в-а-ю. Неправильное слово. В-ы-в-о-ж-у. Современная медицина, Верочка, творит чудеса. Нужно только немного времени. У меня беспроигрышный метод, он вот-вот даст результаты!
* * *
Логинов соврал. Никакого метода у него не было, как не была даже нащупана хлипкая тропка, ведущая к нему. Сильные антидепрессанты и нейролептики не панацея. Нужно что-то ещё. Гипноз? Ванны? Электрошоковая терапия, привет, – в рифму – карательная психиатрия? Судорога как последний дарованный шанс. Пропустить через мозг ударную волну в полторы тысячи миллиампер, триста-четыреста вольт, пациент подёргается в своём сакральном танце секунд двадцать-тридцать – много, но чтоб наверняка, – и всё. Пошёл вон, ты выздоровел.
Где он, выход, где? Логинов мучился, но решение не приходило. Все вегетативные прелести фобии, включая нервозность, раздражительность, беспокойство, дрожь, мышечный спазм, бессонницу, головные боли, респираторный алкалоз, учащённое сердцебиение, – всё снималось препаратами. Но что делать, чтобы выбить навязчивую идею, маниакальное откровение о принадлежности к другому биовиду? Должен быть выход, должен! Логинову не давала покоя мысль, что беда Мосса временная и всё, что с ним происходит, – лишь следствие шока, субститут утерянной фобии. Только – Вера права – больно уж всё это затянулось. Прошло заветное «время Че», ходики пробили двенадцать, и он, этот чёртов шок, впитался в клетки мозга, окаменел, стал необратимым, злым.
И Логинов снова и снова погружался в чтение форумов и научных статей.
Его интересовала прежде всего статистика выздоровлений. Но чем больше он копал, тем сильнее убеждался: такой статистики не существует. Есть адаптация, но это не выздоровление. Занавес. Можно ставить жирную точку.
У одного психиатра из Базеля даже была гипотеза, что подобные расстройства не надо трогать вообще, потому что можно расковырять в пациенте гораздо бо́льший нарыв, и человек с такой бедой не справится уже ни сам, ни с врачебной помощью.
Что ж, если наука говорит, что адаптация – это единственное решение проблемы, надо искать к ней ходы.
Он попросил Киру собрать все материалы о бабочках – об их видах, питании, жизненном цикле от икринки до имаго, среде обитания, врагах и географии миграций. Кира подготовила Логинову подборку из интернета, но ему было этого недостаточно, он отправил её в книжный магазин. Кира вернулась с роскошным альбомом. Рассматривая цветные фотографии махаонов, монархов, адмиралов и птицекрылов, Логинов подумал, что, возможно, в данный момент то же самое делает Мосс. Он представил, как тот водит пальцем по энтомологическому каталогу с одной лишь целью – определить в нём своё место. Возможно, он узнал себя среди крапивниц или аполлонов – хотя нет, скорее траурниц, это больше ему подходит.
Логинов часами разглядывал кадры с увеличенными под микроскопом усиками и хоботком, невероятной архитектуры фасеточными глазами, вглядывался в строение чешуйчатого крыла и не мог отделаться от мысли, как хрупка и фантастична природа этого существа, как необъяснимо то, что с ним происходит: вот крошечная точка яйца, затем рогатая гусеница, потом куколка и, наконец, венец метаморфоза – имаго, красивое и сложное, ничего не имеющее общего с собою в предыдущей стадии. Мир бабочек – это космос, где каждое насекомое – отдельная галактика, неподвластная человеческому разуму. Мы можем изучать их, писать о них километры книжных страниц, снимать фильмы, можем выращивать их в неволе, даже влиять на их окраску и способность к мимикрии, наконец, можем просто приколоть их булавкой к картонке. Но мы всё равно никогда не постигнем их тайны и их величия.
Аккуратно записывая все свои и чужие мысли в тетрадь, Логинов с усмешкой подумал, что, когда его окончательно выкинут из психотерапии, как когда-то выкинули из психиатрии, он запросто сможет работать профессиональным лепидоптеристом – специалистом по бабочкам. От этого стало немного льдисто на душе, но ему показалось – в чём-то даже справедливо.
Головная боль, как ни старался Логинов, не уходила. Он снимал её таблетками, хотя сам, как врач, понимал, что по уму надо бы просто выспаться и побыть на свежем воздухе. Он снова начал уезжать из Светлогорска и проводить в калининградском офисе много времени, там ему лучше думалось, да и домашняя обстановка постоянно отвлекала. Само присутствие Марины – пусть тихой невидимой тенью проходящей где-то за дверью или едва слышно побрякивающей посудой на кухне, подбрасывало в мозг отвратительно свербящую мысль: вот ещё одна нерешённая проблема, в тяжести и логике не уступающая его научным копаниям по теме Мосса. Логинов осознавал, что в болезни жены нет кнопки – опции «отложить на потом», но вынужден был расставить приоритеты иначе. В пользу Мосса. По одной банальной и всё определяющей причине – он знал, что Мосс не справится с навалившимся на него новым самосознанием и просто-напросто умрёт. Как именно умрёт – уже не столь значимо, важен сам факт. Марина же будет жить.
Кира теперь была с ней три-четыре дня в неделю с ночёвками. Могла бы и чаще, так она заявила, но Логинову нужна была её помощь в офисе. Тревога за жену немного притупилась, и он довольствовался короткой Кириной фразой «всё хорошо», боясь расспрашивать дальше, коря себя за попытки зарыть голову в песок и в глубине души надеясь, что если и не так «всё хорошо», то и ненамного хуже.
«Родная моя, я не забываю о тебе. Потерпи чуть-чуть. Совсем немного. Я найду отвёртку к Моссу и буду с тобой двадцать четыре часа в сутки. Мы уедем путешествовать. Только вдвоём». Так он хотел сказать ей, спящей, каждое утро.
Но время летело, и «совсем немного» переходило в другие «совсем немного». А он не продвинулся ни на йоту в решении задачи с двумя неизвестными: первым – остановить прогрессирующее расстройство Мосса, и вторым – адаптировать его к враждебному миру.
Когда становилось невмоготу от душных четырёх стен, Логинов отправлялся бродить по улицам. Весна уже вошла в полную цветущую силу, обмакнула свою кисть в ведро с бело-розовой краской и брызнула на яблони-вишни, добавив в декорации старых прусских домов свежие зефирные мазки. Акации и форзиции выдали чистый цыплячий цвет, и всем было так хорошо от этого, что невозможно не улыбаться. Но Логинов не замечал весны. Он бродил по тихим улочкам, поглощённый мыслями, и, уткнувшись глазами в серый асфальт, лишь изредка поднимал голову кверху, смотрел на спутанные шары омелы на тополях и снова нырял куда-то в себя. Прохожие вполне могли принять его за чокнутого, но ему было наплевать на их домыслы, как и на них самих.
А мыслей в голове его роилось много; они выстраивались в некую островерхую фигуру, подобно пирамидке муравейника, шевелящейся и математически совершенной, только ни одна из них не давала ответа на ту задачу, которую он решал. Ему когда-то нравилась идея Ницше об интеллектуальной честности – суть её заключалась в том, чтобы домысливать любую мысль до её самого последнего предела. Домыслил – можно выкидывать, как шкурку от съеденного банана. Так он и поступал, вышагивая к Фридрихсбургским воротам, от них к башне Дона, потом спускался к реке Преголи, ни на секунду не давая мозгу отдыха.
Гипотезы – одна фантастичней другой – под маской научных изысканий, вычитанные в журналах и интернете от и до, обмусоленные мозгом до состояния ветхих тряпочек, иногда вводили его в пробковый ступор, и головная боль снова начинала закручивать свои шурупы. Логинов уже не обращал на неё внимания, как не обращают внимания бедуины на нечеловеческий жар пустыни, и в этом состоит мудрость и сила их выживания: надо просто принимать этот жар как данное, как пять пальцев руки или корявый саксаул на горизонте.
В один из вечеров, бесцельно бродя по притихшему старому городскому району, Логинов вдруг остановился и заметил, что у него две тени – от двух чугунных изогнутых фонарей. Обычное явление, виденное им довольно часто, на этот раз испугало его. Логинов замер, не в силах сделать шаг, и долго заворожённо смотрел на две долговязые фигуры, вытянутые на асфальте, видя в них некий сакральный, мистически-тяжёлый знак. По телу пробежал озноб, и Логинов, чтобы прогнать наваждение, громко рассмеялся. «Сумасшедший!» – дёрнулась проходившая мимо старушка в круглой шляпке и перешла на другую сторону улицы.
Сумасшедший?! Нет, он не сумасшедший! Логинов даже возмутился. Это старый шутник Гофман, уроженец Кёнигсберга, издевается над ним, ёрничает, «подставляет»! Возможно, на этом самом месте ему, Гофману, и пришла идея «Двойников». Да-да, именно на этом месте, возле двух прусских рахитичноголовых сутулых фонарей! Логинов вгляделся в собственные тени, и давняя немецкая теория доппельангера – тёмной стороны личности – показалась кристально понятной и очевидной. Вот слева он, силуэтом напоминающий пролитую на тротуар каплю прозрачного сиропа, а справа… Справа такой же, только, кажется, чуть более вытянутый, с яичной головой и длинными худыми руками. Где-то он уже видел эти руки? Один – правильный, добрый. Другой – тёмный, злой. Или наоборот: это он – плохой, а другой – хороший? Немцы когда-то были без ума от подобных идей раздвоения. А мистического-то ничего и нет на самом деле. У каждого есть двойник, но встречаются они лишь в двойных тенях на старой улице тихим вечером. И ещё в мимолётных отражениях на стекле проезжающих автобусов. Если повезёт.
Логинов бесконечно долго стоял, смотрел, не отрываясь, на леденцовый свет фонарей, пока всё вокруг не стало периферично-серым, мутным, нечистым. И только его тень и брат-близнец рядом – тот самый, чью лиловую рубашку он носил в раннем детстве, – приобрели какую-то космическую масть, глубокую и нескончаемо страшную. И Логинов почему-то вспомнил, что в демонологии у Блаженного Августина дьявол лилового цвета…
Он дёрнулся, пошёл быстрым шагом прочь, и длинный остроплечий Мосс слился с его собственной тенью, съел её и ещё гоготал где-то в висках: «А не было у тебя брата-близнеца! Вот у меня был, я помню его. Умер зародышем. А может, это ты и есть?!»
Где-то совсем рядом пробили часы на башне. Двенадцать раз.
Двенадцать – апостольское число.
Логинов вздрогнул, часто заморгал, чтобы прогнать своих демонов, и прибавил шаг.
ВСЁ ТИХО В ТВОЕЙ ГОЛОВЕ!
Криворотый месяц с электрической ухмылкой долго провожал его, в унисоне с мыльными фонарными бликами бросая под ноги световые монеты.
* * *
Мосс выглядел по-особому мрачным. На всегда бледных щеках его в этот раз зигзагом обозначилось некое подобие румянца – слабый росчерк разбавленного водой розового. Голова была утоплена в плечи, нос, казалось, заострился ещё больше, взъерошенные волосы напоминали спалённый до угольной черноты сноп сена, а сам он, точно всклоченная напуганная птица, сидел, накренившись, на самом краешке стула, готовый в любой момент вспорхнуть и кинуться в оконный проём. И руки, эти руки! Два тонких осиновых ствола с узловатыми дуплами-суставами и бесконечными фалангами химерических длинных пальцев играли в воздухе, метались, плели какой-то свой рисунок в такт словам, придавая им объём и силу. Когда Мосс замолкал, руки вяли, повисали плетьми вдоль тела, плечи ещё больше ползли вверх, а спина вздыхала тяжело и сутуло. Он был таким несчастным.
– Я устал скрывать. Я чувствую, что не выдержу. Помогите мне, – Мосс взглянул на Логинова со слабой надеждой. – Скоро всё всплывёт наружу…
Он заёрзал на стуле и, не дождавшись ответа, повернулся к окну.
Логинов молчал. Ещё раз сказать, что он всё понимает?.. Ему нечего было ответить.
– Что мне делать, если они догадаются? – процедил Мосс сквозь зубы и снова повернулся к Логинову, наклонился вперёд, приблизил лицо, чего раньше не делал никогда, и осторожно ощупал его ищущим взглядом.
Он сказал «они», чуть заметно выделяя это слово из общей фразы, и по движению его острых локтей, по атласному блеску расширенных зрачков, по едва уловимому сжатию линии губ на выдохе Логинову было абсолютно очевидно: «они» – это все окружающие Мосса люди, все до единого, и все чужие, несущие зло и смерть, и в этой толпе стоит он сам, Логинов. Стоит на противоположном берегу кишащей чудовищами реки, где нет ни моста, ни брода.
– А если меня спросят напрямую, док? Вдруг я случайно проговорюсь? Вы вот мне всё-таки не верите, а значит, другие не поверят тоже, сочтут меня идиотом. А я не идиот, нет! Что тогда со мной будет?
Что будет? Мосс освободится, и на какое-то время ему станет чуточку легче, он даже почувствует себя счастливым. А потом? Не пройдёт и часа, как кто-нибудь сердобольный – да та же его соседка, как её… Галина… вызовет скорую, и счастливого Мосса увезут туда, откуда ему, возможно, уже не выйти никогда. И он, Логинов, будет бессилен помочь ему.
– Нет. Я запрещаю вам.
Именно так. Жёстко. Логинов не может позволить себе потерять его.
– Потерпите, Виктор, прошу вас! Не ради меня, а ради новой вашей… – он запнулся. – Новой вашей жизни. Таких, как вы, единицы на миллиард.
– Почему на миллиард? – удивлённо вскинул брови Мосс. – Нет! Нет же! Популяция, конечно, не сказать чтобы часто встречающаяся… Но… Вот, смотрите.
Он порылся в кармане мятого льняного пиджака и вытащил журнальную вырезку, аккуратно сложенную и помещённую в прозрачный файлик. На цветной фотографии замерла бело-серая бабочка с круглыми тёмными горошинами на крыльях и блестящим вытянутым чёрным телом. С первого взгляда её вполне можно было принять за обыкновенную капустницу.
– Это мне-мо-зи-на, – с затаённым восторгом по слогам вымолвил Мосс.
«Мнемозина. Небольшая бабочка, житель европейской части России и Южного Алтая, – вспомнил Логинов свой альбом. – Значит, он ассоциирует себя именно с ней».
– Когда я увидел её, – продолжал Мосс, – я сразу почувствовал, что это родная душа. Именно она. Не адмирал, не совка, не голубянка. Даже не синяя Морфо. Нет. Мнемозина. Сначала я думал, что мне ближе пяденица…
– Послушайте, Виктор, – перебил его Логинов. – Давайте сделаем так: вы оставите мне этот портрет и не будете никому говорить о том, что дали мне его. Как и о том, что с вами происходит. Вы обещаете мне?
Мосс помолчал, нырнув в свои глубинные путаные мысли, потом выпрямился на стуле.
– Можно я пока оставлю вашу булавку у себя? На время. – Он вытащил из кармана синий кожаный футляр, щёлкнул замочком, подцепил двумя пальцами большую булавку с пауком в стеклянной головке. – Я никого больше не убью. Хотел отдать её вам в тот день, в больнице, даже с собой взял. Но забыл тогда, а сейчас она мне вроде как талисман. Лежит на прикроватной тумбочке в спальне, я без неё заснуть не могу. Смотрю на паука – нет, не боюсь его, просто… Не знаю, как объяснить… Из-за неё и было моё превращение… Если она дорогая, антикварная, я заплачу!
– Не стоит, это подарок, – устало ответил Логинов.
– Она дорога мне невероятно, – Мосс кашлянул и взглянул на него беспомощным взглядом. – А сколько ещё всё это скрывать?
И снова едва уловимые оттенки голоса. «Всё это» – Мосс описал вокруг себя шар, и не было точнее жеста: его новая планета, другая галактика, он на ней сейчас один. И нет сильнее и убийственней такого одиночества.
Сколько ещё всё это скрывать? Логинов хотел сказать: «Ты проживёшь столько, сколько сможешь сохранить свою тайну в секрете», но вымолвил совсем другое:
– Неделю.
Мосс задумался на мгновение и кивнул, улыбнувшись своим нездешним мыслям.
* * *
Билет до Риги и обратно Логинов взял на один и тот же день. Рейс с пересадкой в Минске, прямых нет. Долго и муторно, но на поезде трястись больше суток, а у Логинова и часа лишнего не было. Из аэропорта он взял такси и сразу поехал в пригород, в частный психиатрический реабилитационный пансионат. Таксист попался словоохотливый, травил несмешные байки и всё предлагал покатать по городу. Логинов отказывался, про себя моля его заткнуться и жалея, что сел именно в это такси. Надо было, как в шпионских фильмах, пропустить пару машин и выбрать третью или четвёртую. Впрочем, рижские водители наверняка все одинаковые, с определённым набором хромосом, бородатых русских анекдотов и невоздержанной словоохотливостью.
Сзади таксист походил на жука: покатая спина в рубчатом пиджаке, напоминающем хитиновый покров, шеи почти нет, только голова усажена репкой в воротнике – кажется, что длинные усы просто спрятаны, и стоит ему сделать движение – они выползут из височных костей точно так же, как выползает антенна на крыше какого-нибудь спортивного автомобиля.
Логинов поймал себя на мысли, что начинает смотреть на мир глазами насекомого. Так, наверное, думал бы Мосс, если бы сидел сейчас рядом. И сразу вспомнилось: «В голову зверя не залезешь». Кто сказал? Теперь уже не вспомнить, да и неважно.
Пока такси виляло по чистеньким улочкам тихого пригородного рая, у Логинова появилось смутное ощущение, что песчинки в его песочных часах почти все высыпались, осталась лишь щепотка, и если в ближайшие сутки он не придумает, что делать с Моссом, то уже не придумает никогда. И в то же время где-то на самом дне тёмного колодца души он чувствовал, что решение где-то поблизости, ходит вокруг колесом, как балаганный петрушка, дышит в затылок, надо только изловчиться и ухватить его за бубенец. Мучило дрянное подозрение, что эта поездка бесполезна и что в Риге будут потеряны драгоценные часы, но всё же он отчаянно надеялся, что предстоящая встреча с пациентом Станкевича даст ему хоть какие-то ответы.
Доктор неопределённого возраста, с застёгнутым лицом, трюфельными глазами и загадочной табличкой на халате «врач-координатор», принял Логинова с царскими почестями. Упомянутое имя профессора Станкевича привело его в благоговейный трепет, и он заверил, что готов предоставить Логинову для работы «над его темой» всё – от информации до собственного кабинета. Но, проговорив с доктором час и не меньше времени потратив на изучение бумаг, Логинов ничего нового для себя не узнал. Способы лечения старые. Методы диагностики – ещё старее. Из нестандартного набора – только «вишенки на торте» в виде свето– и аромотерапии, бесполезные, как кокосовая стружка на невкусной конфете, но, видимо, необходимые для оправдания стоимости суточного пребывания на этом пафосном психиатрическом курорте. Цена, к слову, была настолько высока, что администрация могла позволить себе кормить постояльцев ресторанной едой и к каждому из них приставить дежурную нянечку.
Убедившись в бессмысленности двух убитых часов, Логинов пошёл в другой корпус к пациенту.
У него было уютное домашнее имя Митя Бабушкин, и сам он, несмотря на почтенный возраст в шестьдесят один год, походил на большого ребёнка, любимого и ненаглядного бабушкиного внука. Полностью лысый, розовый, с идеальной формой черепа, пухлыми маленькими ручками и капризной детской губой, Митя совсем не вписывался в строгий интерьер психиатрического пансионата. Лицо его было чисто и наивно, и казалось, он попал сюда по ошибке, его скоро заберут, ну не могут же не забрать такого вот славного.
Палата оказалась оптимистически солнечной, что, вероятно, было здесь исключением: Логинов приметил, что почти все окна корпуса повёрнуты на север и северо-восток. Сквозь узкие рейки жалюзи просачивался полосатый свет, и было в этой кошачьей игривости что-то абсурдное и гротесковое, если вспомнить страшный диагноз поселенца – когнитивно-энфазийное расстройство. Митя сидел на кровати в белой сатиновой пижаме, закатав штанины до колен и опустив ноги в тазик с водой. Рядом, на кроватной спинке, висел голубой вафельный халат. Когда Логинов вошёл, Митя кивнул ему, как старому знакомому, предложил сесть на единственный стул возле небольшого квадратного стола, выразил радость, пожаловался, что очень страдает из-за того, что номера здесь одноместные – не поговорить с соседями. Он так и сказал – «номера».
Митя живо отозвался на просьбу рассказать о себе, и в его истории никто бы не заподозрил тревожных симптомов. Родился в Мурманске. Почти всю жизнь проработал в гражданском флоте, ходил в северные моря. Был женат два раза, в обоих браках по сыну и дочери. В пятьдесят два года вышел в отставку, увлёкся резьбой по дереву, преуспел в этом, даже пару учебных пособий написал. Участвовал во всевозможных выставках, полный ящик наград. Вырезал из липы модель корабля «Ваза» величиной с мелкого карася, ювелирно запаял в бутылку из-под русской водки и передал с нашим консулом шведской семье, теперь вот искренне верит, что его творенье стоит в кабинете шведского короля Карла Густава. В общем, обычный среднестатистический комиссованный на скучную сушу незлобливый морячок, ничего трагически необыкновенного.
– Вы понимаете, почему вы здесь? – осторожно спросил Логинов.
– Конечно, – невозмутимо ответил Митя. – Когда дети были маленькими, я велел им делать то, что для них полезно. Теперь они выросли и знают, что полезно мне. Старшая дочь каждый год привозит меня сюда. Здесь чудесное место, вы не находите? Рижское взморье, свежий воздух. Дети лучше знают, что нужно пожилым родителям.
– Но вы здесь уже больше года, – вкрадчиво вставил Логинов.
– Дети считают, что я должен отдохнуть.
– А вы сами? Вы как считаете?
Митя пожал плечами и пошевелил круглыми розовыми пальцами ног в тазу. По лицу его проскользнула улыбка и тут же исчезла.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.