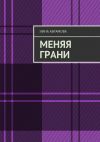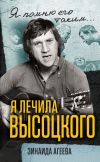Текст книги "Голова рукотворная"

Автор книги: Светлана Волкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
– Ты у меня большой, сынок. Решай сам, – вздохнула она, когда поняла, что любые уговоры бесполезны.
Присказка «ты большой, решай сам» как-то сама собой вошла в её речь, когда Моссу исполнилось года три, и с тех пор была единственным заклинанием, способным унять его детские капризы. Он как-то сразу затихал, услышав «ты большой», задумывался, насупив брови, и по-особому глядел на мать – не то с удовлетворением, что будет так, как он пожелал, не то с опаской: как же так, «решай сам», ты бросаешь меня, мама? Снова бросаешь? Я же ещё ребёнок!
Но тем не менее он очень рано усвоил, что мать – слабая, а он, хоть и болел едва ли не каждую неделю, всё равно в их маленькой стае, состоящей из двух единственных на земле родных существ, он – доминирующий самец, вожак, и в конечном итоге как он скажет, так и будет.
– Я решил. Сам. Не буду ходить в «художку».
Раиса помолчала и согласилась.
Через месяц Бригитта Юрьевна сделала то, чего не делала в своей жизни никогда и ни для кого, даже для блатного начальственного приплода: сама пришла домой к Моссу.
– Не со мной, – помотала головой Раиса, – с ним разговаривайте.
Директриса прошла в комнату, села на скрипучий диван рядом с нахохлившимся беглецом и без предисловий и обращения выпалила:
– Бог поцеловал тебя в темя. Такими, знаешь ли, толстыми вывороченными африканскими губами – захватил ими огромную площадь. А для одноклассников твоих сложил губы куриной гузкой и лишь клюнул их в макушки тихонечко – тюк и готово. Но ведь тоже, поди, отметил…
Она понимала, что так нельзя разговаривать с ребёнком, но ведь не с мальцом говорила – один взгляд его чего стоил, разумнее, чем у иного взрослого. Слова эти Мосс запомнил на всю жизнь. Но тогда, глядя на сухонькую строгую бабушку в вишнёвом вельветовом жакете, он вжимался потной спиной в диванную подушку и думал только о том, что никогда не вернётся в школу. Никогда.
– У тебя, мой мальчик, имя, – качала седеньким кукишем на голове Бригитта Юрьевна. – И ты его, голубь мой, не позорь.
Мосс взвесил её тяжёлым взглядом исподлобья, и ей сразу стало понятно, что договориться с этим ребёнком не получится. Она что-то ещё говорила, стараясь, чтобы голос звучал убедительно и душевно, а это всегда помогало при сложных разговорах с детьми, но Виктор просто выключил мозг – как выключают свет в комнате, шлёпнув пальцем по кнопке на стене. Это умение он отточил в ещё совсем раннем возрасте, когда ходил в детский сад в недолгие промежутки между болезнями или оставался с соседкой Галиной, пока мать была на работе. Щебетание взрослых на их птичьем языке было почти всегда ему неинтересно, и поначалу, в первом классе начальной школы, учителя не без основания подозревали у него дебильность. Но Раиса как-то сумела достучаться до его запертого за стальными дверями сознания и объяснить сыну, что учёба – это необходимая штука для элементарного выживания. Из её слов Мосс сделал свой вывод: если он будет плохо учиться, мать расстроится и очень быстро заболеет, а потом умрёт.
Бригитта Юрьевна ещё полчаса безуспешно пыталась просверлить хоть крохотную дырочку в его захлопнутой бронированной двери, но Мосс её так и не впустил. Она ушла, не оставив в его памяти ни зацепки, ни облачной тени, ни даже чуть продавленной на стареньком диване круглой вмятинки. Будто и не приходила. Лишь спустя десять лет, направляясь от могилы матери в сторону выхода с Цветковского кладбища, он неожиданно заметил у дорожки простенький бетонный прямоугольничек с привязанной к нему проволокой половинкой бутылки из-под колы. В ней стояли большеголовые ромашки, удивительно живые посреди мрачного пейзажа гранитных плит и пластиковых венков. Процарапанная надпись сообщала: «Коблец Бригитта Юрьевна. Любимому педагогу от скорбящих учеников». И Мосс сразу же вспомнил и миниатюрную сутулую фигурку, и седенькую кичку на темени, и то, как, уходя от них, она на мгновение застыла в прихожей и тихонько сказала матери:
– Трудно ему придётся. Голову, голову его берегите. Как бы божья искра не выжгла её изнутри.
А теперь вот «…педагогу от учеников». Не от родных, не от детей и внуков, не от безутешного вдовца-мужа. Одинока была, и Мосс сразу почувствовал какое-то необъяснимое родство с ней и впервые в жизни пожалел, что так и не узнал её.
Ему часто приходилось слышать за спиной: «Помните, иллюстратор был, Мосс, слепой, кажется, так это его сын. Или внук». Виктор невольно морщился, но привычка отмалчиваться – его стержневой секрет выживаемости в кусачем детском коллективе – была сильна, и он никогда не вступал в разговоры об отце.
К фамилии отца – его собственной фамилии – он так и не смог привыкнуть. «Мосс» – что-то круглое, рыхлое, пузырчатое, липковатое, как сахарная вата, было для него чуждым с самого рождения, отторгало от себя, принадлежало, казалось, кому угодно другому, только не ему. Такую фамилию, короткую, односложную, хорошо выкрикивать в армейском строю: «Мосс, два шага вперёд!» – а больше она и не звучит нигде. Зато, как позже шутил Виктор, святой Пётр, читая у небесных врат список новоприбывших, уж точно не ошибётся ни с ударением, ни с произношением. Хоть какая-то радость.
* * *
Страх Мосс воспринимал как нечто неотъемлемое в собственном организме, как руку или ногу, но с одной особенностью: хирургическим путём его нельзя было отделить от плоти. В жизни Виктора, как и у каждого человека, было миллион «впервые», но к страху это слово оказалось неприменимо: он знал, что и не существовало никаких «впервые», а цепкий стылый ужас жил в нём всегда, даже до его рождения. Просто жил, выстилал слюной и перьями гнездо для появления маленького Мосса, ждал его с нетерпением голодного каннибала. И дождался. Выпил целиком, как воробьиное яйцо.
Голоса Мосс начал распознавать ещё в утробе матери. А за первый месяц после рождения они превратились для него из плоских и чёрно-белых в геометрически объёмные и цветные. Среди них выделялся голос матери – из плотного зелёного плюша, с искрой, в нём Моссу было хорошо и спокойно, как может быть хорошо и спокойно в тёплом непродуваемом спальном мешке. Другие же звуки с самых первых дней жизни во внешнем, неутробном, чуждом мире внушали тревогу, которая нарастала с каждым новым незнакомым полутоном, становилась густой, как кисель, и Мосс ощущал её где-то у горла, так что почти не мог дышать, задыхался – до посинения губ и судорог пальцев. К двум годам он научился пропускать тревожные посторонние звуки через некий фильтр, приколоченный, как ему чудилось, где-то у затылка. Он часто трогал это место, водил рукой по стриженому шишаку на голове и мог бы поклясться: да, там точно что-то сидит. Неизвестно что, но оно явно помогало ему выживать.
Темнота была кошмаром для Мосса первые семь лет. Раиса, чуткая к малейшим тревогам сына, никогда не выключала свет в спальне, но от всего уберечь не могла. Когда внезапно, с хлопком и демонической вспышкой, гасла лампочка в туалете или в ванной, Мосс чувствовал, что кто-то большой, тяжёлый наваливается на него всем телом, и косточки под кожей, стеклянные и невесомые, вот-вот хрустнут под весом гиганта, и никак, совсем никак невозможно от этого уберечься. Он замирал, переставал дышать, не в силах позвать на помощь, и проживал в эти мгновения тысячи жизней – от рождения до умирания, чувствуя себя маленьким, голым, жалким, похороненным заживо.
А в семь лет он нашёл на полке с книгами один из томов «Энциклопедии человека», не проданный матерью в голодные годы только потому, что обложка и титульный лист были щедро залиты портвейном ещё во времена отцовского богемного загула. Картинок в книге оказалось мало, и Мосс поначалу разочаровался, но потом, листая страницы, неожиданно наткнулся на раздел о структуре и функции человеческого глаза. В одной из статей говорилось, что люди в среднем моргают двадцать раз в минуту. Мосс задумался, потом достал из ящика комода старый советский секундомер и провёл на себе нехитрый опыт: замерил собственное моргание. Получилось меньше секунды на один взмах ресниц. Математику в первом классе изучали примитивную, но он благодаря Галине, умевшей разговаривать с детьми только на полезные для будущего зарабатывания денег темы, уже к пяти годам научился бегло складывать в уме, знал умножение и мог пользоваться калькулятором. Нужные вычисления заняли у него совсем немного времени, и, записав результат на листочке бумаге, ошеломлённый Мосс ходил с ним сутки по квартире, отказываясь верить очевидному факту: получалось, что, если сложить все моргания вместе, люди находятся в темноте более часа в день. Более часа! Тогда как каждая секунда для него была невозможной!
Знание это так потрясло его, что в голове произошёл какой-то щелчок. Поначалу он моргал чаще – и к концу дня хвалил себя за то, что пробыл в темноте на пару минут дольше, чем накануне. Затем договорился сам с собой, что пробудет в ванной с выключенным светом полминуты, но зато моргать будет реже, поэтому никого не обманет: положено быть в темноте один час пять минут в сутки – пожалуйста, получите. И тот, кто придирчиво смотрит за тем, чтобы он не схитрил, не сумеет уличить Мосса в лукавстве. Этот кто-то, как думалось ему, почти наверняка наблюдает за всем из угла на потолке – там, где желтоватый подтёк, – а кто ещё, как не бог, он, точно он!
После недели тренировок Виктор мог уже не считать секунды, судорожно сжимая потные кулачки, а находиться в тёмной ванной уже по три, четыре и даже пять минут.
Раиса однажды случайно наткнулась на сына, сидящего в платяном шкафу с зажмуренными глазами, и не на шутку испугалась:
– Что ты там делаешь, Витенька?
– Ничего, мама, – спокойно ответил Мосс. – Просто сижу.
– И тебе не страшно, сынок?
– Не-а! – сообщил он ей с неподдельной радостью.
Ему не было страшно! Он захлёбывался от счастья при одной только мысли, что вот было, было, было страшно, а теперь нет. Он победил страх, удавил его, как муравья сандалией, он, Мосс, – большой и сильный, а страх – маленький и чепуховый, как фантик от конфеты.
В тот день он попросил мать выключить на ночь свет и спал спокойно, крепким ангельским сном. Желтоватый потолочный бог был доволен.
Но коварная биологическая коробка, называемая головой, не терпит пустоты. На место убитых страхов обязательно приходят новые, заполняют опустевшую нору, жиреют там, и их уже намного сложнее вытравить. Они цепляются всеми щупальцами, врастают в стены, пускают корни, сопротивляются до последнего. Страх темноты для Мосса был сильным, громоздким, злопамятным. Поэтому и не мог исчезнуть совсем, не переродившись, не мутировав в другого, более цепкого к выживанию монстра. Мозг лишь подсказывал: сейчас тебе хорошо, но подожди, подожди, мальчик…
И тогда появилась она, бабочка, – само воплощение чистого, доведённого до совершенства ужаса, затмила, подобрала под себя все остальные страхи, сразу оказавшиеся безликими и ничтожными в сравнении с ней.
Мосс не мог определить, когда это началось, но знал, что страх пред бабочкой жил в нём с рождения: он очень хорошо помнил себя совсем маленького, лежащего в материнской кровати и цепенеющего от одного предчувствия едва заметного колыхания крыльев случайно залетевшего в комнату мотылька. До поры до времени этот страх спал, уступив место эфирной детской боязни звуков и темноты, но в один день мир Мосса перевернулся.
Стоял тёплый сияющий май, и Раиса вывезла его в одно из воскресений в Зеленоградск, на Куршскую косу. Там, у кромки ещё холодного серо-бирюзового моря, они с матерью провели несколько счастливых часов, гуляли по дюнам, собирали выброшенный на берег мелкий смолисто-коричневый янтарь. Впервые увидев причудливые «танцующие» сосны – тонкие, с изогнутыми стволами, будто они пытались увернуться от невидимого ловца, Мосс ощутил какое-то потрясающее, невыразимое словами чувство восторга; он долго гладил их шершавые змеистые тела, вдыхал свежий хвойный запах и смеялся так весело и безмятежно, что даже случайные люди, попадавшиеся им с матерью на пути, тоже не могли сдержать улыбку, заразительную, тёплую. Мосс подошёл к одной низенькой сосне, присевшей на собственные корни, и вдруг увидел в ней небольшое дупло, растянутое чёрной длинной каплей по стволу. Он осторожно провёл ладонью по губастым краям дупла и, затаив дыхание, поднёс лицо к его пасти…
…И вдруг понял, что оттуда, из темноты, на него смотрят.
Мосс замер. И прежде чем отскочить назад, за какую-то сотую, тысячную, миллионную долю секунды почувствовал, что до лица его кто-то дотронулся. Едва уловимо, касанием волоска или паутины – от переносицы к бровям.
Дыхание остановилось, он отшатнулся, ударившись макушкой о край дупла, с силой хлопнул себя пятернёй по лбу, зажав в руке что-то мягкое, и… захлебнулся от немыслимого ужаса, залившего сознание. Сжатая пружина страха, сложенная до поры до времени в плоское кольцо, распрямилась в нём, отдалась резонансом во все закоулки мозга, загудела металлом в ушах, и во рту сразу стало железисто, сладковато-кисло – от прикушенного до крови языка. Откуда-то прямо из диафрагмы, разрывая лёгкие, вырвался крик, и Мосс сразу сорвал голос, захрипел на вдохе, и, замерев на мгновение, очнулся, и что есть силы помчался прочь, теряя все ориентиры, – прочь, прочь, прочь от этого страшного, гиблого места. Он бежал, спотыкаясь о горбатые корни, и казалось ему, что сосны тоже корчатся от невероятной, бессмысленной боли, выгибают позвоночники, цепляются ветками за его футболку: не оставляй нас, возьми с собой!
Мосс не понимал, что произошло, лишь метался по лесу, не чуя под собой ног и бессознательно сжимая кулак. На какой-то миг он замер: перед ним вдруг выросла сколиозная сосёнка с каплевидным чёрным дуплом, словно неведомая центростремительная сила притянула его вновь к тому самому дереву. Мосс заплакал, рванул в сторону, но, как в долгоиграющем кошмаре, ду́пла появлялись на его пути вновь и вновь.
Наконец он выскочил из леса на берег и, обессиленный, загнанный, упал на белый песок. Мелкие песчинки забились в ноздри, налипли на губы и ресницы, и было боязно и нелепо открыть глаза. Отдышавшись, Мосс сел, дрожа от озноба и всхлипывая, и тут только заметил, как свело от боли руку: он всё ещё сжимал кулак, впиваясь до крови ногтями в ладонь. Осторожно разжимая онемевшие, замороженные пальцы, Мосс увидел тельце мёртвой бабочки, сероватое и мягкое, как грязный ватный тампон. Её тёмная пыльца выглядела пеплом, а кусочки сломанных крыльев казались чешуйками слюды с тонкими, едва различимыми прожилками. Мосс вновь закричал от ужаса, и судорога – колючая, беспощадная – пустила электрический ток через его тело. Этот миг он запомнил беспорядочными цветными осколками, как в калейдоскопе. Была рябь на море и её зеркальное повторение в небе – балтийские чайки. Были облака, заштрихованные силуэтами птиц. Были дюны – бесконечные, извилистые. Было солнце – по-майски яркое, выпуклое. А его, Мосса, не было.
Его не было. Много позже, когда его кто-то спрашивал, боится ли он умереть, Мосс вспоминал тот самый момент на пляже и вновь переживал миниатюрную смерть – не бутафорскую, самую настоящую. И не было срока давности, с годами не исчезала, не затушёвывалась в памяти первая зеленоградская бабочка, убитая им.
…Его нашли вечером того дня около Куршской орнитологической станции, продрогшего насквозь от морского ветра и совершенно измученного. Заплаканная Раиса долго благодарила двух молоденьких милиционеров за помощь в поиске и пыталась укутать сына во всё, что было у неё с собой: в свою огромную вязаную кофту, в пляжную подстилку, в полотенце. Он безразлично позволил спеленать себя, но тепла не чувствовал: холод осел внутри организма, где-то в области живота.
Ещё, наверное, целый месяц Мосс никак не мог согреться, всё паковал себя в одеяла и свитера и просил мать включить электрический обогреватель. Сознание поменялось на сто восемьдесят градусов. Ужас перед бабочками теперь владел мозгом полностью, выкурив все остальные страхи. Мосс перестал бояться переходить широкие улицы, отвечать на уроках, его теперь почти не беспокоили насмешки детворы, из-за чего он раньше очень сильно переживал. Одна мысль о том, что какая-нибудь простенькая капустница по велению собственного микроскопического мозга вздумает вдруг опуститься ему на плечо, приводила Мосса в такой первобытный ужас, что он не мог думать ни о чём другом. Да, он продолжал ходить в школу – по привычке, учил уроки, общался с матерью и окружающими, но лишь к концу летних каникул, когда мотыльки стали встречаться на улицах реже, начал осознавать, что происходит вокруг.
В моменты высочайшего пика этого страха, когда судорога сводила колени и руки, он почему-то особо остро чувствовал близость с отцом, которого не знал да и не хотел знать. Желание выжить было сильным, и Мосс, однажды усвоив, что мысль об отце и произнесение его имени вслух помогали пережить самую тревожную минуту, вывел собственную защитную формулу: в момент, когда бабочка подлетала совсем близко, Мосс замирал на месте и выкрикивал отцовское имя как заклинание или, скорее, как выверенное матерное проклятье, которым деревенские бабки отводят порчу. Призрак Александра Мосса теперь стал его орудием, силу которого восьмилетний Виктор не понимал, но знал, что оно его спасало.
Раиса, встревоженная изменениями, происходящими с сыном, отвела его к известному в городе специалисту. Тот задавал Моссу какие-то неудобные и непонятные вопросы, водил молоточком возле лица, тыкал в тело чем-то колким – проверял рефлексы, как ему потом объяснили. Затем доктор долго шептался с Раисой, выставив Мосса в коридор. За визит и поставленный диагноз: ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство – Раиса заплатила доктору половину месячной зарплаты, но всё без толку. Виктор наотрез отказался от последующих визитов, а горькие настойки выливал в раковину, когда никто не видел.
Чтобы его больше не трогали, он научился притворяться и делал это гениально. Не показывать страх оказалось очень трудно, особенно в присутствии матери, но Мосс в «особые минуты», как сам их называл, скрывал острое оцепенение приступом внезапного кашля, отворачивался, прятал лицо в ладони. Выглядело это очень естественно. Единственный минус – Раиса сразу начинала беспокоиться, не простудился ли сын и не аллергия ли у него, но Виктор и на это имел отговорку: «Поперхнулся». Вот простое объяснение и слезящимся глазам, и внезапно заалевшим щекам. И лишь в своей комнате, закрыв плотно дверь, он предавался исцеляющему одиночеству, в котором теперь жил, а отцовское имя, смешанное с безразборной грязной бранью, выплёвываемой харкающим шёпотом, чтобы мать за стенкой не слышала, приносило спасительный покой и полнокровное равновесие.
А страх никуда не уходил и даже не ослабевал, как бы Мосс ни просил. С желтоватым потолочным богом на этот раз договориться не удалось.
Он заметил в себе одну странную вещь: с появлением страха бабочек повседневная жизнь стала ярче, чётче в красках и контрастах, словно её протёрли до скрипа спиртовой салфеткой. Мосс теперь подолгу «зависал» над её незначительными мелкими деталями: над засохшей бусиной канцелярского клея у корочки книжного переплёта, над следом от лапы дворовой собаки, слегка вдавленным в новенький тротуарный асфальт, а особенно – над рубиновой каплей брусничного варенья, которую мать катала по блестящей алюминиевой ложке, чтобы проверить, сварилось ли. В такие моменты глаз Мосса видел всё вплоть до прожилок и песчинок, а мозг фотографировал, сортировал, консервировал. Чтобы справиться с нескончаемым потоком впечатлений, Виктор начал записывать их в толстую клетчатую тетрадку, правда, делал это хаотично и обрывочно.
– Ты ведёшь дневник, сынок? – спросила его как-то Раиса.
– Нет, – ответил Мосс. – Просто записываю мысли. Иначе они зачервивеют в голове, а потом сдохнут, и их трупики будут меня мучить.
Так уже было, он знал. Какая-нибудь мысль поселялась в мозгу надолго, и он никак не мог её вытравить – всё думал и думал, а потом вроде бы она его отпускала, как ему казалось. Но после непременно возвращалась – уже в каком-то утрированном, гротесковом образе. И Мосс, сам выдумав правило «Записал – освободился», следовал ему теперь постоянно. И даже не подозревал, каким целительным лекарством это было для головы.
Рисование стало единственным, что вливало в него абсолютную, совершенную радость. Мосс таскал повсюду карандаши с блокнотом и при каждом удобном случае зарисовывал всё подряд. Ему было безразлично, выводить ли на бумаге красивое или же безобразное, и он с одинаковым самозабвением нырял в свой бездонный, никому более не доступный стерильный колодец, когда зарисовывал и нежную кремовую розу в изящной вазе, и обшарпанный кафель школьной столовой.
Друзей у него не водилось. И хотя он не был диковатым молчуном, общение со сверстниками давалось ему через силу. Дворовая ребятня дразнила его червяком из-за высокого роста и худобы. Мосс не реагировал. После зеленоградской бабочки всё остальное надолго превратилось для него в сущие мелочи, не стоящие внимания. Раиса даже не пыталась уговорить его пригласить кого-нибудь из детей на день рождения или просто в гости: знала, что реакция сына будет всегда одной и той же – он пожмёт плечами и спросит: «Зачем, мама?» Мосс был нерастворим в этом холодном и чужом для него обществе, где все ингредиенты сцеплены между собой в единое целое, не пускавшее в себя ни одного инородного компонента. Социум выталкивал его из себя, как выталкивает почечная лоханка рогатый оксалатный конкремент, не принимал и не понимал, как будто он принадлежал к другому биологическому виду. Мосс не сопротивлялся. Он просто до поры до времени не испытывал потребности подпускать к себе кого-либо ближе, чем на пару шагов. У него есть мама и возможность рисовать. Что ещё надо? Ведь правда, ничего. И никто, никто больше не нужен.
Когда Моссу исполнилось одиннадцать, у него неожиданно упало зрение. «Как будто резкость не докрутили», – объяснял сам себе Виктор, но с матерью ощущениями не поделился. Раиса заметила это, когда однажды сын, сощурив глаза до тоненькой амбразурки, спросил её, не Галина ли идёт к ним навстречу через двор. А это был дворник, совсем не похожий на Галину ни силуэтом, ни походкой. Раиса забила тревогу, срочно взяла на работе отгул и повела сына к окулисту. Страх перед дурной отцовской наследственностью был силён, к тому же она жила в постоянном ожидании очередной подлянки со стороны непонятного состояния здоровья сына, поэтому оглашённый доктором диагноз «прогрессирующая близорукость» откликнулся в ней тихой истерикой и бессловесными несдерживаемыми слезами прямо в коридоре, у дверей кабинета.
– Мама, не плачь! – тихо сказал ей Мосс. – Я же пока не умираю.
Это «пока» оказалось детонатором, взорвало внутри неё ещё бо́льшую потаённую слёзную цистерну, и Раиса, сжав руку Виктора, поспешила прочь из поликлиники под сочувственные взгляды ожидавших приёма посетителей.
Вернувшись домой и вновь проревевшись, она вдруг поняла, насколько сильно устала. Устала от всего – от вечной тревоги за сына, от безденежья, от злости на судьбу и невозможности что-либо изменить. Через сутки её увезли на скорой с острой сердечной болью. Пожилой сутулый врач, похожий на замёрзшую птичку, повертев в лапках снимки и кардиограмму, вынес сухой банальный приговор: инфаркт. И прибавил, что инфаркт этот у неё не первый. О предыдущих Раиса даже не подозревала, а сердце – что? – сердце ныло всегда.
Из больницы она вернулась другим человеком и, забрав Мосса от Галины, заявила сыну:
– Больше никаких болезней, пока тебя на ноги не поставлю. Обещаю.
И, по сути, сама себя вытянула за волосы из ямы, встряхнула, привела в чувство – подгоняемая хлёсткой злой уверенностью, что, кроме неё, сын не нужен на свете никому, а посему она не имеет права ни на хандру, ни на болезни, даже мелкие, а уж на смерть тем более.
Своё обещание Раиса сдержала: дождалась поступления сына в Калининградский институт технологии и дизайна, и в первый же день занятий, когда он, нахохлившись, сидел в аудитории среди незнакомых ещё одногруппников, она долго смотрела на маковку церкви Луизы из окна, потом налила себе в чашку молока, поднесла к губам и вдруг ощутила полную сиреневую темноту – мгновенную, безболезненную и долгожданную.
Мосс навсегда запомнил тонкую паутинку молочной пенки на губах матери, когда обнаружил её на полу в кухне – тихую, сразу ставшую маленькой и, казалось, просто уснувшую. Даже упала она как-то «понарошку»: положив поудобней руку под шею и прикрыв веки лишь наполовину. «Мама, ты меня любишь? Ты меня не бросишь? Не бросишь? Не бросишь?»
Врачи пояснили: оторвался тромб. Мгновенная смерть. Не мучилась.
«Не мучилась». Мосс думал об этой фразе годами, но так и не приблизился к ответу на вопрос: как можно не мучиться, понимая, пусть и в самый последний микрон мгновения, что уходишь навсегда, совсем навсегда, оставляя в этом мире то, ради чего жил все эти годы? Он корил себя за эгоизм и нехорошие мысли о матери, но вновь и вновь возвращался к ним. И лишь спустя пять с половиной лет, прожив почти эпоху среди нескончаемо чужих людей, до момента, пока он не встретил Веру – тоже чужую, но чужую по-другому, – он наконец смог простить матери её бегство.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.