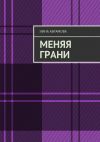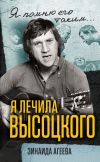Текст книги "Голова рукотворная"

Автор книги: Светлана Волкова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 20 страниц)
16
Мосс осторожно провёл подушечками пальцев по глянцу журнального листа.
– Уве Андерсен… Я знаю его. Я читал… У меня есть его статьи, он гениальный энтомолог.
«Конечно, гениальный, – с сарказмом подумал Логинов. – Гениальный делец».
Андерсен согласился на его затею сразу, с одной лишь оговоркой: наука психиатрия пожертвует науке энтомологии символическую сумму в пятьсот евро. К письму прилагался банковский счёт некоего фонда. Логинов даже мысленно поаплодировал такой простодушной наглости. Но деньги, разумеется, перевёл сразу же.
Журнал, как и было обговорено, издали быстро. Крошечная калининградская типография, находившаяся, как рояль в кустах, в соседнем с офисом Логинова здании, сначала заартачилась: в одном экземпляре не берём, минимальный тираж такой-то, но оплата вперёд за сто номеров, да ещё наличными и сразу, оказалась убийственным аргументом.
Мосс сидел, ссутулившись и нагнувшись к столу, перечитывал статью в третий раз, а Логинов прихлёбывал непонятной консистенции кофе, второпях сваренный Верой, и с наслаждением наблюдал за ним. Они сидели на кухне в квартире Мосса, утро уже переползло через свою маковую середину: старомодные прусские ходики только что деловито и перезвончато отыграли девять ударов. Типография открывалась в восемь тридцать, Логинов приехал за час и едва дождался, когда сонный менеджер откроет дверь и выдаст ему пахнущий химикатами номер Russian Entomological Journal, отпечатанный в ночную смену. Весь номер был повторением реального выпуска журнала за прошлый месяц, лишь вместо обзора круглого стола о проблемах экологии и вымирании каких-то крапчатых алтайских жуков была вставлена умело состряпанная Логиновым совместно с Андерсеном статья об особом виде Lepidoptera Parnassius Mnemosyne, имаго которой предполагало генную амбер-мутацию UAG вследствие репликации ДНК и генетической рекомбинации. В результате такой мутации, говорилось в статье, высока вероятность возникновения триплетов, приводящих к взрывному росту мутагенов, в особенности транспозон, и окисления липидов по вирусному типу. Подобные мутации раз в столетие приводят к возникновению Lepidoptera Hominoidea, уникального вида Papilionidae, внешне не отличающегося от Homo Sapiens.
В статье было много громоздких выражений, сдобренных россыпью латинских названий, и Логинов отчего-то не сомневался, что сказочник Андерсен, скомпилировав псевдонаучную чушь, полнейший образцовый бред, всё же в отдельных выводах (особенно касающихся ДНК насекомых) был честен и даже близок к какой-нибудь своей энтомологической истине. Логинов так и представлял, с каким наслаждением профессор выводит формулы сбоя ДНК, РНК и белков и с каким эйфорическим восторгом доказывает образование новых патогенных структур на концах линейных хромосом и аномальную скрученность пресловутой двойной спирали. Статья, конечно, была перегружена ненужными терминами, но даже для него, перечитавшего за жизнь столько научных журналов, что из них можно было бы построить пирамиду – Хеопс бы обзавидовался, – даже для него написанное выглядело вполне логично. Доказано, что существует уникальный вид бабочек, эндемичный исключительно для Восточной Европы. Представители этого редкого вида анатомически похожи на людей, но имеют некоторые антропологические признаки, свидетельствующие о принадлежности к чешуекрылым. К таким признакам относятся, например, вмятины на ладонях и теневые точки под скулами, у некоторых особей характерны длинные конечности, высокий рост, плохое зрение и хронические проблемы с сердечной деятельностью. На развороте были цветные фотографии ярких мотыльков и схема строения внутренних органов бабочки.
– Вам может быть не всё понятно, эта статья для узких специалистов… – сказал Логинов намеренно равнодушно, видя, как сосредоточенно вчитывается Мосс в искусно состряпанную белиберду.
– Нет-нет. Я понимаю. Не надо объяснять. Такое случается с парусниками, да. С ними всегда что-то не так. А мнемозина из рода парусников, и я чувствовал, помните, я приносил вам фотографию? Я знал, я знал!
Губы его заметно дрожали, глаза щурились, Логинов удивился, что Мосс не надел очки, но потом вспомнил, что Вера говорила: у Мосса изменились многие «человеческие» привычки.
– Вы подарите мне журнал? – полушёпотом спросил он.
– Конечно.
Конечно, подарит. Ещё не хватало, чтобы Мосс побежал в университетскую библиотеку за этим номером. Логинов не сомневался, что Виктор выучит статью наизусть и, более того, напишет Андерсену. Именно поэтому и нужно было заплатить профессору, чтобы тот, получив на свой официальный электронный адрес, указанный на сайте Шведской королевской академии наук, шизоидное письмо от русского парня, деликатно ответил ему, мол, да, наука не стоит на месте, существуют человекообразные бабочки, и за это открытие ему, Андерсену, наверняка дадут Нобеля, может быть, даже в следующем году.
Вера стояла на протяжении всего их разговора лицом к окну, в лужице солнца, и боковым зрением Логинов видел, как она нервничает, теребит простенький кожаный браслетик на руке, чуть заметно втягивает под верхние зубы нижнюю губу. До того как прийти в дом к Моссу, Логинов час беседовал с ней по телефону. Даже не беседовал – это был его монолог, во время которого она не проронила ни слова и лишь в конце произнесла: «Если это единственный выход, можете на меня рассчитывать». Разговор состоялся накануне вечером, Логинов давал тщательно продуманные инструкции: как реагировать, как себя вести, как делать то, как это. Взять Веру в союзники означало на девяносто процентов добиться успеха. Теперь её задачей было поверить в то, что она 1) замужем за бабочкой и 2) счастлива с этой бабочкой.
Мосс закрыл журнал, бережно положил его на колени и взглянул на Логинова. В гранитно-седых глазах искрилось неподдельное детское счастье.
– Значит… Я здоров?
– Абсолютно.
– И не будет больше таблеток?
– Ни одной.
Совсем снимать Мосса с медикаментов было опасно. Накануне Логинов договорился с Верой, что, готовя утром мужу кукурузную кашу, она будет добавлять туда ноотропил. Логинов планировал со временем уменьшить, а потом и полностью прекратить любую подкормку мозга. Доза будет зависеть от двух критериев: от степени удовлетворённости жизнью и отсутствия желания копаться в себе. Мосс слишком быстро возбуждается от всякой ерунды, почти не спит, его мозг может запросто в один прекрасный день «впасть в анабиоз», как лягушонок при первых заморозках. Момент, когда лекарства будут полностью отменены, Логинов считал точкой невозврата психоза. Вот именно тогда он на радостях напьётся, потому что это будет настоящий триумф.
– И что, док? Мы теперь не будем видеться? – Мосс сощурился, рука привычно потянулась в карман за сигаретой, и этот жест не ускользнул от Логинова. Вспомнив, что он теперь не курит, Мосс виновато отдёрнул руку. – Никак не привыкну…
– Видеться мы будем, Виктор, и очень часто. Поймите, такие виды парусников, как ваш, встречаются феноменально редко. Считайте, вы – одна особь на десять миллионов обычных людей. Вы должны быть под наблюдением.
– Под наблюдением психотерапевта?
– Нет-нет, забудьте о моей профессии, вы теперь должны быть не под медицинским наблюдением, а под присмотром науки в целом. Только ради вашего же блага, чтобы никто не причинил вам зла. Энтомологи и врачи в данном случае служат одному божеству. Нам важно сохранить ваш вид от полного вымирания.
«Вот сейчас он спросит про размножение, и мне будет нечего ему сказать», – подумал Логинов, но Мосс больше не задавал вопросов, а сидел сосредоточенно-сияющий – такой, каким раньше никогда не был. Его машина-мозг работала на полную мощность, это всегда читается по глазам, по той глубинной бесконечности чёрного цвета зрачков, по отражённой в них неуловимой паутинной микросхеме, по едва заметному взмаху ресниц и той хрустальной сосредоточенности взгляда, какая бывает лишь в редкие моменты идеально настроенной мозговой турбины. Он был разумен, Мосс, в этот миг – так, как не был разумен, наверное, ни в один день за всю свою жизнь. И счастлив так тоже не был никогда.
– Я должен вам сказать ещё кое-что, Виктор. Мы ошибались по поводу вас, и, надеюсь, вы нас простите. Мы – это я и Вера. Но теперь мы знаем правду и очень этому рады. Вы свободны, вольны делать, что захотите. Не забывайте только, что ваш подвид летать не может, поэтому никаких экспериментов. Просто живите со знанием, что вы бабочка. Вам никому ничего не надо объяснять. Более того, предостерегаю вас даже от малейшей попытки кому-либо доказывать свою принадлежность к чешуекрылым. Люди пока не готовы. Хорошо, что статья Андерсена издана в специализированном журнале и не доступна обывателям. Но открытие, которое он сделал, сенсационно, поэтому очень скоро о нём узнают обычные люди. Они захотят познакомиться с вами, прикоснуться к вам. Пусть у вас нет пыльцы, но их внимание принесёт вам вред. Найдётся какой-нибудь лепидепторофилист, собиратель крупных бабочек, который непременно захочет пополнить вами свою коллекцию. Он приколет вас булавкой к картону, и это очень, очень плохой конец. Ваша жизнь драгоценна. Поэтому вы должны, вы просто обязаны сохранить тайну! Андерсен работал над поисками вашего вида всю жизнь и нашёл истину, лишь сопоставив ДНК и сравнив мутагены. Это значит, если вы никому не проболтаетесь, что вы – бабочка из рода парусников, то ни одно живое существо не догадается. Ради науки, Виктор, не подвергайте себя риску!
– Я понял, док, теперь я точно понял, – Мосс закрыл глаза и сложил пальцы в замок. – Раньше я хотел рассказать всем, и вы меня отчаянно отговаривали, а я не слушал вас. Я едва не проболтался. Сейчас я знаю, вы абсолютно правы. Ради науки… Мне стоит написать профессору Андерсену письмо, как думаете? Он ведь обрадуется, узнав, что я – тот, кого он изучает?
– Конечно, обрадуется. – Логинов ясно представил, как расползаются в саркастической улыбке тонкие губы Андерсена, как сливается в рваную заплатку у носогубной складки крап его старческих пигментных пятен на высушенной щеке. – Только пишите ему на адрес Шведской королевской академии наук, письма самотёком на другие адреса он наверняка посчитает спамом.
Мосс кивнул. Его лицо было светлым, торжественным, наполненным такой искрящейся жизнью, что Логинов мог бы поклясться: ни одно лекарство, даже сильнейшее, ни один наркотик не способны за несколько минут так изменить человека. Вот он, истинный метаморфоз, волшебное превращение. Самое последнее в цепочке, самое совершенное имаго! Одно это уже можно считать полноценной победой. Браво, доктор Логинов!
Они просидели часа три, разговаривали как старые добрые знакомые. Подобного мира и понимания между ними не случалось никогда, Мосс раньше всегда был колок и после часа беседы давал понять, что устал. Теперь же он явно не мог наговориться. Его не покинули страхи, нет, но теперь это были… Это были страхи настоящего насекомого. Если представить, что пойманная бабочка вдруг смогла бы заговорить, чёрт возьми, это была бы та самая говорящая бабочка, со своими определёнными суждениями, радостями, тревогами и хрупким ощущением окружающего мира. Логинов даже подумал, что Андерсену был бы прок поболтать с Моссом: уникальная возможность учёному-энтомологу узнать мнение существа, которое он изучает всю жизнь. И в какой-то момент Логинов даже спросил себя: «А почему нет?» Что, если на секунду поверить в фантастическую ахинею Андерсена и принять правду Мосса? Живёт себе просто ДРУГОЕ существо с человеческим телом, метаболизмом и речевым аппаратом, вот так вот повезло какой-то отмеченной Богом особи бабочки-мнемозины из рода парусников… И хорошо. Пусть живёт. Не надо водить вокруг неё хороводы. Захочет – улетит. Пока она здесь, с нами, не дышите на неё, наслаждайтесь каждым мгновением, когда она подпускает к себе на шаг. А лечить её не надо, она от этого погибнет.
Уже в прихожей, когда они прощались, в тусклом желтоватом отсвете старого плафона над зеркалом Логинов пригляделся к Моссу и увидел те самые теневые точки под скулами. Пусть секунды на две, пока Вера не открыла для него входную дверь и белёсый мыльный свет с лестницы не слизал этот призрак с его лица. Кто знает, может, теперь перестроенный глаз Мосса видит всё вот так.
«Я тебе верю, парень», – хотелось сказать Логинову, и это было бы недалеко от правды.
И сейчас как никогда стала живой и до прозрачности истинной чья-то мудрая мысль: психиатр, поверивший в реальность бредовых образов пациента, его почти вылечил.
Когда Логинов спускался по лестнице, Мосс окрикнул его:
– Один вопрос, док.
– Конечно.
Логинов задрал голову и через лестничный марш и частокол выкрашенных серой краской перил увидел его встревоженное лицо.
– Вы сказали… Одна особь на десять миллионов?
– Да, Виктор.
– А как же мой брат-близнец?
Логинов поднялся на пару ступеней – затем, чтобы потянуть время и придумать ответ.
– Да. Он тоже был таким.
Мосс кивнул и неожиданно громко захохотал.
– Я знал. Я всегда знал. Даже когда не догадывался о себе самом!
* * *
Выйдя от Мосса, Логинов направился в свой офис. Шёл не торопясь, знакомой дорогой и, хотя расстояние было неблизкое, радовался возможности «вышагать» мысли. Вот она, скорая и лёгкая победа. Доказать больному с навязчивой идеей, что он не один-одинёшенек, что мир с ним согласен, что лечение ему не нужно… Самое гениальное всегда лежит на поверхности. Надо просто суметь увидеть и посметь протянуть к этому руку. И он увидел, посмел, протянул. Лишь одна мысль – даже не мысль, а тень её, блёклая, как мучной червь, мыслишка, что, как ни крути, сегодня поставлен жестокий, запрещённый опыт на живом человеке и победа не очевидна, есть шанс на провал, ведь наука легка на подставы такого рода, – эта паскудная мысль чуть портила Логинову сладкое предвкушение триумфа, и на душе сразу становилось паршивенько, как будто кто-то туда исподтишка нагадил.
Снова накатила невыносимая головная боль, и рука автоматически нащупала пузырёк с заветными таблетками. Хорошо, что у него дома имелся кое-какой запас, такие сильные препараты просто так не достанешь.
Зазвонил мобильный. Логинов остановился, вытащил из кармана телефон: на экране высветилось имя Станкевича.
Только не он! Только не сейчас! Логинов совсем не готов был к разговору об эксперименте. Он нажал на сброс, но спустя полминуты телефон зазвонил снова.
– Дмитрий Дмитриевич? Что-то срочное?
– Спешите?
– В общем, да.
– Минуту всё же уделите мне, Феликс.
– Конечно…
– У вас всё в порядке?
– Да, в порядке…
– Как там ваш Мосс?
Внутри у Логинова надрывно завыло. Старый лис Станкевич, как шакал, выследил, разнюхал. Возможно ли? Ведь о его задумке не знает никто.
– Что мой Мосс? – осторожно спросил Логинов.
– Феликс, – откашлялся Станкевич, – я знаю, как вы переживаете из-за перевёртыша его фобии. Но все сроки вышли. Ваш моральный долг найти для него хороший стационар.
– Вы по этому поводу мне звоните? – Логинов с трудом сдерживал раздражение.
– И по этому тоже. Надеюсь, вы химикатами его не кормите?
«Химикатами» Станкевич всегда называл нейролептики.
– Феликс… – профессор сделал секундную паузу. – Не хочу напоминать вам то, что вы и без меня знаете. Юридически вы не имеете права выписать ему даже аспиринку. Но без должного лечения вы его загубите окончательно. Ошибки надо признавать, не мучайте ни себя, ни его. Что вы молчите? Неужто удумали для него ещё чего-нибудь? Довольно уж, поиздевались…
«Ошибки»! «Поиздевались»!.. Логинов вдруг почувствовал небывалый прилив агрессии. Он едва сдерживался, чтобы не швырнуть телефон о ближайший фонарный столб.
– Дмитрий Дмитриевич, давайте временно закроем эту тему. Когда я буду готов, я вам всё расскажу. Не забывайте, это мой пациент. Мой! И не надо указывать мне, что делать!
– Феликс!
Но Логинов уже нажал отбой, и ледяная волна окатила его с ног до головы. Никогда прежде он не позволял себе так разговаривать со Станкевичем. Но ведь старый хрыч! Вот звериная чуйка, как будто в мозг к нему залез! Логинов с силой ударил по столбу кулаком и едва ли не согнулся пополам от боли, затряс рукой, начал дуть на неё, как ошпарившийся кипятком ребёнок. Прохожие с недоумением и какой-то брезгливостью смотрели на него, стараясь ускорить шаг. Логинов выругался – не до конца осознав, сделал он это вслух или про себя, – и положил в рот ещё один спасительный «химикат».
Подойдя к офису и шаря в карманах в поисках ключей, он вдруг увидел свет в окне регистратуры. Кира! Очередная неутихающая, свербящая боль. Почему все, как сговорившись, стекаются к нему, кружат голодными птицами – зачем? – по чьему указанию? – для чего? – для того чтобы вновь растормошить чувство вины? Станкевич хотя бы осмелился прямо заявить об этом, надавить на раскуроченную зудящую рану, все же остальные – немое безропотное стадо, никогда не упрекнут, не спросят, лишь одним своим присутствием в его жизни ежедневно напомнят: ты виноват, виноват, виноват перед нами. Да, он виноват. Прежде всего перед Моссом. Перед Мариной, потому что перед ней он виноват всегда и во всём – хотя бы в том, что он, а не кто-то лучший достался ей в мужья. Перед родителями – потому что так и не поговорил с ними о главном; и ещё не успел вернуть им любовь, в которой он существовал, пока они были живы. Перед братом-близнецом – потому что, мыслимо или немыслимо, забрал у него право на жизнь. Перед Верой – потому что у неё теперь нет мужа. Перед всеми своими пациентами – потому что никто из них не стал и никогда не станет здоровым. Перед Станкевичем – потому что тот не заслужил его хамского тона. Теперь вот перед Кирой.
Стоп. Это уже тянет на диагноз. Патологическое чувство вины. Дисфорическое состояние. Всё тихо в твоей голове! Всё тихо в твоей голове!
Логинов открыл дверь. Кира перебирала на столе бумаги, одни из них закалывая скрепками, другие складывая в пластиковые папки.
– Кира… Я думал, у вас выходной.
– Здравствуйте, Феликс Георгиевич, – она подняла голову и зажгла слабый фитилёк привычной улыбки. – Сегодня надо оплатить счета, я вот и вышла, чтобы всё подготовить.
Ему было бы легче, если б она когда-нибудь что-нибудь забыла, не сделала вовремя, да просто накосячила. Но Кира была идеальна, и это ещё больше взбалтывало со дна его души нехороший песок, и поднималось к самому темени мутное облако собственного несовершенства, уродства, бесконечной вины, будь она проклята!
С той самой ночи, точнее, раннего утра, когда между ними возникло некое подобие недалёкой близости, Логинов начал думать, что Кире следует подыскать замену. К её чести, через пару часов она вышла как ни в чём не бывало к завтраку, оживлённо болтала с Мариной, не проявляя и тени намёка на то, что случилось. Точнее, не случилось, но это ещё гаже. Ему же, выбрав момент, когда Марина отлучилась, она сказала: «Всё останется по-прежнему. Мы об этом забудем. На мою работу это никак не повлияет».
Логинов, безусловно, и не сомневался, что она затаила на него зубастую девичью злобу, но, боже, какая умница! Ни капли огорчения на лице, ни полслова с ним наедине, ни попытки напомнить ему о тех позорных для него минутах. Идеальная девушка.
– Звонили из типографии, сказали, вы не забрали тираж, – пропела Кира мармеладным голосом.
– Какой тираж?
– Сказали, тираж сто экземпляров, а вы забрали всего один журнал.
Идиоты! Логинов картинно закатил глаза, а Кира невозмутимо продолжила:
– Я сходила к ним, хорошо, что они оказались в соседнем доме, забрала номера.
– Уничтожьте их.
Кира наконец-то изобразила удивление.
– Уничтожить?
– Один номер я заберу. Остальные – в шредер!
– Феликс Георгиевич… – она замялась. – Это имеет отношение к Моссу?
Логинов опустился на стул рядом с гардеробной вешалкой и ощутил, как в голове, за лобными костями, плещется раскалённая лава. И тело всё стало огненным, а пальцы холодными. Несомненно, действие таблеток. Кира подскочила к нему, верная, преданная, поднесла к губам стакан с водой, лицо её кошачье так близко, глаза, молочная пена белков и заглубинная воронья гарь зрачков… Но нет, он не повторит той ошибки. Надо выплеснуть из мозгового ведёрка эту мурену, остудить голову… Да как бы с муреной не выплеснуть мозг… Чёрт, что с ним творится?! И в эту минуту Логинов понял, что говорит очень быстро, почти не делая пауз, и уже дошёл до середины рассказа о Моссе и о статье. Кира слушала внимательно, кивала – и стало так хорошо внутри, что и не выскажешь словами. Ему надо было давно с ней поделиться, вон как смотрит, красивая, умная. Он сделает из неё хорошего психиатра, на голову выше его самого. Оплатит любую стажировку, купит квартиру. За одно только это тихое слушание, за умение заглянуть из-под тонких бровей вразлёт в самый зев чернушной шахты его души, за то, что он с ней не переспал и не переспит и за то, что она не предаст его, никогда не предаст.
Весь рассказ уместился в две минуты. Кира с изумлением глядела на него, не решаясь задать вопрос. И тут в их блаженный миг тишины ворвался посторонний звук – такой приземлённый и плоский, что Логинов даже не сразу понял, откуда он. Это был звук спускаемой воды в унитазе и чмокающее клацанье металлической крышки педальной урны. Логинов удивлённо и заторможенно повернул голову в сторону двери туалета для посетителей.
– Феликс Георгиевич, это Мовсесян, – зашептала Кира, поспешив вернуться к стойке регистрации. – Я говорила, что вы не принимаете, а она ни в какую. Сказала, что вы займётесь ею без разговоров.
Мама Сью. Великая и ужасная. Только её сейчас не хватало!
– Кирочка, но почему вы сразу не сказали мне о ней! – простонал Логинов.
– Я не успела. А потом вы начали ваш рассказ про Мосса. Это сейчас важнее, ведь правда? – невозмутимо ответила она. – Но вы же не обязаны её принимать. Объясните ей сами. Мне она не поверила, но вам, вам-то поверит.
Логинов не успел ответить, как дверь туалета распахнулась и появилась большая яркая женщина в немыслимом платье по колено, белом, в разноцветных кляксах – пятнах Роршаха, как сразу подумалось Логинову, – и огромной розовой сумкой в мелкий страусиный прыщик.
– Только не думайте от меня прятаться, Феликс Георгиевич! – прогремела дама и, подойдя широким шагом к нему вплотную, дыхнула сладкими тяжёлыми духами. – Я вас уже минут сорок дожидаюсь.
– Сусанна Суреновна, – чуть посторонился Логинов. – Почему вы не позвонили? Сегодня…
– Неприёмный день. Знаю, – она стрельнула в Киру глазами, заправила прядь волос в чёрную, блестящую, как хороший чернозёмный курганчик, кичку и пафосно заломила руки. – Но вы не сможете отказать бедной несчастной женщине! Зачем вы меня вылечили? Зачем, спрашиваю, сидела бы дома в депрессии и соплях, а так вышла в люди, а там, в этих людях, мне сделали очень больно!
– Пойдёмте поговорим, – сумрачно процедил Логинов и, открыв дверь в кабинет, картинным жестом пригласил её войти.
Мама Сью вплыла в комнату и плюхнулась в кресло.
Она была самой давней его пациенткой, ещё со времён практики в Петербурге. Когда он переехал в Прагу, наведывалась к нему раз в сезон. После приезжала в его рижскую клинику каждый месяц. В Калининград поначалу ездила часто, потом решила – сама решила, – что здорова, и исчезла, даже на телефонные звонки не отвечала.
Собственно, Мамой Сью, великой и ужасной, её назвал профессор Бранек: она была шумной, требовала повышенного внимания, любила донимать придирками регистратурных девушек, каждое её появление напоминало извержение вулкана и по лукавому стечению обстоятельств было предзнаменованием каких-нибудь громких событий в жизни Логинова, во всех без исключения случаях тревожных. Такая вот дама пик в его колоде.
Зачем-то вот появилась именно сегодня. К каким переменам, господи? Нет, Логинов не суеверен, но… Но всё это не к добру, не к добру, není dobrа́, как любил говорить тот же Бранек.
Она была одновременно и патологически больна и так же патологически здорова. На её медицинской карте, в левом верхнем углу, все лечащие её врачи ставили крохотный значок-закорючку: непосвящённый не догадается, а для собрата-психиатра станет понятно чуть больше, чем записанный на многих листах анамнез. Такая вот тайнопись, принятая в «своём кругу». Значок этот означал «трудно будет отвязаться».
Она ходила по пограничному состоянию, как по узкому брусу, периодически спотыкаясь и вступая то вправо, то влево, но каждый раз выправлялась, а потом снова балансировала, ни разу так и не соскочив. За свои позднеягодные пятьдесят пять лет Мама Сью пропустила через себя самые показательные энциклопедические диагнозы, и все с приставкой «лайт». В подростковом возрасте она страдала дромоманией – тягой к перемене мест, побегам из дома. После, годам к двадцати, угомонилась, ушла в стойкую ремиссию. Лёгкая шизофрения, вызревшая на фоне несчастной любви к недоступному модному певцу, помогла ей стать неплохим интерьерным дизайнером, востребованным в России и Европе. Не будь её, шизофрении, Логинов подозревал, что Мама Сью такого успеха не имела бы. Разные шизоидные синдромы лишь отлакировали её самобытность, и она превратилась в эксцентричную персону, изюминку различных телевизионных ток-шоу. Впрочем, помощь врача для неё никогда не была лишней. Логинов сразу определил у неё как минимум БАР – биполярное аффективное расстройство, классику жанра, при котором периоды полной апатии сочетаются с периодами буйной деятельности. Такой вот тянитолкай: то мания гиперактивности, то рекуррентная депрессия. Последний раз, когда они разговаривали по телефону, а было это полгода назад, Мама Сью как раз выходила из депрессии – выходила «ногами», по совету Логинова, вышагивая по семь километров в день со скандинавскими палками. Тогда же она заявила: «Я вылечилась. Вы меня больше никогда не увидите». Эти слова, интонацию, мхатовскую паузу между предложениями Логинов уже слышал минимум раз пятнадцать – за все пятнадцать лет, в течение которых её наблюдал.
Станкевич однажды пошутил: «Мама Сью, Феликс, ваш пожизненный крест, как шестой палец на руке – ни отрезать, ни к делу приучить». А может, и не пошутил.
– Когда вы приехали в Калининград, Сусанна Суреновна? И почему не предупредили меня?
Она фыркнула и надула щёки, потом с силой хлопнула по ним, издав звук лопнувшего воздушного шарика, и таинственным голосом произнесла:
– Я сняла дом на побережье, у Зеленоградска. Открыла вот сезон. Надо же где-то белое тело позагорать, душу отдохнуть.
Логинов хмыкнул в ответ:
– У нас солнца не бог весть сколько. Это не юг.
– А я обожаю холодное море!
Мама Сью принялась подробно рассказывать, как хорошо ей становится от купаний в Балтике, и Логинов понял: беседа обещает быть бесконечной. Надо было виртуозно выкручиваться.
– Расскажите, почему же вы вспомнили обо мне? Что-нибудь произошло? Кажется, вы уверяли меня, что полностью здоровы.
– Ах, доктор… Беда…
Снова пауза, глазные яблоки зашевелились, накрашенные губы капризно вытянулись рулончиком.
– Беда?
– Я полюбила.
– Ну какая ж это беда? – мрачно парировал Логинов.
– Та-акая. Вы не понимаете. Нас с вами отделяют десять лет и пятнадцать килограммов. Вы не способны понять.
– Ну отчего же…
– Ему двадцать восемь. Или двадцать девять. Максимум – тридцать. Боженьки мои! Вы ведь знаете, доктор, сколько мне лет, и это ка-та-строфа! Он музыкант. Гениальный, неповторимый!..
Логинов дослушал о гениальности музыканта до первой её паузы, когда Мама Сью с шумом, как советский пылесос, набрала в лёгкие очередную партию воздуха, и сказал:
– Я в таких делах не помощник, Сусанна Суреновна, вам лучше к свахе или к гадалке.
– И это ВЫ советуете мне гадалку?
Она сидела в метре от него, такая большая, несчастная, с нависающими складками над локтями и коленями, втиснутая в узкое аляповатое платье, и дышала так грузно и страдальчески, что Логинову на память пришла неизвестно как задержавшаяся в голове строчка из Дмитрия Пригова:
«Огромный женский человек//В младого юношу влюбился».
Ему стало жаль Маму Сью. В её возрасте, да ещё в период мании, это была действительно беда. Но Логинов не профессор Преображенский, чтобы вставить ей яичники обезьяны и отпустить восвояси.
– Ничего же себе, мамочки мои! Гадалку! – она брызнула мелким рассыпчатым смехом, будто бусины просыпала.
– Так что же вы от меня-то хотите, дорогая моя?
Она сразу стала серьёзной, потом, резко наклонившись вперёд, выпростала пятерню и схватила ладонь Логинова. От неожиданности он даже слегка дёрнулся.
– Вылечите меня, Георгич! Ради Христа! А уж я отблагодарю, будьте уверены!
– Да не лечу ж я такую напасть!
– Да отчего ж не лечите? Ведь самая ж натуральная болезнь!
Мама Сью откинулась на спинку кресла, и скрип кожаной обшивки смешался с глухим звуком упавшего на пол тяжёлого дырокола, задетого её локтём. Логинов нагнулся его поднять, Мама Сью по-куриному охнула и принялась извиняться.
В чём-то она была, несомненно, права. Платон вот считал любовь серьёзным психическим заболеванием. Разобраться, так ведь влюблённость, влечение – не что иное, как нейрохимический шторм в мозге, пляска гормонов, концентрация фенилэтиламина в крови, – и всё, ничего более.
– Сусанна Суреновна, во-первых, я не вижу здесь ничего страшного. Любовь – чувство благородное, в некотором роде даже полезное. Не следует только перегибать палку и бросаться в крайности.
– А я бросаюсь! – громыхнула Мама Сью и округлила подведённые фиолетовым карандашом глаза. – Ещё как бросаюсь!
– Вы хотите, чтобы я…
– Дайте мне какую-нибудь таблетку! Умоляю вас! – она снова наклонилась к его столу, стряхнув на пол богатым бюстом стакан с карандашами и ручками.
– Да помилуйте, нет такой таблетки! – Логинов начал раздражаться, и сам злился на себя за это: нельзя так, теряет квалификацию. – Если бы была, в мире всё было бы по-другому!
Мама Сью открыла пасть розовой сумки и долго рылась там, затем выудила большой белоснежный платок-простыню, каким только на пристани пароходу махать, и лишь тогда громко, со вкусом, всхлипнула.
– Георгич, миленький, ну как мне быть? Я же подсела на него, как на гашиш, я таю, похудела на несколько кило, а он даже не смотрит в мою сторону.
– А может, ну его?
– Как «ну»? Как «ну»? – она снова открыла сумку и достала смартфон. – Вот смотрите, какой красавчик.
Пальцы в кольцах забегали по экрану, отыскивая нужные фотографии.
– Правда, он лапочка, пупсичек, купидон?
С фотографий на Логинова смотрел отнюдь не белокурый амурчик, а худой парень в чёрных с прорезями джинсах, казаках, рокерской куртке и с длинными патлами пегих волос. Рядом с ним, привалившись на тонкую хромовую лапу с пружиной, стоял начищенный до блеска и разрисованный оранжевыми языками пламени «харлей».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.