Читать книгу "Грехи и мифы Патриарших прудов"
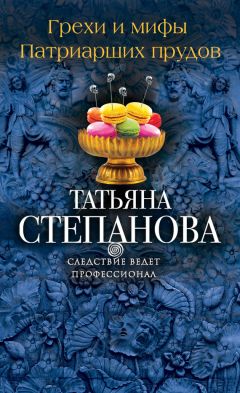
Автор книги: Татьяна Степанова
Жанр: Полицейские детективы, Детективы
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
– Таким способом порой хотят загладить вину и наладить отношения с потерпевшими, там же суд впереди маячил, – заметила Катя.
– Вы машину Кравцова, «Газель», сами осматривали? – спросил Гущин.
– Да. В кузове я ничего не нашел доказывающее, что он там девушку держал и перевозил.
– Ну вот видите, вы сами…
– Что я мог? Если бы следователь экспертов пригласил и они бы со своим оборудованием кузов осмотрели, возможно, что-то и нашли бы – волосы, ДНК ее. Это надо было просто сделать! Жопу оторвать от стула! – Клавдий Мамонтов ударил кулаком по столу. – А следователь уперся: нет оснований для проверки. Как узнал от врачей, что признаков изнасилования нет, что все увечья – результат наезда, так и уперся, блин… Извините за резкий тон.
– Ничего, бывает, – сказала Катя. – Следователя Уголовно-процессуальный кодекс в действиях ограничивает. Закон.
– А то, что маньяк над нами еще и посмеялся, это в закон тоже вписано?
Над тобой посмеялся, Клавдий Мирон Мамонт…
Катя скромненько потупилась – не надо его сейчас раздражать недоверием.
– Как вы себе все произошедшее представляете? – миролюбиво спросил Гущин.
– Кравцов похитил Пелопею. Перевез ее сюда, в Бронницы, на этой своей колымаге, в кузове, предварительно накачав убойной смесью – «ангельская пыль» плюс снотворное. Снотворное, чтобы не орала, не пыталась сбежать. «Ангельская пыль» действует по-другому: нарик не в отключке, но ничего из того, что он делает и что происходит вокруг, он не помнит. Так было и с ней. Кравцов держал ее в том доме, где он якобы занимался установкой беседки. Там хозяева в отпуске, у него были ключи. Это он девушку раздел догола. Издевался над ней – пусть не насиловал, но делал что-то другое с ней. Она испытала сильнейший шок. Когда действие диазепама ослабло, ей удалось как-то из этого дома удрать. Это ночью произошло. Он кинулся за ней вдогонку на машине. И сбил там, на девятом километре. Думал, что насмерть, поэтому сразу обеспечил себе алиби – позвонил нам и врачам.
Катя слушала внимательно. Просто все. Логики не лишено. Четкая картина, экономящая сразу на всем – на причинах, следствиях и действующих лицах. Пелопея и маньяк Виктор Кравцов. Что следует из этого? Если Кравцов и правда тот, безголовый – что следует из всего сказанного? Кто отомстил маньяку?
– Какая семья у девушки? – уточнил Гущин, его, видно, посетили сходные мысли. – Отец, мать, брат и сестра?
– У родителей какой-то раздрай в то время был. Мать – красавица, каких мало, светская дама. Она прилетела из-за границы только через пять дней. Папаша – энергичный тип, этакий деляга. Брат – ботан. Но о сестре он заботился. Сестренка – тогда еще пацанка, ей всего лет пятнадцать было, – перечислил Клавдий Мамонтов.
– Вы с ними делились своими подозрениями?
– Следователь мне запретил. Сказал, что Кравцов может в суд подать на полицию и ГИБДД за клевету.
– Но вы все же поделились?
– Я намекнул отцу. И с матерью ее коротко побеседовал о той ночи. Она хотела знать, что я видел.
– А дом, где, по-вашему, Кравцов держал девушку? – спросила Катя.
– Следователь даже не стал добиваться ордера на обыск. Сказал, что нет и не может быть никакого дела о похищении – никаких улик. Но я и не настаивал. Это надо было сделать в ту же ночь или наутро. Пока что-то там можно было найти. А Кравцова после разбирательства отпустили домой. Ему ничего не мешало направиться прямиком туда и все там подчистить – ключи же у него, их у него никто не забрал.
– Долго этот дом пустовал? – спросил Гущин.
– Он недостроен, хозяева-дачники туда нечасто наезжают. Работяг нанимают для ремонта.
– Но вы с хозяевами потом говорили?
– Да, – Клавдий Мамонтов кивнул. – Ничего полезного они мне не сообщили.
– То есть там не было кандалов, цепей, чтобы пленников к стенке приковывать, пыточных инструментов? – спросила Катя – не могла сдержаться.
Клавдий Мамонтов метнул в ее сторону взгляд – серая молния.
Ой, сейчас ударит гром – трах-тара-рах!
– Вы неловко язвите.
– Извините, Клавдий. Просто это стереотип.
Вся твоя версия – стереотип. Словно на салазках по накатанной давным-давно триллерами колее. Все просто и логично, но!
Все не стыкуется друг с другом, когда начинаешь разбирать мелочи и детали, вникать в подробности. Внешне все вроде стройно. Внутри – полно противоречий. Вот это и заставило более опытного следователя Нилова отмахнуться от этой версии. А вовсе не его профессиональный пофигизм. Так кому верить? Следователю или Клавдию Мамонтову, явившемуся на место аварии первым?
Никому.
Пока никому.
– ГИБДД и эксперты проводили автотехнические экспертизы, – сказал Гущин. – Все сошлись во мнении, что это наезд, в котором нет вины Кравцова – из-за форс-мажора, из-за действий самой потерпевшей.
– Они замеряли и изучали тормозной путь, читали заключение, что у нее в крови ангельская пыль, слушали показания самого Кравцова. Я сам водитель, я все виды транспорта вожу, даже БМП. Что я, не знаю, как это делается, что ли? Что надо говорить, чтобы отмазаться? – Клавдий Мамонтов обращался к Кате. – Самое главное – девчонка потеряла память. Она не могла вспомнить, что Кравцов с ней вытворял.
– Откуда он мог ее похитить? Из дома на Новой Риге? – спросил Гущин.
– Не знаю. Я выяснил лишь, что там, в их особняке, она в то время не жила. Я говорю – там полыхал какой-то большой семейный раздрай между папашей и мамашей. Пелопея жила в их квартире на Патриарших. Я пытался выяснить обстоятельства последних дней перед аварией, но мне не удалось узнать ничего конкретного.
– А жизнью самого Виктора Кравцова вы интересовались?
– Да. Это классический случай – примерный семьянин. Жена, двое маленьких пацанов. Дом-работа-дом. Маленькая строительная лавочка на рынке на Калужском шоссе – стройматериалы, сетка рабица и разные финтифлюшки для сада-огорода.
– Финтифлюшки? – спросила Катя.
– Декоративные беседки. Еще разная дрянь типа телег-колымаг на колесах для патио. Мужик-симпатяга этот Кравцов был. Рыжий и улыбчивый. А меня там, на той темной дороге, он хотел прибить камнем по голове, когда понял, что не задавил Пелопею насмерть. Произошло настоящее чудо, и она осталась жива. И чудо-расчудесное для него, что она все, все, все враз позабыла.
Глава 12
Пелопея
Пелопея Кутайсова чувствовала себя почти счастливой. Ну, если комфортное состояние души и желудка можно назвать счастьем. И еще, наверное, потому, что приехали, как и обещали, младшие – Гаврила и Грета. Пелопея давно заметила, с братом и сестрой она ощущает себя защищенной. Да, гораздо лучше чувствует себя, чем с матерью, ставшей такой нервной и почти прозрачной, или с отцом.
Гаврила с ходу предложил посидеть в «Вильямсе». И вот они сидели в этом знаменитом на все Патриаршие ресторанчике, набитом, как водится по выходным, до отказа.
Они втроем втиснулись за освободившийся двухместный стол: Грета и Пелопея сели на диванчик, тесно прижавшись друг к другу, Гаврила устроился напротив, на стуле. И Пелопея подумала: вот это то, что нужно, отсюда не хочется уходить.
Она пыталась вспомнить «Вильямс» до… Ну, до того момента, как все стало для нее словно с чистого листа. Конечно, она бывала здесь прежде, и множество раз. Но, может, тайная прелесть потери памяти и состоит в том, что знакомые прежде места не узнаешь, а словно открываешь заново. И не с чем сравнить свои впечатления, потому что они девственно новы, порой пугающе, остро новы.
Гомон, шум, музыка долбит по мозгам и ушам, низкий потолок, смех, чад и ароматы жаркого с большой открытой кухни в центре маленького зала. Кухня доминирует на всем пространстве, являя собой этакий бесплатный аттракцион, где орудуют уже уработавшиеся вусмерть от наплыва клиентов, но улыбающиеся, ловкие как дьяволы повара и поварята. Шинкуют огромными ножами на деревянных досках, месят, жарят, словно грешников в аду, на гриле и на сковородах заказанных «осьминогов по-галисийски». Колют лед в серебряных тазиках для коктейлей, заваривают пышущие паром ароматические чаи и развлекают своим поварским искусством обалдевших от избытка впечатлений лохов-туристов.
Гаврила читает меню и спрашивает что-то – в шуме Пелопея не слышит брата. Гаврила в эту субботу с линзами в глазах вместо очков. Он все никак не может решить, что лучше – очки или линзы. Когда Гаврила с линзами, Пелопее кажется, будто его лицу чего-то не хватает, что оно слишком юное и словно незавершенное – глаза красивые, но подбородок безвольный. Когда он приезжает в очках, то, кажется, наоборот – они старят его, еле держатся на носу и то и дело сползают к самому кончику.
Порой в глазах Гаврилы – острая жалость. Пелопея читает его взгляд – острая жалость к ней. Острая, как кинжал. У Гаврилы болит сердце, и он все никак не может успокоиться. Не может принять того, что с ней случилось. Он заказывает филе миньон для Пелопеи, зная, что она предпочтет всему мясо, брускету с крабом для себя и манералку для Греты.
Грета ничего не ест. Мама тревожится, что у нее развиваются признаки анорексии. Грета говорит: все это чушь. Она просто худеет ради фигуры. Грете исполнилось восемнадцать, и она действительно похудела, нет, отощала как мощи. Она стала до такой степени худой, что создается впечатление, будто она вся состоит из острых углов – локти, ключицы, коленки тоненьких ножек, острые как бритва скулы, острый нос, острый треугольный подбородок. И взгляд тоже острый и порой колючий.
Она даже в «Вильямсе» – одном из самых вкусных ресторанов – ничего не ест. Морщится и сквозь зубы потягивает минералку. Пелопея знает: сестренка мучается от того, что в ресторане нельзя курить. Как только выскочит на улицу, сразу засмолит сигаретку и станет дымить на ходу, когда они поползут от перекрестка Спиридоньевского к пруду, возле которого розовый дом.
Приносят заказ, и Пелопея с аппетитом накидывается на еду. Гаврила что-то бурчит, ковыряя вилкой брускету. Не слышно ни фига, потому что столики в самом вкусном ресторане Патриков стоят так тесно, что за едой чуть ли не толкаешь локтями соседей. Но все мирятся с теснотой ради вкусной стряпни. И атмосферы любимого кабачка, несмотря на чад, низкий потолок и гомон.
Девицы в рваных джинсах за столиком, что справа, суют любопытные длинные носы в высокие бокалы с красным вином, сначала вдыхая его аромат, а затем пьют, ржут счастливо и макают в высокие белые тарелки с горячим супом маленькие хрустящие багеты, похожие на румяные палочки.
«Я прочла всего Мураками, что-то не впечатлил…»
Пелопея помнит, что Мураками – писатель, и это ее радует. Но не помнит, читала ли она его. И это огорчает.
Слева горластая компания впавших в раж фанатов Булгакова среднего возраста и потрепанной внешности из семи человек чудом угнездилась за двумя сдвинутыми двухместными столиками и орет, как на базаре:
– Да что ты мне ссышь, ни один исследователь не может внятно объяснить, где находилась та скамейка, где они сидели в тот майский вечер!
– А что тут объяснять, когда ежу ясно, что скамейка находилась как раз напротив тридцать второго дома – спиной к Малой Бронной она стояла! У Булгакова в тридцать втором доме друганы жены жили – Крешковы, супружеская пара. Он к ним ходил сюда, на Патриаршие, на той скамейке у пруда напротив подъезда сидел. Дом тридцать второй, бывший доходный – этот тот, что с башенками и кокошником в неорусском стиле над подъездом. Крешковы спиритизмом увлекались всерьез, Булгаков – для хохмы. Он все это в «Спиритическом сеансе» описал, ну, где спрашивали дух Наполеона про то, когда кончатся большевики, а вместо духа чекисты в коже в квартиру вломились и всех повязали.
«Дом с башенками – это тот, который справа от нашего, на другой стороне», – думает Пелопея. И она рада, что помнит этот дом. И кокошник-наличник над подъездом она помнит.
– А когда Берлиоз вскочил, он от скамейки, от Воланда пошел налево! – надрывается знаток-фанат, дирижируя вилкой. – Трамвай поворачивал с Ермолаевского на Бронную и уже успел разогнаться после поворота.
– Да не ходил здесь никогда трамвай, ни по Ермолаевскому, ни по Малой Бронной! – орет на него как на врага другой булгаковед. – Зарубите себе на носу, ни на одном плане городском конца двадцатых – начала тридцатых не показано, что здесь мимо пруда были проложены рельсы!
– Здра-ааааа-сте, покакавши! Как это не было? На чем они передвигались? В то время тачки в Москве редкостью были. Остатки рельс при ремонте нашли в прошлом году, когда собянинскую плитку клали! Лужковский тротуар – кердык, долой, а там остатки рельс, линии трамвайной! Все было, все ходило – и трамвай ходил. А зарезали Берлиоза как раз посредине аллеи – тогда там разрыв имелся в ограде сквера и турникет.
– А дому с башенками – тридцать второму номеру – в тридцать восьмом году тот спиритический сеанс у Крешковых чекисты вспомнили. У Крешковых сразу двоих соседей по дому забрали и расстреляли – одного бывшего белого офицера, а другого пианиста, он тапером то ли в парке играл, то ли в клубе «Красный химик».
– Это чтобы квартиры освободить, свои же на своих стучали – соседи, авось квартиру отнимут, а потом в комнаты пролетариев населят. Сейчас дали бы волю, шлюзы открыли, снова все друг на друга стучать бы начали. Это в крови народной – доносительство на ближнего.
– Где вы видели пролетариев на Патриарших? Их здесь и не было, и нет. И не будет никогда. Здесь элита живет!
– Элита, ха! Да народ… работяги спят и видят, чью бы квартиру занять на халяву, куда бы дуриком за бесплатно вселиться! Это в генах у нас – зависть к чужому добру!
– Чекануться можно, – сказал Гаврила громко. – Вот от этого самого – просто можно чекануться. Патрики в своем репертуаре.
Пелопея улыбалась брату. Гаврюша, будь терпелив.
– Как вы там, дома, братцы-кролики? – спросила она.
Братцы-кролики – брат с сестрой – переглянулись. Дома – это значит Пелопея спрашивает об их прежнем доме на Новой Риге, где они остались с отцом.
– Нормально, – ответил Гаврила.
– Ничего не нормально! Феодора права качает каждый день, – пожаловалась Грета. – Мамину спальню перекрасила, всю мебель выкинула. Я вчера ее в гардеробной застукала – она в вещах, как свинья, роется. Я сказала ей пару ласковых. А она меня матом. Ну, ты помнишь нашу Федьку-Федору…
Пелопея хмурится.
Феодору она помнит.
Но воспоминания эти какие-то уж слишком старые… древние, полузабытые.
Вот они с Феодорой в школе, сидят за одной партой, и на них одинаковые клетчатые юбки, белые сорочки с черными галстуками и синие пиджаки. Прикольная форма частной школы, что на Новой Риге. И еще – они в школьном спортивном зале бухают теннисным мячиком об стенку и по очереди отбивают ракетками – стучат, учась играть в большой теннис.
Вот Феодора игриво обхватывает ее за шею и что-то шепчет на ухо – какую-то смешную непристойную чушь. От нее пахнет клубничной жвачкой и пивом. Это они вроде в каком-то ночном клубе и тоже давно, потому что на вид Феодоре столько же, сколько Грете сейчас.
Вот они под ручку вместе гуляют по улочкам средиземноморского городка – это, кажется, Испания или Италия. Они там отдыхали вместе лет шесть назад.
Вот они куда-то едут на машине. Феодора за рулем. Она что-то говорит, губы ее шевелятся. Черные как ночь волосы треплет ветер.
Когда это было?
Сколько лет этим воспоминаниям?
Пелопея не может сказать.
Да, она помнит Феодору – свою подругу, свою лучшую школьную подругу.
Но она не помнит, не может вспомнить другую Феодору – новую жену своего отца и мачеху Гаврилы и Греты.
– Сука она! – Острые скулы Греты становятся похожими на лезвия. – Властная, жадная сука. Папой стала вертеть как флюгером. У него на уме, кажется, одна только постель. Они спят сейчас в комнате, где ты жила. Но все равно я слышу, как она орет, оргазм изображая. Папа на седьмом небе. Он стал похож на идиота. Молодится. Купил себе кожаную косуху на заклепках. С тех пор как мама с тобой переехала сюда, у нас в доме все вверх дном. Я… я порой плачу по ночам… Честное слово, Ло, я плачу… Я чувствую себя так, словно вот-вот умру.
– Не плачь, Грета, ну что ты, – Пелопея гладит сестренку по голове. Волосы у нее серые и словно давно немытые.
Ощущение такое, что ее младшая сестра махнула рукой и на свою фигурку-скелетик, и на волосы, и на внешний вид. На ней старые кроссовки с избитыми носами – когда-то дорогие, мать покупала ей и дарила, а теперь замызганные. Худи с капюшоном – мешок и… да, рваные джинсы. Здесь, на Патриках, рваные джинсы – писк моды. Но Грета не модничает, просто ей все равно, что на джинсах дыры.
– Не расстраивай Ло, – приказывает Гаврила. – И прекрати распускать нюни. Родители развелись. Мама сама уехала. Она так решила, так захотела. Потому что Ло лучше здесь, в городе. Здесь врачи, клиника. Если что, то…
Если что?
Гаврила смотрит на Пелопею, умолкает. Вздыхает. На его щеках появляется румянец.
– Вкусно здесь, в «Вильямсе», – говорит он, желая увести беседу из грустной колеи. – Грета, поросенок, еще рано бухать.
– Тебя не спросила, – огрызается младшая сестра и заказывает проходящему официанту джин-тоник.
Пелопея смотрит, как сестренка пьет на голодный желудок – морщится при каждом глотке, но тянет, тянет джин.
Пелопея снова участливо гладит сестру по голове – так гладят маленькую взъерошенную дворняжку, что лишь лает да ловит зубами блох, которые то ли есть – то ли нет.
Глава 13
Большая Ордынка. Отец и мачеха
Вернувшись из Бронниц в Главк, Катя с разрешения полковника Гущина забрала оба толстых тома дела о ДТП к себе в кабинет Пресс-центра и читала материалы до восьми вечера.
Мысли ее, однако, часто обращались к тому, что она увидела и узнала в отделе полиции. Клавдий Мамонтов пошел их проводить до машины, когда они собрались уезжать. Даже куртки не накинул – вышел, неторопливый и меланхоличный, в своем бронежилете, напяленном прямо на футболку с коротким рукавом.
Дул северный ветер, срывавший с чахлых деревьев у отдела полиции желтую листву. Но Клавдий Мамонтов словно и не замечал холода, молча смотрел, как они садились в полицейский джип.
Кате отчего-то было приятно сознавать, что накануне поездки в Бронницы она все же побывала в салоне красоты.
Впрочем, образ бравого Клавдия Мирона Мамонта даже в образе римского центуриона недолго занимал воображение Кати. Она полностью сосредоточилась на томах уголовного дела, буквально продираясь через техническую документацию автотранспортных экспертиз и медицинские термины из истории болезни потерпевшей Пелопеи Кутайсовой.
Медицинские справки и заключения врачей занимали половину второго тома – Пелопея в результате аварии получила открытые переломы бедренного и голеностопного суставов, множественные переломы костей таза, переломы пяти ребер, разрыв мочевого пузыря, повреждения яичников, ссадины. Ей было проведено три операции – одна в Бронницкой больнице и две в Институте Склифосовского. Еще в деле имелась справка о том, что через год после аварии ей была проведена повторная операция костей таза и бедренного сустава в клинике в Германии.
Катя вообще поражалась, как девушка выжила с такими травмами.
Катя читала заключения наркологических экспертиз. Одна категорически отрицала наличие в крови водителя Виктора Кравцова алкоголя и наркотиков. Вторая столь же категорически выявила наличие в крови потерпевшей Пелопеи фенциклидина и снотворного в солидных дозах.
Имелись в деле и справки о том, что признаков сексуального насилия у потерпевшей не выявлено и что все ужасные травмы она получила именно во время наезда на нее машины Кравцова.
В деле были подшиты рапорты сотрудников ГИБДД, осматривавших место аварии. Катя читала рапорт Мамонтова – он описывал все очень лаконично. Видно, все его подозрения и эмоции были высказаны следователю в устной форме.
Имелись в деле и три документа от Виктора Кравцова – первичная объяснительная, написанная собственноручно, и два допроса, проведенных следователем.
Но главное место в томах занимали десятки страниц технических документов и экспертиз. Катя читала их так долго, что у нее начали болеть глаза.
В восемь вечера она закрыла последнюю страницу дела – постановление о прекращении.
Экспертизы и эксперты сходились во мнении о полной невиновности Кравцова в происшедшем на Старой дороге.
Все прочитанное Катей лишь подтверждало этот вывод.
Однако она ощущала непонятное смутное беспокойство. И никак не могла ясно определить для себя его природу. Что-то ускользало от ее внимания, и она никак не могла это найти. Вроде все здесь, на страницах этих толстых томов дела. Как будто мелькнуло нечто, заставившее ее насторожиться. Но она моментально отвлеклась – слова Клавдия Мамонтова, подозревавшего Кравцова в похищении девушки, тоже ведь не давали ей покоя.
И то, что насторожило ее в материалах дела, словно растворилось в хаосе дорожно-транспортных документов.
Катя начала листать тома снова. Но глаза ее уже не видели конкретики, она просто скользила взглядом по строчкам. Нет, нет, не найти…
Что-то есть…
Где-то здесь…
Она прочла и…
А может, и не было ничего?
В начале девятого вечера, вконец обессилев, она понесла тома Гущину – он тоже припозднился. Сидел в кабинете в одиночестве, при включенной настольной лампе.
– Ну что? Ознакомилась? – спросил он.
Катя кивнула.
– Все эксперты в один голос подтверждают невиновность Кравцова. Следователь просто опирался на их выводы. Он ничего не передергивал. О том, что нам Мамонтов говорил, в деле вообще ни слова. Это все за кадром осталось. Следователь в официальное расследование все эти версии о похищении и маньяке не включил. По документам это просто дело о ДТП, – сказала Катя.
Гущин пробурчал, что сам станет читать. Катя спросила, есть ли новости о месте работы Кравцова, удалось ли кого-то найти? Что насчет его пассии?
– Пока никаких новостей, – ответил Гущин.
Катя помолчала. Неожиданно ей пришла в голову новая идея.
– Федор Матвеевич, а не может так случиться, что пассия Кравцова и есть потерпевшая Пелопея Кутайсова?
Гущин воззрился на нее.
– Мы с вами ездили сегодня в Бронницы. Этот гаишник… Клавдий, – Катя с неким тайным удовольствием произнесла громкое римское имя центуриона, – изложил нам события на Старой дороге так, как они ему в тот момент привиделись, померещились. Ему показалось, будто он лицом к лицу столкнулся с похитителем и убийцей девушки. Ему показалось, что и его самого Кравцов замыслил убить как нежеланного свидетеля. Там ведь чуть до стрельбы не дошло. Но Мамонт… то есть Клавдий – он же бывший телохранитель. И нам сообщили, что он своего работодателя трагически потерял. А это значит, что он психически был раним на тот момент. И когда ему показалось, что Кравцов встал у него за спиной, то…
– Что ты хочешь мне сказать?
– Мы выслушали гаишника. Кроме его подозрений имелось и еще кое-что, – Катя подняла вверх указательный пальчик – очень изящно. – Клавдий сказал нам, что Кравцов навещал Пелопею с букетом. То есть он приходил к ней. Возможно, не однажды. Знаете, что такое Стокгольмский синдром? Когда жертва начинает оправдывать своего палача. Начинает жалеть. А палач тоже начинает жалеть жертву. Между ними устанавливается психологический контакт. Они вступают в отношения, в разговоры. Палач просит прощения, жертва прощает. Физические страдания, боль, жалость, раскаяние – это мощнейший афродизиак. Нам что сказала бывшая жена Кравцова? Что он неожиданно влюбился в молодую девушку. Как гром среди ясного неба. Бросил семью, двоих детей, развелся и ушел к ней. А в течение почти полутора лет в его жизни не было другой молодой девушки, кроме этой самой Пелопеи Кутайсовой.
– То есть, по-твоему, они после аварии стали любовниками?
– А почему нет? Все возможно. Он мог пытаться искупить свою вину и влюбился. Она его простила – не забывайте, ни она, ни ее семья не стали подавать гражданский иск против Кравцова. Она могла простить его и влюбиться.
– Если это он – наш безголовый, тогда кто же его убил?
Катя не стала отвечать. Рано, рано, Федор Матвеевич, задавать такие вопросы.
– Может, нам поискать любовный след рядом с Пелопеей Кутайсовой, а? – спросила она. – Нам ведь все равно необходимо с ней встретиться.
– Я созвонился с ее отцом, Платоном Кутайсовым, – ответил полковник Гущин. – В деле из всех допросов – лишь его допрос с данными и телефонами и допрос его сына Гавриила. Мать и младшую дочь следователь не допрашивал. Телефон мобильного у Платона Кутайсова за три года не сменился. Он удивился, что мы снова подняли дело о ДТП. Но готов ответить на мои вопросы. Сказал – у него завтра дела на Большой Ордынке, дал адрес. Мы туда поедем и встретимся с ним.
На Большую Ордынку, к отцу Пелопеи, отправились на следующий день, сразу после оперативки, где Гущин заслушивал доклады сотрудников розыска о том, что выполнено и что предстоит выполнить по делу о до сих пор так и не опознанном официально трупе. Полковник Гущин снова сам был за рулем.
Большая Ордынка – улица Кате хорошо знакомая – поразила ее несказанно. Этакая улица-нежить, или улица, прикидывающаяся нежитью. Подобных улиц становилось в Москве все больше и больше. Но Ордынка выделялась даже на общем безрадостном фоне.
Как такое возможно, чтобы по улице совсем никто не ходил? Никаких пешеходов! И это при том, что улица – старинная, историческая, прекрасная, ухоженная, тихая, так и располагающая к неспешным прогулкам? Старые купеческие особняки – каждый дом с изюминкой, отреставрированные дома-дворцы, выкрашенные в пастельные оттенки серого, нежно-сиреневого, нежно-зеленого, голубого, белого, желтого. Дома-призраки с запертыми подъездами, серыми пыльными окнами, прежнее вместилище банков, банков, банков, финансовых фондов, офисов солидных фирм… Все опустело на Большой Ордынке. Кованые чугунные ограды, старые церкви, в которые месяцами никто не заглядывает. Нескончаемый поток машин к Добрынинской площади – мимо, мимо. Прочь отсюда, прочь. Некоторое оживление только у метро «Третьяковская» и в направлении Лаврушинского переулка и Третьяковской галереи. А дальше – пустые тротуары, заброшенные особняки.
От этой старой прекрасной улицы Замоскворечья веяло такой ностальгией и такой потерянностью во времени и пространстве, таким отсутствием надежд, что Кате невольно стало не по себе.
Гущин остановил машину возле двухэтажного купеческого особняка – дома с мезонином. Они подошли к дубовой двери, Гущин поискал домофон, но его не оказалось, тогда он потянул дверь на себя, и она открылась.
Внутри – хаос. Небольшой зал, судя по всему, некогда здесь располагался ресторан. Но сейчас – полное разорение. Сор и куски пенопласта на полу, картонные коробки. Рабочие в комбинезонах волокут к задней двери, распахнутой настежь во внутренний двор, струганые лавки и грубо сколоченные столы. Другие рабочие за ноги, приклеенные к дубовой чурке, волокут по полу чучело оскаленного медведя с растопыренными когтистыми лапами. Грустный, опухший с перепоя ряженый тип – на обычную одежду у него напялено причудливое одеяние из мятой смесовой ткани зелено-красного цвета в виде кафтана странного покроя, так что и не поймешь, кого ряженый изображает, то ли стрельца кремлевского, то ли ярыжку посадского, то ли скомороха-дудочника-сопелочника – тащит тоже по полу, волоком, за древки пучок бутафорских бердышей из погнутой жести.
Дрели свистят, молотки стучат – это где-то в глубине, что-то падает, кто-то орет, что в машину «больше мебель не лезет».
И среди всего этого хаоса и разорения Катя увидела девушку с черными как ночь волосами до плеч. Стройная, крепко сбитая, невысокая, с аппетитной фигуркой – в серых джинсах-стрейч, облегающих тугую, как орех, попку, в черных замшевых сапожках и черной кожаной рокерской куртке – очень дорогой с виду. Она что-то рассматривала на своем мобильном и звонко кричала работягам во внутренний двор: «Укладывайте компактно! Второй раз машину сюда гонять не будем!»
Девушка была такой хорошенькой и деловитой, такой милой, что… Катя даже обрадовалась – нет, и на этой улице-нежити внутри умирающих домов-призраков обитают этакие создания.
– Пелопея! – окликнула Катя девушку.
Та мгновенно резко обернулась.
– Вам что? Вы кто?
– Полиция к Платону Кутайсову. Мы договорились о встрече, – сказал Гущин.
Лицо девушки разом утратило прежнее оживление. Стало строгим и не слишком приветливым.
– Он там, – она махнула рукой в сторону второго зала. И повернулась к ним спиной.
В пустом зале бывшего ресторана Катя и Гущин увидели двух мужчин: одного лет пятидесяти – солидного, невысокого, склонного к полноте, но явно изо всех сил пытающегося похудеть, излишне загорелого для осенней октябрьской Москвы, с абсолютно седой шевелюрой, составляющей резкий контраст с коричневой от загара кожей лица, и его собеседника – молодого, тощего, в модных очках, с шарфом, намотанным на шею, этакого креативщика.
Креативщик ораторствовал, тревожно сверкая стеклами очков:
– Не катит, совсем не катит, Платон Петрович, мы бабки теряем каждый день! Я вас с самого начала предупреждал, когда вкладывались – долго это не протянет. Эта допетровская канитель с бородами и щами, в кокошниках, Ваней Грозным, клюквой и гойда-опричниной. И в лучшие с финансовой точки зрения годы этот маркетинговый ход не заманил бы сюда тех, кто работал в офисах на этой улице. Это были банковские служащие. Финансисты, избалованные деньгами. А они, уж извините, привыкли к пище иной – к японской лапше удон, к суши, к свежим морепродуктам, к пицце не простой, а с таджарскими оливками. К тому, что мы все в ресторанах выбирали последние десять-пятнадцать лет. Не заманишь их ни калачом, ни вашей кашей с грибами, ни полбой, ни куриными потрохами. Осетрина – извините, дорогая, мы ее в меню ставить не можем, семга кусается, икра черная – о-го-го, глаза на лоб. Стейки, уж простите, стрельцы не ели. Салатов тоже не кушали. Про картошку до Петра Первого вообще говорили – «похоть антихристова». Так чем клиентов кормить, теша русский национализм, соблюдая традиции, а? Капустой квашеной? Щами?! А они щи на три буквы посылают. Уж извините, рожи кривят. И потом еще, самое главное: ни дня без конфликта в этом нашем с вами ресторане – официанты обижаются, что их приказано именовать «половой». Потому что гости, нетрезвые, часто просто хулиганят – вместе с «половой» употребляют слово «член» и «членоногий». Бармен за именование его по-старинному «целовальником» пригрозил подать на нас иск в суд по защите своей сексуальной ориентации. Обращения-приветствия «здрав буди, боярин» никто не понимает. Крики «сарынь на кичку!» гостей пугают и нервируют. На юмористическую реплику «как челобитную подаешь, смерд» – когда половой принимает заказ и забирает меню, многие гости реагируют крайне болезненно. Платон Петрович, вы поймите, здесь, на Ордынке, банки все ухнули, лопнули. Из клиентуры только сотрудники посольства Израиля остались. А они этот наш локальный юмор насчет «смердов и челобитных» не понимают, не секут, воспринимают порой даже болезненно – как намек на антисемитизм. Ни боже мой мы! А они обижаются. И название ресторана неверное – «Стрелецкий трактир». В те времена были лишь кружало – кабаки. А с точки зрения бизнеса назвать ресторан «кружалом» – самоубийство.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!





























