Текст книги "Изюм (сборник)"
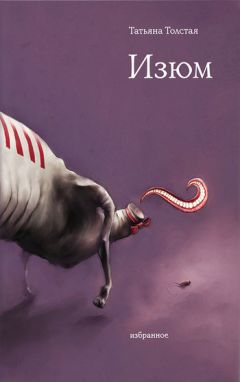
Автор книги: Татьяна Толстая
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
Пасха
Белые стены
Аптекарь Янсон в 1948 году построил дачу, чтобы сдавать городским на лето. И себе сделал пристроечку в две комнаты, над курятником, с видом на парник. Хотел жить долго и счастливо, кушать свежие яички и огурчики, понемножку торговать настойкой валерианы, которую любовно выращивал собственными руками; в июне собирался встречать ораву съемщиков с баулами, детьми и неуправляемой собакой. Господь судил иначе, и Янсон умер, и мы, съемщики, купили дачу у его вдовы.
Все это было бесконечно давно, и Янсона я никогда не видела, и вдову не помню. Если разложить фотографии веером, по годам и сезонам, то видно, как бешено множится и растет чингисханова орда моих сестер и братьев, как дряхлеет собака, как разрушается и зарастает лебедой уютное янсоновское хозяйство. Где был насест, там семь пар лыж и санки без счету, а на месте парника валяемся и загораем молодые мы, в белых атласных лифчиках хрущевского пошива, в ничему не соответствующих цветастых трусах.
В 1968 году мы залезли на чердак. Там еще лежало сено, накошенное Янсоном за год до смерти Сталина. Там стоял большой-большой сундук, наполненный до краев маленькими-маленькими пробочками, которыми Янсон собирался затыкать маленькие-маленькие скляночки. Там был и другой сундук, кованый, страшно сухой внутри на ощупь; в нем чудно сохранились огромные легкие валенки траурного цвета, числом шесть. Под валенками лежали, аккуратно убранные в стопочку, темные платья на мелкую, как птичка, женщину; под платьями – уже распадающиеся на кварки серо-желтые кружева, – их можно было растереть пальцами и просыпать на дно сундука, туда, где лежала, растертая и просыпанная временем, пыль неопознаваемого, неизвестно чьего, какого-то чего-то.
В 1980 году, в припадке разведения клубники, мы перекопали бурьян в том углу сада, где, по смутным воспоминаниям старожилов, некогда цвел и плодоносил аптекарский эдем. На некоей глубине мы откопали некий большой железный предмет, испугались, выслушали заверения тех же старожилов, что это не снаряд, потому что во время войны сюда ничего не долетало, опять испугались и зарыли это, притоптав. Когда перекладывали печку, ничего янсоновского не нашли. Когда меняли печную трубу – тоже. Когда кухня провалилась в подпол, а рукомойник в курятник, – очень надеялись, но напрасно. Когда заделывали огромную дыру, оставленную пролетариатом между совершенно новой трубой и абсолютно новой печью, – нашли брюки и обрадовались, но это были наши же собственные брюки, потерянные так давно, что их не сразу опознали. Янсон рассеялся, распался, ушел в землю, его мир был уже давно и плотно завален мусором четырех поколений мира нашего. И уже подросли такие возмутительно новые дети, которые не помнили украденной любителями цветных металлов таблички «М. А. Янсонъ», не кидались друг в друга сотнями маленьких-маленьких пробочек, не находили в зарослях крапивы белый зонтик заблудившейся, ушедшей куда глаза глядят валерианы.
Летом прошлого, 1997 года, обсчитавшись сдуру и решив, что даче нашей исполняется полвека, мы решили как-нибудь отпраздновать это событие и купили белые обои с зелеными веночками. Пусть, подумали мы, в том закуте, где отваливается от стены рукомойник, где на полке стоят банки засохшей олифы и коробки со слипшимися гвоздями, – пусть там будет Версаль. А чтобы дворцовая атмосфера была совсем уж роскошной, мы старые обои отдерем до голой фанеры и наклеим наш помпадур на чистое. Евроремонт так евроремонт.
Под белыми в зеленую шашечку оказались белые в синюю рябу, под рябой – серовато-весенние с плакучими березовыми сережками, под ними лиловые с выпуклыми белыми розами, под лиловыми – коричнево-красные, густо записанные кленовыми листьями, под кленами открылись газеты – освобождены Орел и Белгород, праздничный салют; под салютом – «народ требует казни кровавых зиновьевско-бухаринских собак»; под собаками – траурная очередь к Ильичу. Из-под Ильича пристально и тревожно, будто и не мазали их крахмальным клейстером, глянули на нас бравые господа офицеры, препоясанные, густо усатые, групповой снимок в Галиции. И уже напоследок, из-под этой братской могилы, из-под могил, могил, могил и могил, на самом дне – крем «Усатин» (а как же!) и: «Все высшее общество Америки употребляет только чай Kokio букет ландыша. Склады чаев Дубинина, Москва Петровка 51», и: «Отчего я так красива и молода? – Ионачивара Масакадо, выдается и высылается бесплатно», и: «Покупая гильзы, не говорите: „Дайте мне коробку хороших гильз“, а скажите: ДАЙТЕ ГИЛЬЗЫ КАТЫКА, лишь тогда вы можете быть уверены, что получили гильзы, которые не рвутся, не мнутся, тонки и гигиеничны. ДА, ГИЛЬЗЫ ТОЛЬКО КАТЫКА».
Начав рвать и мять, мы всё рвали и мяли слои времени, ломкие, как старые проклеенные газеты; рвали газеты, ломкие, как слои времени; начав рвать, мы уже не могли остановиться, – из-под старой бумаги, из-под наслоений и вздутий сыпалась тонкая древесная труха, мусорок, оставшийся после древоточца, после мыши, после Янсона, после короедов, после мучного червя с семейством, радостно попировавших сухим крахмалом и оставивших после себя микрон воздушной прокладки между напластованиями истории, между тектоническими плитами чьих-то горестей.
Литература – это всего лишь буквы на бумаге, – говорят нам сегодня. Не-а. Не «всего лишь». В этой рукомойне, пахнущей мылом и подгнившими досками, была спальня аптекаря Янсона; намереваясь жить скромно, долго и счастливо, он любовно оклеивал ее сбереженными с детства газетами, – стопочка к стопочке, пробочка к пробочке, ничего не надо выбрасывать, а сверху обои, – аккуратный, должно быть, и чистый, обрусевший швед, он уютно и любовно устроил себе спаленку, – частный уголок, толстая дверь с тяжелым шпингалетом, под полом – свои, чистые куры. В смежной каморке, с балконом, с окном на закат, на черные карельские ели, – столовая-гостиная: можно кушать кофе с цикорием, можно, сидя в жестком лютеранском кресле, думать о прошлом, о будущем, о том, как уцелел, не сгинул, как растит лекарственные травы, о том, как пройдет по первому снегу в легких черных валенках. Вот достанет из сундука – и пройдет, оставит следы.
Мы сорвали всю бумагу, всю подчистую, мы прошлись наждачной шкуркой по босым, оголившимся доскам; азарт очищения охватил все четыре поколения, мы терли и терли. Мы правда старались: мы не жалели ногтей и скребков; местный магазин, пребывавший тридцать лет в коматозном оцепенении и никогда не предлагавший покупателям ничего, кроме резиновых сапог не нашего размера и карамели «подушечка с повидлом», в новую эпоху ожил и завалил полки продукцией «Джонсон и Джонсон»; Джонсоны против Янсона; а что же может поделать один Янсон против двух Джонсонов? Какие-то быстродействующие очистители и уничтожители – аэрозоли для стирания памяти, кислоты для выведения прошлого.
Мы выскребли все: и белые по лиловому розы, и кровавых собак, и клубы морозного дыхания в очереди к сыну инспектора народных училищ, и ряды завтрашних инвалидов и смертников, доверчиво, за неделю до увечья или смерти накупивших круглых жестяных банок шарлатанского «Усатина» в расчете на любовь и счастье, подобно аптекарю Янсону, запасшему много валенок для будущих, уже не понадобившихся ног.
Мы протерли доски добела, до проступившего рисунка годовых колец на скобленом дереве. Мы дали стенам просохнуть. Потом мы взяли большую кисть, обмакнули ее в синтетический, очень цепкий, с гарантией, клей и как следует, без пузырей – по инструкции, – промазали клеем изнаночную сторону версальских обоев. Потом мы сложили обойные полосы пополам – клей на клей, – отнесли в спальню аптекаря Янсона, где, опять же по инструкции, снова развернули полосы во всю длину и, крепко нажимая «старой ветошью» (неузнаваемой трикотажной тряпкой, некогда бывшей неизвестно чем), притерли свежие, белые в веночках обои к свежей, еще пахнущей Джонсоном и Джонсоном – обоими Джонсонами – стене. Клей взялся, европеец не подвел, обои прилипли как страстный поцелуй, без люфта.
И вообще лето под Питером было хорошее, сухое, жаркое. Все быстро сохло. Наши обои, например, наутро уже выглядели так, будто они тут всегда и были: без темных пятен, без ничего такого. Оказалось, что это не очень сложно – обдирать и клеить. Эффект, конечно, вышел не совсем дворцовый и, честно говоря, совсем не европейский, – ну, промахнулись, с кем не бывает. Не то, чтобы не доставало артистизма, а – прямо скажем – глаза бы наши не глядели, – чего уж там – получился сарай в цветочках. Собачья будка. Приют убогого, слепорожденного чухонца. В куске все смотрится не совсем так, как на стене, верно? Вот если купить совсем, совсем белые обои – без рисунка, – а сейчас ведь все можно достать, – вот тогда будет очень хорошо. И этот наш ошибочный, виньеточный, совершенно случайный и непредусмотренный узор и позор укроется под белым, ровным, аристократически-безразличным, демократически-нейтральным, ко всему равнодушным, спокойным, приветливым, никого не раздражающим слоем благородной, буддийской простоты.
И в городе, у себя дома каждый сделает то же самое. Белое – это просто и благородно. Ничего лишнего. Белые стены. Белые обои. А лучше – просто малярная кисть или валик, водоэмульсионная краска или штукатурка, – шарах – и чисто. Все сейчас так делают. – И я так сделаю. – И я.
И я тоже. Мне нравится белое! Начать жизнь сначала! Не сдаваться! На цыпочках, осторожно, чтобы не побеспокоить, чуть заметной тенью, в шерстяных носках по новенькому линолеуму, с валенками подмышкой, с букетом звездчатой валерианы в руках, с пробочками и скляночками в оттопыренных карманах, с усатыми и бритыми инвалидами всех времен в испуганной памяти, выходитъ вонъ Михаилъ Августовичъ Янсонъ, шведъ, лютеранинъ, мещанинъ, гражданинъ, аптекарь – трудолюбивый садовник, запасливый и аккуратный человек, без лица, без наследников, без примет, – Михаил Августович, муж маленькой жены, житель маленьких комнат, чуточку смелый, но очень скрытный хранитель запрещенного прошлого, свидетель истории, добела ободранной нами со стен его бывшей каморки. Михаил Августович, про которого я ничего не знаю и теперь уже никогда, никогда не узнаю, – кроме того, что он закопал непонятное железное в саду, спрятал ненужное тряпичное на чердаке, укрыл недопустимое, невозвратимое под обоями спальни. Своими руками я содрала последние следы Михаила Августовича со стен, за которые он цеплялся полвека, – и, ненужный больше ни одному человеку на этом новом, отбеленном, отстиранном, продезинфицированном свете, он ушел, наверное, навсегда и непоправимо, в травы и листья, в хлорофилл, в корни сорняков, в немую, вечно шумящую на веру, безымянную и блаженную, господню фармакопею.
Женский день
У нас дома восьмое марта презирали: считали государственным праздником. Государственное – значит принудительно-фальшивое, с дудением в духовые инструменты, хождением строем, массовым заполнением карточек, называемых поздравительными открытками. «Желаем успехов в труде!..» Государственное – это когда на тебя кричат, унижают, тыкают в тебя пальцем: стой прямо и не переминайся с ноги на ногу! Это когда все теплое, домашнее, хорошее и уютное вытащено спросонья на мороз, осмеяно, подвергнуто оскорблениям. Государственное – это школа, первая примерка тюрьмы. В школе учат дурному и противоречивому. Говорят: «Сам погибай, а товарища выручай» и тут же велят доносить. Говорят: «Надо помогать другу», а списывать запрещают. И на уроках пения поют и поют про каких-то мертвых орлят, пионеров, партизан, солдат, якобы храбрых мальчишек, заползающих в тыл непроясненному врагу, чтобы там навредить, а так как известно, что мальчишки всегда вредят, что с них взять, – то и поёшь с отвращением, по государственной, холодной обязанности.
Черная школьная зима, вонь чернильниц-непроливаек, неприличное слово, вырезанное на парте, полы, вощенные красной мастикой, кабинет завуча, мимо которого проходишь, холодея: а вдруг выскочит и завопит, тучная, тряся багровыми щеками, полуседыми волосами, заплетенными в косицы «корзиночкой», – ужас, – все это государство.
Стены у него коричневые, тоскливые, и одежду тоже нужно носить коричневую, чтобы не отличаться от стен. В волосы – у кого коса – надо заплетать черные или коричневые ленты, а по праздникам – белые. Праздники у них – это когда на каждом этаже музыка и пение из громкоговорителей: «Мечтать! Надо мечтать!» – поет ангельский хор провокаторов, а в классе Валентина Тимофеевна орет, стуча по столу костяшками пальцев: «Я не о том спрашивала!.. Слушать надо!.. Размечталась тут!..» Праздники – это когда государственные цветы гладиолусы засовывают в кефирные бутылки и густо уставляют ими подножие ниши, где, укрытый от воздушной волны, создаваемой пробегающим табуном хулиганов, стоит и слепо блестит масляной краской белый ильич. На праздники уроков меньше, но домой не отпустят: надо идти в актовый зал, где будет представление. И хорошо еще, если позволят просто сидеть на деревянных откидных стульях, прищемляющих то пальцы, то платье, – а ну как заставят выступать? И тут они обязательно унизят и отомстят. Отомстят за то, что я умею быстро читать, и не хочу читать медленно, по слогам, не хочу притворяться, что справляюсь с трудным текстом: «ТУТ КОТ. А ТАМ?» На «празднике азбуки» они заставят меня изображать букву «Р» – которую я не произношу. «Роет землю черный крот. Удобряет огород». И все будут надо мной смеяться. И толстая тетка, завуч, – не человек, а слипшиеся комья, – всегда одетая в один и тот же приличный синий чехол, тоже разинет из первого ряда свой отремонтированный, подбитый сталью рот: ха-ха-ха.
На переменах мы должны ходить парами, взявшись за руки, по кругу. Я бы хотела ходить за руку со смуглым мальчиком Даниловым или, на худой конец, с девочкой с чудным именем Роза и с маленькими синими сережками в ушах. Но выбирать не приходится: меня спаривают с Володей, я должна держать его потную лапку, усыпанную бородавками. Мне семь лет, я страдаю. Что-то, – не знаю что, – оскорблено и бунтует во мне. Я не хочу. Государство (хотя я и не знаю этого слова) давит на меня фикусами в оконных проемах, картинами в золоченых рамах, откляченными от стены («Охотники на привале», «Богатыри на перепутье» – скопище мутных уродов, но и этих слов я не знаю). Ноги медлят и вязнут в красной, густой, государственной мастике. Свет тусклый. Володины бородавки, как сухой горох, впиваются в мою испуганную ладонь. Вдруг с криком, шумом, синим всплеском кто-то большой накатывается на меня потной волной, хватает, отрывает от карликового, мелковеснушчатого Володи, тащит, волочит, выкрикивает, – швыряет меня на «середину»: выталкивает в особый, позорный ряд посреди зала, где стоят отпетые: двоечники, убийцы, плюющиеся через трубочку жеваной бумагой, террористы, забывшие дома тетрадь, враги рода человеческого, не подшившие воротничок. Меня! Меня!.. Меня?!
Их уже двое, потом трое; они кричат, они воздевают огромные руки, они вращают глазами, огромными как мельничные колеса, секунда – и они растерзают меня в клочья. Женщины, фурии, учительницы. Что, что, почему? что не так?.. Сквозь клокотанье разбираю обвинение и приговор: там, сзади, на моей спине, где мне не видно, у меня в косе красная лента: мама заплела мне красную ленту вместо черной, моя мама – преступница, я – тоже, мы с мамой сокрушили основы, потрясли столпы, задумали свергнуть, подрыли, насмеялись, презрели. Ошеломленная, стою в позорном ряду с убийцами и растлителями: маленькими, испуганными, круглоглазыми от стыда и страха, но презрительно усмехающимися семилетними преступниками; приравненная к ним, низведенная до, стертая в пыль, чудовище в коричневом платьице и отглаженном фартучке. Красная позорная лента – развратная лента, женская лента – невидимо горит у меня на спине кленовым листом, бубновым тузом, огненной отметиной. Красные от крика лица склонились надо мной, рты разинуты, – сквозь лебеду десятилетий не слышу, не помню, не понимаю слов… Когда приходит весна, они собирают по три копейки и покупают открытки, а потом раздают их нам, раскладывая на парты: каждому по глянцевой карточке. На одной стороне карточки – восьмерка, петля, лента Мёбиуса, совершенно такая же, какую показывал папа, склеив из бумаги: смотри, вот полоска, так? а вот я ее поворачиваю, так? и соединяю концы… А теперь скажи, где наружная сторона и где внутренняя? Я не понимаю, где; голова идет кругом. Я держу бумажную петлю в руках и пробую ее пальцем. Я беру карандаш и провожу по полоске линию: бесполезно, все равно ничего не понять, у всех вещей на свете есть наружная и внутренняя сторона, а у этой – одна, только одна, всегда одна, это какой-то обман, это неправда, так не бывает!
У государственной открытки – две простые стороны: на одной красная лента восьмерки, запрещенная, женская, преступная лента, змея, кусающая саму себя за хвост; под ней веточка мимозы, – цыганского, несуществующего в природе растения, – оно появляется раз в году, весенними вечерами, оно светит желтыми шариками в питерском сыром мраке, его приносят домой, и оно сейчас же умирает, не выдержав насилия.
На другой стороне картонки – белая, разлинованная поверхность, и на ней, под диктовку краснолицых, толстых надсмотрщиков, пристукивающих костяшками пальцев по столу, мы покорно пишем: «Дорогая мама! Желаю тебе счастья в личной жизни… успехов в труде… мирного неба над головой».
Крупным, как тыквенные семечки, семилетним почерком я вывожу на меловой бумаге государственные, пустые слова. Чужие слова, потому что своих у меня еще нет. Ладони мои покрыты бородавками, – бородавки заразны и перебегают от школьника к школьнику, – скоро весь класс, весь «коллектив», все «дружные ребята» покроются ими, потому что все должны быть как один, потому что так говорит огромная женщина с костяшками, и женщина в синем чехле, со стальными зубами, и слепой ильич, задыхающийся от гладиолусов, – все, все должны быть как один. На спине моей – черный бант в косе… наверно, черный, должен быть черный, как государственная ночь, но я дергаюсь и проверяю испуганно: точно ли? не цветет ли там, сзади, между лопаток, беззаконие и беззащитность? не принесла ли я с собой в эту коричневую, глухую тюрьму милую домашнюю метку, милый, домашний цветок на поругание и осмеяние? – но и этих слов у меня еще нет, как нет никаких слов, чтобы крикнуть – кому? – об унижении и поругании – каком? чего? – откуда я знаю!
Я подписываюсь: «Твоя дочь Таня». Я думаю без слов, я представляю, как я понесу эту страшную, государственную карточку, эту заразную бородавку в дом, маме, ни о чем не подозревающей маме, как я принесу ей эти неправильные, лживые слова, – без запаха, без поцелуя, без чувства, без невысказанной нежности, без тех снов с сердцебиением, когда она выпускает мою руку и растворяется в толпе, – а я беззвучно кричу ей вслед, – я принесу и поднесу ей эту страшную, бородавчатую, мертвую карточку, и она испуганно уставится на красную восьмерку со стальными государственными зубами… Я заражу дом, и мертвая мимоза бородавками расползется по маминым рукам.
…Я иду домой, проходными дворами, мимо почерневших и осевших сугробов, и по Кировскому проспекту, освещенному негаснущей, весенней, желтой зарей, и через мостик, и мимо цыганок, темными тенями стоящими на перекрестках, в сгущающихся сумерках; я не вижу, что они делают, не вижу, что у них в руках, – только запах, – райский, желтый, южный, – веет мне вслед, – мамин запах, мой запах, ничей, свободный, женский, весенний, вечный, невыразимый, без слов.
Я подхожу к дому, высящемуся надо мной серой громадой: окна уже зажглись, хлопья вечерней музыки валятся из форточек, небо охвачено желтым пожаром, смутное чувство томит, и я не знаю, что с ним делать. Я не знаю, что делать с собой, и кто я, и что мне надо думать, и какие бывают слова, и за что наказывают человека, и что ему можно, и что ему ельзя.
В моем ранце – мертвая карточка, чумной билет; мне велели передать его дальше, но почему-то я не хочу, но надо, но я не хочу, но они ждут, но я не хочу. Стая женщин с криком и стуком навалились на меня, стучат в моем мозгу, давят и пихают: передай, передай, пусть она тоже… как мы… И ты тоже… И все… И каждый… никто не уйдет… Желтое небо на влажном западе изнутри наливается тьмой, сгущается, створаживается, горит, не угасая. Что я должна думать? Что? Я сажусь на твердую скамейку, – холод через рейтузы, маленькие боты в почерневшем снегу, ранец комком у ног. Я опускаю голову к коленям, я быстро и коротко плачу, а потом подбираю ранец, подбираю себя, прерывисто вздыхаю, вытираю варежкой лицо и, решившись, шагаю в кошачью тьму парадной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































