Текст книги "Свободное падение"
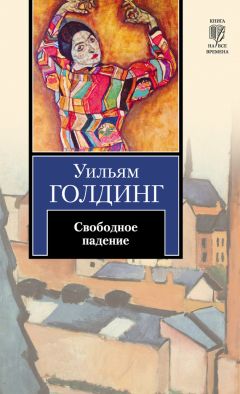
Автор книги: Уильям Голдинг
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
Чем больше я размышлял над его поступком – моим усыновлением то бишь, – тем отчетливей видел, так сказать, полуторное ему объяснение. Во-первых, он, наверное, сказал себе (и сам в это поверил), что с моим появлением надо смириться, что необходимо искупить постыдный прием, оказанный мне подле алтаря, что это лучше, чем мельничный жернов, если только ты не соблазнил одного из малых сих и так далее[14]14
Ср.: «А кто соблазнит одного из малых сих… тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской» (Матф. 18:6).
[Закрыть]. Это-то истолкование я и называю половинчатым. Зато цельное объяснение выглядит более гадким, если ты питаешь общепринятый взгляд на вещи… ну а если нет, то здесь мы имеем дело с героизмом. Я напоминал полную бутылку джина, которую кающийся сапожник выставил на свой верстак, чтобы дьявол всегда был на виду. Пастор, надо полагать, считал, что надлежащее познание ребенка – если угодно, обретение сына – позволит изгнать его личного демона, но он, увы, не владел искусством такого познания. Мы оставались чужаками друг для друга, а его чудачества стали, пожалуй, еще более выпуклыми. Размашистым шагом он бродил по улицам, тряся головой, подгибая колени, размахивая руками, а порой вдруг разражался стоном, идущим из самого ядра сей ужасной битвы:
– Господи! За что мне такое?
Иногда, уже начав очередное стенание, он распознавал знакомое лицо и, понизив голос, превращал его в инструмент светской вежливости:
– Господи… как вы поживаете?
И содрогаясь удалялся, бормоча себе под нос. По мере старения он забирал все выше и выше в попытке отрешиться от самого себя и, как мне кажется, наконец очутился на самом верху, где и обнаружил, что упустил всю сладость жизни, ничего не обретя взамен: всеми покинутый, дряхлый, выжатый, безразличный старик. Не могу сказать, что мы причинили друг другу много боли, но и добра понаделали мало. Он меня кормил, одевал, устроил в домашний класс, где все уроки вела одна и та же учительница, а затем отправил и в местную классическую школу. Это он вполне мог себе позволить, и я не впадаю в заблуждение, принимая его подписи на чеках за проявление благотворительности. По сути дела, он поднял меня из кипучего убожества и блаженства Гнилого переулка до роскоши, когда на одного человека выпадает целая комната, а то и две.
Но где здесь место страху перед темнотой? Пасторская обитель пугала больше, чем он сам, была полна неожиданных уровней, чуланов и подсобок, с просторнейшими комнатами на одном этаже, в то время как два других были заполнены тенями, проемами и потайными уголками. Религиозные полотна повсюду, причем мне больше нравились картины попошлее, нежели те работы, что носили в себе эстетические достоинства. Моя любимая мадонна была до ужаса слащавой, прямо-таки обдавала меня ушатами могущества и любви. Ее краски были яркими, как у товаров, что навалены в универмаге «Вулворт», затмевая другую даму, которая неправдоподобно парит с младенцем в Рафаэлевом воздухе. Сам по себе дом был холодным – и не только из-за отсутствия атмосферы любви. По идее в нем было устроено центральное отопление посредством некоего агрегата из газовых труб в подвале, словно речь шла о машинном отделении на судне. По словам миссис Паско, однако, во включенном виде этот пресловутый агрегат «жрал деньги»; весьма красноречивое выражение, которое в сочетании с сумрачным домом и пасторскими чудачествами давало мне много пищи для размышлений. Как бы то ни было – жрало ли оборудование деньги или нет, – что несколько клубов тепловатого воздуха могли противопоставить всем этим извилистым лестницам и коридорам, не доходящим до пола дверям, слуховым окнам и чердакам, где тепло изливалось снизу вверх сквозь покоробленные доски? Прежде чем отправиться наверх, в кровать, я сидел в огромной гостиной, грея руки у моей мадонны и слушая неторопливое постукивание картины о бурую панельную обшивку, хотя все двери и окна были закрыты. В этом доме мне доставалось мало тепла, которое можно было бы взять с собой в постель. А постель означала темноту, а темнота – беспредметный и иррациональный ужас. Ну вот, я вновь побывал на этих страницах, чтобы понять, отчего меня страшит темнота, но ответа так и не нахожу. Некогда я не боялся темноты, а потом стал бояться.
9
Когда шаги затихли, я не знал, как реагировать или что чувствовать. Мои представления о пытках были расплывчатыми и слишком общими. Где-то на задворках сознания маячила скамья, деревянная «кобыла» с тисками и желобчатой поверхностью, однако за ней стоял Ник Шейлс и демонстрировал относительность впечатлений органов чувств. Поэтому я призадумался, с какой стороны моего замешательства была эта скамья и где именно пребывали мои мучители. Все, что я испытывал или предполагал, было обусловлено близостью крайней опасности. Я не знал, каких еще провозвестников пыток мне ждать. Не знал, услышу ли я от них хоть слово, или же им поручалось заниматься только истязанием истерзанной плоти. Я стоял на коленях в густом мраке, придерживая брюки обеими руками, дрожа и ловя чужое дыхание – которому надо было налетать порывистыми вихрями, чтобы прорваться сквозь разнузданный дуэт моих легких и сердца. Кроме того, сама по себе композиция жизненного опыта носила дезорганизующий и непредсказуемый характер. От кого мог я услышать, к примеру, что темнота перед моими зашоренными глазами будет напоминать стену и что мне придется постоянно задирать подбородок, чтобы заглянуть поверх нее? И брюки свои я придерживал не ради приличий, а в качестве защиты. Мой организм – пусть и обсыпанный мурашками – опасался не за современный интеллект или солидное, общественно-значимое лицо. Его интересовало только одно: защитить мои гениталии, наши гениталии, всю расу. Наконец, объятый мятежом дыхания и пульса, по-прежнему удерживая брюки одной рукой, я вскинул вторую и сорвал мягкую повязку.
И ничего не случилось. Темнота осталась со мной. Она не только таилась в складках материи, но и окутывала меня, липла к глазным яблокам. Я вновь приподнял подбородок, чтобы заглянуть за стену, которая росла вместе со мной. В голове плескалась мешанина, своего рода питательная жижа из всех тюремных историй – потайные подземные темницы с люками, двигающиеся стены, праздность. И тут у меня вздыбились волосы: я вдруг вспомнил про крыс.
Если потребуется, я вас убью.
– Кто здесь?
Голос прилипал ко рту, как тьма – к глазам. Правой рукой я загреб воздух, опустил ее вниз и ощутил то ли гладкий камень, то ли бетон. Внезапно меня охватил панический страх за спину, я поспешно, на четвереньках развернулся кругом, затем проделал это еще раз. Сейчас я уже не помнил, где дверь, и разразился проклятиями, испытав первый укол изобретательности Гальде. Он хотел, чтобы я самолично полз к пыткам и обману; он замыслил поиграть со мной – не ради ужесточения мук, а лишь для окончательной демонстрации того, что в его силах вызвать во мне любую потребную реакцию… Я позволил брюкам съехать вниз, пока сам опасливо полз назад на четвереньках. От напряжения и скованности позы заныла шея, вспышки сверхъестественного света застили поле зрения. Я в ярости напомнил себе, что смотреть и так не на что, и, опустив голову к руке, расслабил шею, чтобы убрать и боль, и эти вспышки. Пальцы отыскали цокольную часть стены, и я тут же усомнился, что это и впрямь стена; был готов согласиться с этой концепцией, но в то же время считал себя слишком умным, чтобы угодить в силок допущений, а посему принялся выщупывать препятствие вверх, дюйм за дюймом. Но, как выяснилось, Гальде оказался умнее, неминуемо умнее, коль скоро я и приподнимался, и приседал на корточках, и вставал на ноги, а затем и вовсе вытягивался на цыпочках, взметнув одну руку над собой – но неподатливость стены упорно сопровождала меня, глумясь над отказом считать себя пойманным; она уходила выше моих пределов досягаемости, туда, где мог иметься потолок – а мог и не иметься, что зависит от корней невычисляемого уравнения из догадок и вероятностей, из меня и Гальде. Я присел на корточки, прильнул к земле и, шаря перед собой, пополз вправо, где нашел угол, а затем и что-то деревянное. Все это время я старался удержать в голове новую схему, но так, чтобы она не вытеснила прежнюю, гипотетическую и инстинктивную, со скамьей и судией. И все же новая схема оказалась настолько рудиментарной, что в ней нашлось по крайней мере место для моей спины. Здесь имелся угол, образованный бетонной стеной и деревом дверной створки. Я до того обрадовался, что хоть что-то оберегает меня со спины, что позабыл про брюки и съежился, свернулся калачиком, силясь втиснуть хребет в прямой угол. Поджал колени к подбородку и крест-накрест заслонил лицо руками. Так я был защищен. Нападение – не важно откуда – застанет меня за хрупким бастионом плоти.
Ничего не видящие глаза вскоре устают от пустоты. Изобретают свои собственные формы, плывущие под веками. Но сомкнутые вежды незащищены. И что же делать? Они распахнулись помимо моей воли, и вновь тьма легла на студенистые комки. Пересохли разверстые уста.
Ища себе компанию, я принялся ощупывать лицо. Укололся щетиной в местах, где следовало бы пройтись бритвой. Почувствовал две складки вдоль носа, скулы под кожей и мясом.
Я забормотал:
– Сделай что-нибудь. Сиди сиднем или шевелись. Будь непредсказуем. Проползи вдоль стены… или ты как раз этого хочешь? Хочешь, чтобы я свалился на колья? Тогда не двигайся. Не буду двигаться, останусь в обороне.
Подтягиваясь и отталкиваясь коленями, покачиваясь как старатель, промывающий золотоносный шлих, я принялся выкарабкиваться из угла вправо. Я вообразил себе уходящий вдаль коридор, и эта картинка обладала определенностью, а посему успокаивала – но тут мне пришло в голову, что в дальнем конце лежит нечто извращенное, готовое впиться в визжащее тело, так что, отдалившись едва ли на ярд от угла, я затосковал по его защите и суетливым насекомым метнулся обратно.
– Не двигайся – совсем.
Я начал заново: опять вправо, вдоль стены, ярд, пять футов, раз за разом подтягивая тело – и тут холодная стена ударила меня в правое плечо и лоб, выбив круговерть белых искр. Я пополз назад, уже зная, что возвращаюсь к прямому углу подле деревянной двери. На умозрительной схеме формировался поперечный бетонный коридор с пятном, напоминающим физиономию.
– Так.
На получетвереньках и по-пластунски. Брюки съехали к лодыжкам, и я позволил себе обрести достаточную независимость от стены, чтобы подтянуть их на место. А затем – уже на коленях, а не на получетвереньках – бочком двинулся вдоль этой же стены, после чего пополз вдоль примыкающей.
Опять стена.
В голове взметнулся вихрь: да это ж лабиринт, в котором я без путеводной нити и с вечно сползающими штанами обречен на вечное пресмыкание! Впрочем, штаны умеют падать только к ногам. Я попытался в уме подсчитать, сколько надобно стен, чтобы раздеть меня догола. Я лежал в моем прямом углу с закрытыми глазами, выслушивая разнообразные высказывания, взятые из беседы с Гальде, и наблюдая за амебовидными формами, плывущими в моей крови.
– Спекся, – хрипло выдавил я.
Я? Я? Слишком много этих «я», но что еще имеется в этом мутном, непроницаемом космосе? Что еще? Деревянная дверь и стены? Одна стена, две, три – сколько еще? Я вообразил себе стену причудливой формы с проемом, ведущим в коридор. В каменный мешок со множеством закоулков и «кобылой»? А кто может поручиться, что пол здесь ровный? Что, если вот этот бетон подо мною покатый? Поначалу с небольшим уклоном, но затем превращается в гладкий раструб наподобие ловушки муравьиного льва – но не из детской энциклопедии, а со стальными челюстями, где зубья как у бороны? Я вполз в угол и сложился перочинным ножиком, прикрывая собственное мясо над недержащимися штанами. Не на публику. Сольная партия; гляньте-ка, без глаз могу. Не на публику: некому наблюдать, как угроза мрака превращает мужчину в студень.
Стены.
Эта стена, и та, и вон та, и деревянная дверь…
А потом я сообразил что к чему, и это еще надо было подтвердить, раз уж я не имел права упустить это понимание, пока лично не вложу кончик перста в доказательство. Я проворно пополз на коленках вдоль стен, упираясь в бетон руками, выщупывая его – и вот так, по четырем стеночкам описал круг, вернувшись к прежней деревянной двери, назад к прежнему углу.
Я вскарабкался на ноги, штаны съехали, руки распластались по дереву.
– Выпустите! Выпустите меня!
Но затем пронзила мысль о нацистах за дверью, нахлынуло чувство, что поджидают жуткие ступени, множество ступеней к чему-то окончательно-безысходному, несущему нечто более страшное, куда более страшное, нежели неразделенный мрак. Тут же оценив последствия, я придушил свой крик, пока он не привлек их внимание, и вместо этого прошептал, уткнувшись в дерево:
– Гады фашистские!
Но и эта дерзость внушала страх. Есть же микрофоны, которые ловят шепот с расстояния в полмили. Истирая голые колени о бетон, путаясь в сложившихся гармошкой штанах, я уперся лицом в дверь. Ощущение разгрома немедленно перешло в физическую плоскость, а посему любое движение требовало слишком больших усилий. Шевельнуть хотя бы мускулом – значит заняться непосильной для человека задачей. Единственно возможный образ жизни: лежать клубком, пусть каждое мышечное волоконце остается как есть.
Не коридор. Камера. Стало быть, камера, с бетонными стенами и полом, с деревянной дверью. Пожалуй, страшнее всего была «деревянистость» этой двери, ощущение того, что для реализации их власти вовсе не требовалась сталь; чтобы держать меня здесь, хватало лишь волевого усилия Гальде. Как знать, может, тут и замок – фикция, а дверь готова распахнуться, стоит только пихнуть… но что толку? Старого узника дразнили, дурачили этой уловкой… человека, потерявшего двадцать лет жизни в ту бесхитростную эпоху, когда открытая дверь была синонимом выхода. Христианин и Верный, толкнувшие дверь[15]15
См. Джон Беньян, «Путешествие пилигрима».
[Закрыть], стали беглецами, как только нашли выход из своего положения. А вот нацисты подставили зеркало моей духовной дилемме, согласно которой проблема заключается вовсе не в отпирании двери, а в силе воли, потребной для переступания через порог, ибо снаружи имелся лишь Гальде – не благородное падение с зубчатой башни, но заточение в пыли за колючей проволокой: тюрьма внутри тюрьмы. И вот это-то – отчетливо видимый мною, убедительно продемонстрированный силлогизм, – этот взгляд на жизнь гнилой сыпью изъел мою волю, волю человека, и не знал предела своему распространению. Словом, обнаружив, что очутился в каземате, я лежал на бетоне и тупо созерцал панораму моего сокрушительного разгрома.
А затем передо мной во весь рост встала арифметика Гальдевых намерений. Я принимал за финал то, что было лишь первой ступенью. Для надлежащего изображения его просвещенности и гениальности подошел бы целый лестничный пролет, ибо впереди имелось еще множество ступенек. На какой из них человек наконец расстанется со своей крохой информации? Если она у него есть?
Потому что – и тут мышцы мои исполнились силой нервной судороги, – откуда человек может знать, что ему хоть что-то известно? Если ему не говорили, где спрятана рация, он все равно мог проложить обратный маршрут новостей сквозь месяцы, пока все они не начнут указывать на одну и ту же троицу, хотя кроме этих умозрительных маршрутов у него ничего и не было… так вот, этот человек что-нибудь знал? Насколько верна догадка? И какой толк от эксперта?
Я принялся нашептывать бетонному полу, словно Мидас в тростниках[16]16
Строго говоря, о том, что у Мидаса ослиные уши, шептал его брадобрей.
[Закрыть]:
– В одном из бараков есть два человека… номера не помню, а имен не знаю… могу показать их на построении… но что из того? Они будут все отрицать, да и вообще, может статься, невиновны. Если они такие же, как я, то ничего и не знают, но если я прав, и им известно, где держат рацию, как вы думаете: добела раскаленные крючья вырвут из них это место? Ведь у них будет что защищать, некая простенькая правда, некая определенность, ради которой идут на смерть. Они могут сказать «нет» ровно постольку, поскольку могут сказать и «да». Но что могу сказать я, не имеющий знания, определенности, воли? Да я скорее покажу вам на людей, подобных мне, не стоящих внимания, на серых, злополучных, беспомощных, по которым катит эпоха, несущая для них лишь обесценивание и пыль…
Но не было ответа. Ничто общалось с ничем.
Насколько велика камера? Я зашевелился, ломая гранит моей же неподвижности, осторожно вытянулся вдоль моей личной стены, но не успели ноги полностью выпрямиться, как ступни уперлись в бетон другой стены, а затем, ползком развернувшись, где-то градусов, думаю, на девяносто, пока тело не оказалось лежащим вдоль двери, я опять-таки нашел стену. Ага, камера, оказывается, для меня слишком мала: не вытянешься.
«А чего ты ждал? Меблированную комнату?»
Разумеется, я мог бы улечься наискосок, и тогда мои ступни оказались бы в необследованном дальнем углу, а голова оставалась бы в углу знакомом. Но кто может заснуть, когда из всех точек контакта есть лишь одноуровневый пол? Что за сновидения и призраки явятся незащищенному со спины, лишенному кокона постельного белья человеку? И если на то пошло, кто осмелится вытянуть ноги поперек открытого пространства узилища, через его центр, не заботясь о том, куда могут угодить ступни? Гальде – хитрая бестия, знает свое ремесло. Да они все хитрецы; по части изобретательности ума их и не сравнить с гниющим заключенным, подставленным под капель часов из клепсидры жизни. Центр был тайной… или даже ее ключом. Конечно, они спецы в психологии страданий, отмеряют каждому наиболее пользительное и потребное в его случае снадобье.
Ну и конечно, они могут быть даже умнее, чем тебе кажется. Отчего бы им не сидеть развалясь в креслах, поджидая, пока ты сам шагнешь на следующую ступень? Чего ради им полагаться на случай, предоставляя тебе шанс ненароком наткнуться на то, что таится посредине? Гальде проштудировал Сэмюэля Маунтджоя, знал, что Маунтджой будет держаться стены, будет строить догадки о том, что лежит в центре; знал, что на протяжении всех истязаний он будет гадать, размышлять, домысливать, и под конец – вынуждаемый тем же абсурдным позывом, что заставляет перешагивать через швы в брусчатке или маниакально стучать по дереву, дабы не накликать беду, – под конец его заставят… он будет визжать, но его заставят, да он сам себя заставит… вот-вот, сам же себя и заставит, до беспомощности послушный, лишенный воли, бесплодный, уязвленный, зараженный, пресыщенный собственной натурой, прободенный… деваться ему некуда: протянет руку…
Они знали, что ты начнешь копаться. Знали, что не сумеешь держать марку британца, что упадешь духом. Что сочтешь это заточение «не-невозможным» и полезешь дальше, а может, просто усядешься, навалившись спиной на дверь… Уж они-то знали, что к открытию сего ограничения свободы ты от себя добавишь новую пытку, страдание из-за центра – и посему сделаешь как надо. А как надо? Или ты ничего туда не положишь? Пускай, дескать, все обернется фарсом? Не-ет, еще как положишь.
Заполнишь этот центр самой полезной в твоем случае вещью: суммой всех кошмаров.
Прими обретенное и остановись на этом. Забейся в свой угол, подожми колени к подбородку, накрой глаза рукой, чтобы отвадить эту вещь, доступную взору, но никогда не появляющуюся. Центр моего каземата – тайна на расстоянии вершка. Ее ощутимо скрывает неосязаемый мрак. Будь благоразумен. Оставь середину в покое.
Мрак был полон образов. Они кишели и самовоспроизводились. Надвигались, надвигались и плыли перед лицом первобытного хаоса. Бетон утратил внешний облик, потому что был доступен лишь осязанию и превратился в холодное прикосновение. А древесина двери, напротив, была теплой и мягкой, хотя и не по-женски: она лишь не несла с собой холода и боли. Мрак был полон образов.
Уж не выдержаны ли размеры этого карцера с точным прицелом, чтобы невозможность вытянуться мало-помалу превысила предел бремени для слабого человека?
Я обтер лицо ладонями, тараща изумленные слепотой глаза. Итак, первая ступень была отсутствием света; свет отняли у художника. Он ведь художник, должно быть, сказали они и с улыбкой переглянулись. Был бы музыкантом, мы б забили ему уши ватой. Забьем ватой ему глаза. Это первая ступень. Потом он обнаружит, насколько мала его камера, и это будет второй ступенью. А когда его допечет невозможность полностью вытянуться, сказали они, он уляжется по диагонали и найдет, что мы ему там приуготовили: то самое, чего он сам ожидает найти. Робкое, болезненное и впечатлительное создание, он будет жаться к стенке, пока, наконец, не выдержит и расскажет нам все, что знает, или вытянет ноги по диагонали…
– Я понятия не имею, что мне известно, а что нет!
А вот теперь меня окружает не просто беспредметный мрак: центр камеры бурлит предположениями. Колодец. Разве ты не чувствуешь покатость пола? Только пошевелись, и покатишься прямиком в середину, в колодец, к муравьиному льву на дне. Когда измотаешься вконец своими же догадками, ты заснешь и покатишься…
Нам нужна информация, не трупы.
Нам нужно, чтобы ты шарил перед собой, дюйм за дюймом, линия за линией[17]17
Здесь: неметрическая ед. измерения, в Великобритании составляет 1/12 дюйма. До 1918 г. существовала и в России, но равнялась 1/10 дюйма (к примеру, отсюда же берет свое начало знаменитая «трехлинейка»: винтовка калибром три линии, то есть 7,62 мм).
[Закрыть], выщупывая бетон голой рукой. Нам нужно, чтобы ты отыскал странный полумесяц, жесткий, начищенный, надраенный по краям, а в середине шероховатый. Нужно, чтобы ты протянул руку по склону и, растопырив пальцы, нашел подошву башмака. И тогда – что ты сделаешь? Опасливо потянешь на себя и обнаружишь, что подошва неподатлива? Волосы в слепой темноте у тебя встанут дыбом? И ты без дальнейших усилий заключишь, что это трупное окоченение, что там лежит тело, свернувшееся клубком как замороженный утробный плод? Как долго ты будешь ждать? Может быть, сразу протянешь руку и потрогаешь заготовленный нами сюрприз, скорчившийся на расстоянии едва ли восемнадцати дюймов от тебя? У него усы из лебяжьего пуха. Ты ведь так и не потрогал его острый нос. Вот и сделай это сейчас. Все те темные аллеи мучительных испытаний были не нужны. Главная проверка здесь.
Нам нужно, чтобы ты шагнул на третью ступень. Мы знаем, что так оно и случится, потому что мы всегда правы. Мы разгромили целый мир. Вывесили в ряд измочаленные тела Абиссинии, Испании, Норвегии, Польши, Чехословакии, Франции, Голландии, Бельгии. Ты за кого нас принимаешь? На стене, за нашей спиной висит фотография нашего фюрера. Мы – мастера своего дела. Мы тебя не пытаем. Ты это делаешь сам. У тебя нет надобности делать третий шаг к середине, но к этому побуждает твоя же натура. Мы знаем: ты это сделаешь.
Тьма кувыркалась и громыхала. Я потерял дверь.
Они не должны этого знать. Найди дверь снова. Не обращай внимания на зеленое бушующее море, на распахнутый рот, на вздыбившуюся шевелюру, на глаза, откуда по щекам струится влага. И вот, после лихорадочного обшаривания по стеночке, я вновь в своем углу, в знакомом углу, прижимаюсь к древесине. Тот кусочек в середине – фута три в поперечнике, а то и меньше. Стало быть, нет там места для лежачего трупа; этот труп должен стоять, балансируя на окоченевших ногах. Они его специально так поставили, для меня. Если я его коснусь, он завалится вперед.
Я выскочил из бури. Я нес чушь, чушь, чушь самому себе, толком не помня, что это за чушь. Срывающимся голосом закаркал вслух:
– Если они и поставили там труп, это не наш постоялец, потому что он умер, его похоронили в Англии лет тридцать назад. Тридцать. Похоронили в Англии. За ним прислали огромный катафалк с резными, морозно-узорчатыми стеклами. Там и закопали. Это не его труп…
И тогда я отнял лицо от стены и воскликнул в великом гневе:
– Да при чем тут трупы?
Верх вверху, а низ – внизу. А там, где бетон – там с каждой секундой становится тверже, это низ. Не забудь, что где, не то укачает.
Делай что хочешь, но только не третий шаг.
Они свое дело знают туго. Подставили тебе грабли. Или ты сделаешь третий шаг и поплатишься за него, или же не сделаешь – но тогда будешь мучиться на собственной дыбе, силясь не думать, в чем она состоит, эта третья ступень. Они – более чем мастера.
Квадрат со стороной менее трех футов. М-да, не так уж много. Прямо-таки маловато. И ничего там, конечно, стоять не может. Что бы ни находилось в центре, эта штука должна быть маленькой. Свернувшейся в клубок.
Змея.
Я стоял, вжавшись спиной в стену, стараясь не дышать. Тело само вздернуло меня на ноги, одним рывком. На нем такая пропасть волос: и на ногах, и на животе, на груди – и каждый волосок жил своей жизнью, каждый унаследовал сто тысяч лет ненависти и страха перед вещами, которые ползают, пресмыкаются. Я глотнул воздуха и прислушался сквозь шум работающих механизмов моего тела, силясь уловить шипение или сухой треск, тягучий шорох скребущих чешуек, хотя в зоосаде эти твари не издавали ни звука, а лишь расползались как сочащийся мазут. В пустыне они исчезают, оставляя за собой едва приметную борозду и струйки песка. Они же могут двигаться на меня, на тепло моего тела, на пульсацию крови в шейных жилах. Они владеют мудростью, и если одну из них положили в центр, попробуй скажи, где она окажется в следующий миг.
У коленей был свой рефлекторный страх; обмякшее тело утратило все чувство гравитации, мешком повалилось в угол. Я лежал скорчившись, вновь прикрыв лицо руками. Слепо смотрел в точку, где могла быть эта тварь. Конечно, у него вряд ли имелась наготове змея или, скажем, тарантул, а если и имелась, вряд ли он оставил ее в каменном мешке, ледяном как гроб. Ничто здесь не жило, кроме меня. То, что лежит на третьей ступени, не может быть живым – и не может быть трупом, раз уж трупы не стоят на ногах.
Вновь я пустился ползать вдоль стен. Сам себе бросал вызов – а ну-ка, что там, вот в этом углу! – но глаза держал зажмуренными, чтобы слезилось поменьше; чтобы я мог вообразить за ними дневной свет.
Четыре угла, все пустые.
Я встал на колени в своем углу и пробормотал:
– Ну? И что теперь?
Скорей бы уж найти, пока в голову не взбредет нечто пострашнее, нечто доселе невообразимое.
И опять я пополз вдоль стены, на сей раз превратив свои восемнадцать дюймов в двадцать четыре. Итак, в центре есть пространство размером с крупную книгу. Может, так оно и было: меня ждала книга с ответами на все вопросы…
Я осмелился вытянуть пальцы из угла. Они принялись покрывать неизведанный путь, линия за линией, немея от холода и пощипывая. Пространство, могущее быть книгой, потихоньку сокращалось.
Пальцы продвинулись по бетону еще на одну линию.
Изменилось ощущение в самых кончиках. Сейчас они работали как-то иначе. Или нет. Это бетон менялся, переставал быть прежним, становился глаже.
Гладкий. Мокрый. Жидкий.
Рука самостоятельно отдернулась, словно там кольцом лежала змея; отпрянула помимо моей воли – рука, выдрессированная миллионолетними трагедиями.
Резью пронзило глаз, куда угодил ноготь: один глубинный физиологический рефлекс вытеснил другой.
Образумься. Ты что, расплакался, оказавшись в центре, или просто смахнул со щек слезы напряжения?
Вперед поползла вторая рука, отыскала жидкость, даже потерла крошечный участок бетона, выяснила, что эта жидкость масляниста.
Кислота?
– С тобой еще ничего не случилось. Образумься. Истязания, на которые он намекал, и не начинались. Хотя ступени восхождения столь же реальны, как ступени ратуши, тебе еще не нужно по ним карабкаться. Даже если в центре разлили яд, у меня нет нужды его слизывать. Им требуется информация, а не трупы. Это вовсе не кислота, потому что кончики пальцев до сих пор гладкие и прохладные, они не горят, не пошли волдырями. И это не щелок, раз уж нет боли: ведь щелок, как и кислота, разъедает. Просто что-то холодное, ледяное как воздух, как вот этот бетон, на котором шуршит, поскрипывая, ткань моих брюк. С тобой еще ничего не случилось. Смотри, не поддайся на их уловки, не продешеви.
А я что, чем-то торгую? Что это за информация, которой я то ли обладаю, то ли нет? Что мог я сообщить? Что это за козырь, моя последняя игровая фишка, последняя крошечная ценность, единственный тормозной башмак между мной и падением по скользкому, бесконечно длинному скату из хитрости, от истязания к истязанию? Он говорил, что это для моего же блага, нашего всеобщего блага… вот что промолвило последнее человеческое лицо, тонко вылепленное, о, до чего же тонко вылепленное на тонких, ломких костях.
Теперь во мне нарастало убеждение, что я даже при всем желании не смог бы ничего вспомнить. Голову словно заливало слоем бетона поверх позабытой вещи, той самой, о которой хотелось сказать. Но когда такая бетонная стяжка образуется у тебя в уме, с ней не совладает никакой внутренний перфоратор.
– Минуточку. Дайте-ка припомнить…
Дело в том, что подобные вещи всплывают в памяти, лишь когда забываешь, что хотел их вспомнить – и тогда надо быстро обернуться, пока бетон не застыл; но ведь Гальде возьмется за отбойный молоток, в них он разбирается. И все же никакая боль не взломает этот бетон; выбуривай сколько угодно, да только не подколупнешься…
– Говорю вам, я забыл… я бы вспомнил, если б умел! Дайте же время…
Но не будет и мгновения пощады. Сейчас я знал, что и впрямь позабыл, и никогда уже не вспомню. Лестница боли протянется от этой каменной подушки до неведомой высоты, мне придется карабкаться. Пусть отбойный молоток дико выплясывает на нервах, на моем мясе, брызгается кровью. Как тебя звать? Мюриэл Миллисент Молли? Мэри Мэйбл Маргарет? Минни Марсия Макака?
Масло, кислота, щелок. Ни то, ни другое, ни третье.
Нет.
Скула терлась о дерево, и сквозь вату рвался пронзительный, истеричный вопль.
– Говорю же: не получается вспомнить! О, если б только я смог… что ж вы меня никак в покое не оставите? Дайте время, и не только подумать, но чтоб еще можно было прилечь под небом без лестницы или без боли, и тогда бетон соскользнет, и вся информация хлынет наружу, если она есть… и мы сможем начать по справедливости…
И была картина жатвы давно обещанной, жатвы под одной звездой и луной. Свет тяжело лежал на колосьях пшеницы, и он шествовал сквозь этот свет, опираясь на посох – человек, коему суждено было вскоре тоже быть собранным в житницу, медленно брел к покою. И была девушка в голубом, лежала откинувшись, с тихой рекой за плечом, в пору, когда неторопливо близилась сиеста и всеобщая трапеза…
Я вновь поднимался на ноги, шаркал в опростанных штанах вдоль стены, лицом к преграде, выщупывая ее руками. Стена была на месте, куда бы я ни повернул. Я опять потянулся вверх насколько возможно, однако потолка так и не достиг – лишь тяжкий мрак, душащий как пуховая перина.
Масло. Кислота. Щелок.
Нет.
Тело осело, и правая рука полезла в сторону, касаясь гладкости. Пальцы шажками скользили по ней, пощипывая крохи неизвестного пространства.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































