Текст книги "Свободное падение"
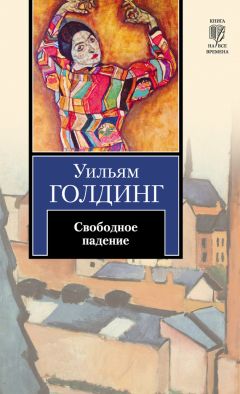
Автор книги: Уильям Голдинг
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
Пришел-таки Моисей к горе, хотя бы и к Хориву.
Хлопанье калитки, блеск очковых стекол, водянистый отлив топаза…
Я ее не слышу.
И я такой из-за тебя. В чем-то ты была мудра, но жестока. Отчего я тебя не слышу? Ты вытворяла со мной эти вещи, ты произносила слова, которые исчезли. Не в том смысле, что они воспарили в воздух и там смолкли; нет, они утонули во мне, стали мною, они настолько близки ко мне, что я их не слышу. Ты их произносила и шла дальше, была озабочена своими делами. Разве ты не будешь их держаться? Мир в самом деле таков, каковым он кажется обращенному вовне оку: местом, где дозволено что угодно, если это может сойти с рук?
Хлопанье, блеск.
Ей были доступны три пути. Могла объяснить, что в пустынях встречается кустарник, способный гореть очень долго и даже воспламеняться на солнце.
Нет.
Хлоп-хлоп.
Могла сказать нам, что Моисей видел это духовным зрением. Не было никакого куста перед обращенным вовне оком; и стоит только поглубже поразмыслить над этим кустом – куст вполне подходит, раз уж здесь годится любое иное слово, – так вот, стоит только поглубже над этим поразмыслить, и ты увидишь, что он разрастается, заполняет собой все пространство и существование, занимается огнем, чьи цвета подобны радуге.
Хлоп…
– Вы все, конечно же, не раз слышали это место из Библии, так что я задам вам несколько вопросов. В конце концов, за прошедший год вы все должны были немножечко поумнеть. Итак, гора Хорив. Что увидел Моисей на горе Хорив?
– Куст, мисс, горящий куст, и Ангел Господень воззвал из куста, и… и…
– Хорошо, хватит. Да. А кто-нибудь сидел в том кусте?
– Мисс! Мисс! Мисс!
– Уилмот?.. Да. А Моисей с ним еще встречался?
– Мисс! Мисс!
– Дженнифер?.. Да. На горе Синай. Ясно ли он видел?
– Мисс!
– Ну конечно же, нет. Даже Моисею пришлось довольствоваться словами «Аз есмь сущий».
– Мисс! Мисс!
– В чем дело, Маунтджой?
– Простите, пожалуйста, но он узнал больше!
– О-о?
Тут я понял, в каких дураках оказался; я понял, что если было невозможно объясняться с отцом Штокчемом, то в случае мисс Прингл это было попросту опасно. Как смог бы я выразиться… конечно, вы тоже это знаете, я лишь напоминаю вам, а может, вы только делаете вид с таким расчетом, чтобы кто-нибудь из нас вам польстил, дав нечто большее, чем тупое согласие… но я опоздал.
Мисс Прингл осветила класс торжествующей улыбкой и пригласила всех разделить удовольствие расправы над сим пленником.
– Дети, Маунтджой собрался рассказать нам нечто новенькое.
Как она и ожидала, по классу пробежала легкая рябь, и тут же, не давая ей затихнуть, взялась за дело:
– Ну конечно, Маунтджой знает Библию получше нас. В конце концов, он живет совсем рядом с храмом.
Маятник пошел раскачиваться.
– Тише, дети, слово мистеру Маунтджою. Сейчас он объяснит нам Библию.
Я сам видел, до чего покраснел мой нос.
– Итак, Маунтджой? Ты разве не хочешь предъявить нам… м-м… высоконаучные результаты своих академических исследований?
– Это было потом, мисс, опосля того как он…
– После, Маунтджой! Не опосля, а после! Уверена, что и пастор желает, чтобы ты как можно быстрее выучился говорить правильно. Итак?
– Он… этсамое… он хотел увидеть, мисс, но это было б чересчур… для него…
– Кто хотел увидеть, Маунтджой?
– Моисей, мисс, Моисей…
По мне хлестнуло всеобщим хохотом. Мисс Прингл терпеливо сносила вопли «мисс Моисей!», «мисс Моисей!», не дав им, впрочем, перейти грань между весельем и разнузданностью.
– Это было после, мисс…
– После?
– Ему было б слишком много. И его, значит, поставили в трещину скалы и он увидел… этсамое… что у Него сзади… просто там так написано, мисс, и я, значит, хотел у вас спро…
– Что… что ты сейчас сказал?!
Меня затопило потрясенной, ошарашенной тишиной.
– Ну, там написано, что он уви…
– Ты когда это прочел?
– А когда вы нам задали… эти… наизусть которые…
– Урок был по Новому Завету. Ты зачем полез в Ветхий?
– А я закончил, мисс, вот и подумал, что…
– Ах, закончил? Почему не сказал? Тебе не пришло в голову уведомить меня и спросить разрешение на эту… это…
Топаз трясся и сверкал.
– Что ж, Маунтджой, ты, стало быть, закончил с заповедями блаженства. Перечисляй.
Я стоял ослепленный и оглушенный, а в голове зрела картинка, что происходящее все больше напоминает поездку не по той ветке, колоссальное недоразумение.
– Да я же просто хотел узнать поточнее, мисс… вот как вы нам рассказывали насчет завеси и всякое такое…
– Заповеди!
Чернота пытки сделалась красной. А у меня ни одного слова на языке.
– Перечисляй заповеди, Маунтджой. «Блаженны…».
Неужели ты не понимаешь? Ведь я на твоей стороне. Я знаю, что открытия для тебя важнее, нежели глупые правдоподобия объяснений. Я знаю, что эта книга полна чудес и значимости. Я не таков, как сидящий слева от меня Джонни, который без раздумий принимает написанное, и я не похож на Филипа, сидящего впереди, который смотрит на тебя и подыскивает способ, как половчее тобой воспользоваться. Мой восторг – твой восторг.
Мисс Прингл перенесла руку вперед, задействуя иной ружейный прием, другой регистр органа: vox humana[21]21
Глас человеческий (лат.).
[Закрыть]. Мы порой слышали этот голос, ее уязвленный голос, голос Рахили, плачущей по своим детям – непременную прелюдию к зверству.
* Глас человеческий (лат.).
– …думала, вам можно доверять. И действительно, большинству из вас я могу доверять. Но есть один мальчик, которому доверять нельзя. Он пользуется уроком… причем уроком отнюдь не ординарным…
– Но ведь… Мисс, пожалуйста!..
Мисс Прингл загнала меня в нужную ей позицию. Если я не понимал всю чудовищность допущенной мною хулы, если до сих пор знался с невинностью и верил, что где-то в схеме вещей найдется местечко и для меня, мисс Прингл, тем не менее, чувствовала себя способной расшатать мою почву и посвятила себя этой задаче.
– Выйди сюда и стань перед классом.
Странное послушание охватило мои руки, вцепившиеся в края сиденья, помогающие подняться на ноги. Ступни послушно засеменили в темноту. Одним-единственным предложением она намекнула на столь многое… Интонацией, дрожью топаза подняла этот случай выше смеха, так что остальной части класса пришлось перестроиться на серьезный лад. Мисс Прингл в совершенстве владела умением произвести эффект, а посему знала, что не должна забегать вперед своей аудитории. Она дала им время подладиться, до того долго и испытующе глядя мне в лицо, что у меня запылали щеки – и тогда их молчание стало наполняться возбуждением.
– Так вот для чего, по-твоему, предназначена Библия… О нет, Маунтджой, и не вздумай отпираться. Ты что же, думаешь, я совсем не знаю, что ты такое? Нам всем известно, откуда ты взялся, Маунтджой, но мы были готовы согласиться, что с этим тебе просто не повезло.
Ее коричневые, глянцевые как каштаны, кожаные туфельки отступили на шажок.
– Но ты притащил с собой эту скверну. На тебя, Маунтджой, были потрачены деньги. Тебе дали великий шанс. А ты, вместо того, чтобы извлечь из этого пользу и проникнуться благодарностью, ты тратишь свое время, с мерзким хихиканьем роясь в Библии, выискивая в ней всякие… всякие…
Она умолкла, и тишина сделалась еще более мертвой. Все знали, чего мальчишки выискивают в Библии, потому что этим занималось большинство. И вот почему, наверное, мое преступление («Но в чем же оно состоит?» – гадал я), мое преступление им тоже казалось чудовищным. Тогда я думал, моя беда-де в том, что я не умею толком объяснять. Питал смутное чувство, что если б только я смог подобрать правильные слова, мисс Прингл все бы поняла, и дело тотчас бы уладилось. Но сейчас я знаю, что она не приняла бы даже самое продуманное, досконально точное объяснение. Она бы с неистовой ловкостью сделала финт и вновь свалила вину на меня. Хитрая она была, проницательная, одержимая и лютая.
– Смотри на меня. Я сказала «смотри на меня»!
– Мисс…
– А что в ответ… что в ответ?! Ты нагло – иного слова не подберешь! – нагло швырнул мне в лицо свою скверну.
Обе ее белые руки были вздернуты вверх и в стороны. Пальцы тряслись, отчаянно отряхивая друг дружку, словно им вовек не очиститься. Бурно колыхался каскад кружев. Теперь класс понял, что предстоит экзекуция по всей форме, публичная и затянутая.
Мисс Прингл перешла к следующей ступени. Справедливость должна не просто восторжествовать: она должна быть наглядной. Требовались доказательства проступка более существенные, нежели мой злополучный промах в теологии. Для этого годился один верный способ. Большинство учителей в той школе не до такой степени пеклись о нас, чтобы быть жестокими. Они даже признавали за нами право на отдельное существование, и это признание приняло приятную форму. Нас заставляли держать тетрадки чистенькими и опрятными, но имелись также тетради и черновые, которые – по негласному, необъявленному соглашению – носили сугубо личный характер. До тех пор пока ты не осквернял их слишком уж открыто и не изводил слишком уж расточительно, они полностью принадлежали тебе, как ученому – его научный труд.
Убедила ли она саму себя? Поверила ли к этому моменту, что я регулярно копаюсь в Библии в поисках непристойностей? Неужели ей было невдомек, что мы с ней два сапога пара – искренний метафизический мальчик и страдающая старая дева, – а может, она это знала и извлекала добавочное наслаждение от ненависти к своему собственному образу? В самом деле полагала, что найдет непристойности в моей черновой тетради? Или просто хотела воспользоваться любым формальным нарушением, ежели оно отыщется?
– Дай сюда свой черновик.
Я вернулся к парте тише воды, ниже травы. От молчания зудело в ушах, а Джонни отводил глаза. Один чулок съехал у меня до щиколотки. До правой щиколотки. Черновик был без обложки. Первые четыре листа изрядно помяты, затем бумага разглаживалась и становилась чище. Раз первая страница выполняла сейчас обязанности обложки, почти весь мой рисунок на ней стерся.
– Фу!
Мисс Прингл не благоволила моему приношению.
– Я к этому и прикасаться не буду, Маунтджой. Положи на мой стол. Так. Переворачивай страницы. Ну? Что-что ты сказал?
– Мисс…
Я принялся листать страницы на глазах затаившего дыхание класса.
Арифметика и лошадь, тянущая каток через городскую крикетную площадку. Несколько французских глаголов с ошибками – неоднократными. Телега на весах возле ратуши. Столбец одинаковых строчек, заданных в наказание: «Нельзя передавать записки в классе». «Нельзя…». Старенький «де хэвиленд» огибает облачную башню. Ответы на контрольную по грамматике. Арифметика. Латынь. Чьи-то профили. Пейзаж – скорее даже не зарисованный, а взятый на заметку, после чего детально проработанный в символах моей собственной нотации. Ибо каким образом способен карандаш передать странную притягательность белой дороги, вьющейся по склону мелового холма в нескольких милях от тебя? На среднем плане – путаница из деревьев и бугров, которая влекла к себе глаз, и где мог потеряться заплутавший зритель. Эта был не просто эскиз, но работа, выполненная со всей тщательностью. И настолько личная, что я поспешил перелистнуть дальше.
– Постой! Назад.
Мисс Прингл перевела взгляд на пейзаж, затем вновь на меня.
– Ты почему так заторопился переворачивать эту страницу, Маунтджой? Хочешь что-то от меня спрятать?
Тишина.
Мисс Прингл проинспектировала пейзаж дюйм за дюймом. Я чуть ли не осязал возбуждение одноклассников, сейчас преобразившихся в бладхаундов, кровяных гончих, взявших след и жарко дышащих мне в шею.
Мисс Прингл выдвинула белый палец и, подпихивая торец черновика, заставила его повернуться так, что мои бугры, волнисто-изрезанные холмы и дремучий лес встали отвесно. Рука ее стиснулась в кулак и отдернулась как ужаленная ударом хлыста. Она втянула воздух сквозь зубы, заговорила, и голос ее был глубок от благоговения и страстного гнева, от возмущения и признания меня виновным.
– Так вот оно что!
Она обратилась к классу:
– Дети, у меня был садик, полный прелестных цветов. Я с радостью трудилась в моем садике, потому что цветы были столь яркими и прелестными. Но я не знала, что там есть сорняки, слизняки, улитки и гнусные, мерзкие, ползучие гады…
Тут она переключилась на меня и зазубренной кромкой беспощадного голоса неожиданно полоснула по моей душе:
– Уж я позабочусь, чтобы об этом узнал твой пастырь, Маунтджой. А сейчас марш к директору!
Я торчал под дверью со своим черновиком, покамест мисс Прингл общалась с директором в его кабинете. Голоса были слышны; беседа продлилась недолго. Она выскочила и пронеслась мимо, а потом директор строгим голосом приказал мне войти.
– Дай сюда тетрадь.
Он был сердит, сомневаться тут нечего. Наверное, она излагала ему и так понятное: у нас тут-де совместное обучение, и такого рода вещи надо давить в зародыше. Думаю, он уже примирился с тем, что речь идет об исключении.
Директор перелистал всю тетрадь, помедлил, затем просмотрел ее повторно. Когда он заговорил вновь, его голос утратил прежнюю суровость – или, вернее, изменился, как если бы требовалось сохранить для виду некоторую резкость.
– Что ж, Маунтджой… И какая именно страница так возмутила мисс Прингл?
Да, пожалуй, все сразу. События сбили меня с толку, и я не знал, что ответить.
Он еще раз перелистал тетрадку. В голосе прорезались раздраженные нотки:
– Ну вот что, Маунтджой. Я спрашиваю: какая страница? Уж не вырвал ли ты ее, пока стоял за дверью?
Я помотал головой. Директор внимательно осмотрел прошивку тетради, убедился, что все листы на месте. Затем вновь взглянул на меня:
– Итак?
Ко мне вернулся дар речи:
– Сэр, вот она…
Директор склонился над тетрадкой, рассматривая мой пейзаж. Было видно, что его внимание привлек запутанный центр. Взгляд пополз дальше, сверля бумагу среди холмов и деревьев. Наконец, он оторвался от этого занятия, озадаченно наморщил лоб, мельком глянул на меня, вновь перевел глаза на бумагу. И вдруг повторил то, что уже делала мисс Прингл: перевернул тетрадку так, что мои восхитительно округлые холмы оказались отвесными, а из них торчал причудливо-вихрастый клочок растительности.
Мы попали в пространство, которое сейчас я бы назвал хаосом. В чем была загвоздка, я не понимал и ничего не испытывал, кроме боли и изумления. Но и он, взрослый человек, директор, понимал не больше моего. Словно сделал шаг, а почва возьми да провались. Тут его что-то озарило, и знание немедленно развернуло перед ним целый ряд неразрешимых проблем. Но он был мудр, а посему сделал самое правильное в таких обстоятельствах, а именно ничего. Он позволил мне понаблюдать за своим лицом, на котором проявилось столь многое. Я увидел результаты его прозрения, хотя и не мог их разделить. Увидел ошеломленную догадку, невозможность с ней справиться, и даже позыв к неудержимому хохоту.
Затем он шагнул к окну и некоторое время смотрел наружу.
– Ты ведь понимаешь, Маунтджой, что мы дали тебе черновую тетрадь вовсе не для того, чтобы ты в ней рисовал?
– Сэр…
– Мисс Прингл недовольна, что ты уделяешь так много времени своему карандашу.
С этим не поспоришь. Я ждал.
– Эти листочки…
Он обернулся и раскрыл тетрадь, чтобы что-то мне показать, но вдруг отвлекся на нечто новое. Речь шла о странице, на которой я нарисовал целую кучу людских фигурок. Кое-какие из них устояли и мне не поддались, но вот парочку-другую я изобразил неоднократно, сначала в деталях, затем упрощая, пока конечный результат, истекавший страстным посылом из карандаша, не подарил мне глубокого удовлетворения. Директор задрал очки на лоб и поднес тетрадь ближе.
– Да это же юный Спрэгг!
В этот момент хаос прорвался из моих глаз. Он был мокрым, теплым и неудержимым.
– Это что еще за новости!
Я охлопал карманы в поисках носового платка, но, понятное дело, его не было. Пришлось воспользоваться моей яркой школьной кепкой. Когда я вновь прозрел, директор щипал себя за ус и выглядел потерянным. Вновь отправился подышать в окно. Мало-помалу я высох.
– Ну вот так-то лучше. Продолжай рисовать, только не слишком увлекайся. А тетрадку я, пожалуй, оставлю у себя. Да, и постарайся…
Он надолго умолк.
– Постарайся усвоить, что мисс Прингл с глубокой заботой относится к вам всем. Подумай о том, как ей угодить. Договорились?
– Сэр.
– И передай мисс Прингл, что я… хотел бы поговорить с ней на перемене. Хорошо?
– Сэр.
– А сейчас тебе бы лучше… хотя нет. Ступай. Иди прямо в класс. Я скажу, чтобы тебе выдали новую черновую тетрадь.
Я вернулся в класс с чумазым лицом и передал послание директора. Мисс Прингл не обратила на меня внимания, если не считать одного властного жеста выставленным пальцем. Так, понятно. За время моего отсутствия она приказала передвинуть мою парту. Сейчас мое место было возле стены, впереди всего класса, где я уже не смогу заражать других своим присутствием. Я опустился на скамью и очутился в одиночестве, подставляя затылок волнам общественного порицания. С той поры я сделался к ним равнодушен и просидел на этом месте до конца четверти. В одиночестве познакомился со Стюартами. В одиночестве последовал за мисс Прингл из Гефсиманского сада.
Нынче я много чего понял про мисс Прингл. Священник у алтаря вполне мог бы взять себе в жены привлекательную и благочестивую женщину, но вместо этого предпочел укрыться в цитадели своего дома, поселив у себя ребенка из трущоб – ребенка, чью родительницу вряд ли можно считать человеком. Теперь понятно, до какой степени я досаждал: сначала своим присутствием, затем невинностью и, наконец, талантом. Но как могла она распять ребенка? Заявить ему, что отныне он должен сидеть отдельно, ибо не пригоден для общения – и после этого, голосом, исполненным скорби за человеческую жестокость и порочность, излагать историю другого распятия? Сейчас я понимаю ее ненависть, но отнюдь не ее способность фамильярничать с небесами.
Но в тот первый день неведения и хаоса мы еще были заняты Моисеем. По моей душе прошлись бороной, так что Моисей интересовал меня уже не так сильно.
– И вот, как свидетельство присутствия Господнего, увидел Моисей, что куст горит, но не сгорает.
Над головой грянул колокол, вещая об избавлении. Мы гурьбой поспешили на выход. Не зная, чего ждать после моей крестной казни, я направился в кабинет естествознания.
Там нас уже поджидал мистер Шейлс, Ник Шейлс, «Дьявол Ник». Ему не терпелось начать. Свет исходил от его громадной лысой головы и толстых очковых стекол. Он вытер классную доску полой своей мантии, и вокруг него повис столб белой пыли. На лабораторном столе стояла какая-то склянка с гнутыми трубками, а сам он опирался костяшками пальцев о столешницу, наблюдая за тем, как мы карабкаемся по ступенькам между рядами скамеек лекционного амфитеатра.
Я не знаю лучшего учителя, чем Ник. У него не было какой-то особенной методики или преподавательского блеска; он просто владел картиной природы и страстным желанием ее передать. И кроме того, он уважительно обращался с детьми. Не в смысле признания детских прав на словах: эта мысль вообще не приходила ему в голову. Дети были для него просто людьми, и он уделял каждому из них серьезное внимание, не отличимое от учтивости. Поддерживал дисциплину просто тем, что не видел необходимости ее насаждать. Вот и сейчас, нетерпеливо нас поджидая, он подготовил разбор некоего удивительного факта, всепоглощающей реальности, которая никогда не устает изумлять…
– Вам лучше вести конспект, потому что мы с вами попробуем это опровергнуть. Готовы? Итак, приступим. «Материя несотворима и неуничтожима».
Мы послушно строчили в тетрадках. Ник начал лекцию, призывая нас найти ситуацию, когда материя либо уничтожалась, либо создавалась.
– В морской раковине…
– Когда горит свечка…
– Во время еды…
– Когда вылупляется цыпленок…
Мы с готовностью приводили свои примеры. Мудро кивая, он разбивал их один за другим.
И при этом никто из нас не вспомнил про мисс Прингл и ее уроки, читанные буквально за соседней дверью. А ведь могли бы, наверное, хором проорать, что горящий да не сгорающий куст очень даже нарушает схему рациональной вселенной Ника, которую он перед нами разворачивал. Но про мисс Прингл никто и словом не обмолвился. Выйдя из одной двери и войдя в другую, мы пересекли порог разных вселенных. Безо всяких усилий удерживали их в головах, поскольку – по самой человеческой природе – ни одна из них не была реальна. Обе системы обладали внутренней непротиворечивостью… но не подсказал ли нам некий глубинный инстинкт, что вселенная вовсе не так уж готова подчиняться? Не он ли помешал нам обосноваться в любой из них? При всей образности, с которой мисс Прингл описывала свой мир, он существовал не здесь, а там.
Но и мир Ника не существовал в реальности. Он не был всеобъемлющ; всякий крохотный экспериментальный результат не умножался многократно, не заполнял собой вселенную. Если Ник сам проделывал такое умножение, мы наблюдали за ним с восхищением. Скажем, в качестве демонстрации законов тяготения он мог нарисовать нам картину светил, летящих своими путями, и тогда не наука, но поэзия заполняла его и нас. Его умозаключения на цыпочках тянулись к грандиозному звездно-арифметическому балу, но ни он, ни мы не глядели на небосвод. Минуло время целого поколения, прежде чем я узрел разницу между воображаемой концепцией и раскинувшимся над головой полотном. Ник же полагал, что глаголет о вещах реальных.
Под стеклянным колпаком горела свечка. Вода поднималась и заполняла пространство, доселе занятое кислородом. Свечка погасла, но перед этим озарила вселенную до того упорядоченную и разумно устроенную, что волей-неволей хотелось кричать: вот оно, решение всех вопросов! Если они и есть, то обязаны содержать в себе собственные ответы. В рациональной вселенной нет места неразрешимым вопросам.
Вера человека есть функция его сущности, а сущность эта частично обусловлена тем, что с этим человеком происходило. И все же тут и там, в этой мешанине побуждений возникает явственный вкус картофеля, элемента столь редкостного, что в сравнении с ним урановый изотоп встречается в изобилии. Наверняка и Ник ведал этот вкус, коль скоро он был человек бескорыстный. Сын нищих родителей, едва не надорвавшийся, пробивая себе дорогу. Знание, таким образом, было для него самой большой ценностью. У него не имелось денег на лабораторное оборудование, так что все приходилось сооружать самому из жести, гнутого стекла и эбонита. Его зеркальный гальванометр – воистину чудо хрупкости и чувствительности; а однажды он специально для нас воспроизвел северное сияние, редчайшей бабочкой затрепетавшее в стеклянной трубке. Ник не заботился задачей сделать из нас технарей: он хотел, чтобы мы поняли окружающий мир. В его космосе не было места для духа; и в результате этот космос на нем отыгрался. Он дал Нику любовь к людям, бескорыстность, доброту и чувство справедливости, которые влекли к нему всех и каждого, и в то же время позволил Нику проповедовать доктрину до ужаса рациональной вселенной, которую дети едва ли замечали. С наступлением перемены он не мог удалиться в учительскую из-за толпы школьников, обступавших его запачканную мантию, сыпавших вопросами, наблюдавших или – вопреки всякой логике и здравому смыслу – хотевших просто быть рядом. Он терпеливо давал разъяснения, в отдельных случаях откровенно признавался, что у него нет ответа, к любому стоявшему перед ним созданию относился на равных. Как и я, Ник вышел из трущоб, но только за счет собственного ума и воли. Никто его не вытаскивал, он вытащил себя сам, и его низкорослость была наследием жизни впроголодь и многолетнего изнурительного труда. Он был социалистом, став им сгоряча, но его социализм напоминал скорее натурфилософию: логичную, ненавязчивую и до изумления элегантную. Он видел новую землю, не ту, где бы у него появилось больше денег и меньше работы, а ту, на которой мы, дети, могли бы ходить в столь же замечательные школы как Итон. Он хотел, чтобы все богатство земли досталось нам и всем людям. Нынче, когда Британская империя распалась, при встрече с жителями той или иной жаркой страны, с триумфом заявляющих о том, что освободились самостоятельно, я порой вспоминаю Ника: шестьдесят лет тому назад он дал бы им независимость в ущерб себе. И при этом он ничем не владел; не пил, не курил и не обзавелся машиной. Вечно ходил в стареньком костюме из синей саржи и в черной мантии, изъеденной кислотой так, что напоминала сеть. Он отрицал, что за творением стоит дух – ибо сложнее всего обозреть то, что находится прямо перед глазами.
Эти двое, Ник Шейлс и Ровена Прингл, с годами вырастают за моей спиной все выше и выше. Ответственность возложена на меня, но то, каким я стал, частично зависело и от них; они как вмешивались в мои дела, так и вмешиваются. Я не в состоянии понять сам себя, не разобравшись в них. Поскольку я глубоко размышлял над ними обоими, сейчас я уяснил о них кое-кто, о чем ранее и не догадывался. Я всегда знал, что мисс Прингл ненавидит Ника Шейлса; а нынче, раз уж мы с ней так схожи, я понял причину. Она ненавидела его потому, что быть добрым не составляло для него никакого труда. Эту многоуважаемую школьную училку с чистенькими пальчиками ели поедом ее собственные тайные желания и страсти. Какие бы плотины она ни возводила там и сям, неуправляемый и желчный поток ее природы прорывался наружу. Могла ли она от отчаяния и отвращения в собственный адрес не истязать самое себя всякий раз, когда истязала меня? А как, должно быть, она корчилась при виде Ника-рационалиста, за которым шествуют дети, словно он святой! Никто ее не любил, если не считать вереницы унылых девочек-подлиз, никчемных приспешниц. Пожалуй, она отчасти понимала, насколько зыбкой была ее случайно сбереженная девственность; может, иногда, в сером свете до первого птичьего крика, она видела себя в зеркале и знала, что не способна измениться. Но вот для Ника – рационалиста и атеиста – не существовало ничего невозможного.
На том уроке я нуждался в нем, но не как в учителе. Думаю, он заметил мое зареванное лицо, и это привело к обычной для него ошибке проявлять сочувствие по неверно понятой причине. Видимо, он решил, будто мне в голову ударил контраст между моим статусом в пасторском доме и моей всем известной и почти что хвастливой незаконнорожденностью. Вот он и придержал меня после урока, якобы за тем, чтобы помочь убрать с лабораторного стола.
Но я ничего ему не рассказал. Был не в состоянии объяснить произошедшее. Тогда Ник взялся говорить сам. Он вновь вытер доску грязной мантией и сунул свои записи в стол.
– Нет ли у тебя новых рисунков, юный Маунтджой? Можно взглянуть?
– Сэр.
– Знаешь, что мне в них нравится? Очень удачно сходство.
– Да, сэр.
– Я про лица. Интересно, как тебе удается их рисовать? Я понимаю, что пейзаж вполне может потребовать какой-то доработки, но вот лица обязаны напоминать людей. А не лучше ли делать просто фотографии?
– Может, и так, сэр.
– Ну и за чем же дело стало?
– У меня нет фотоаппарата, сэр.
– М-да, конечно…
Мы закончили наводить порядок. Ник повернулся и уселся на свой высокий стул; я встал рядышком, опершись рукой на лабораторный стол. Ник не говорил ни слова, но в его молчании читалось благодушное одобрение и меня самого, и всех моих повадок. Он снял очки, протер их, водрузил на место и посмотрел в окно. Над горизонтом разворачивались щедрые ворохи туч, вот он и стал мне о них рассказывать. Эти напоминающие наковальни облака называются грозовым фронтом, там копится энергия. На сей раз он ради меня отошел от частностей к общему. Погода, надвигающаяся из Арктики, превращалась в великолепный, растянутый во времени балет исполинов. Когда он закончил, мы были с ним бок о бок, размышляющие об этом сообща, два равных друг другу человека.
– И откуда в людях такая жестокость? Откуда они берут на это время, в нашем-то мире? Войны, преследования, эксплуатация… Ведь я к чему клоню, Сэмми? Ведь столько всего надо увидеть… если угодно, для меня – изучить, а для тебя – нарисовать. Если все это отнять… скажем, у миллионера, он отдаст все свои деньги, лишь бы хоть краешком глаза еще разок увидеть небо или море…
Я смеялся и кивал, потому что нам обоим это было донельзя ясно, а вот до других это почему-то не доходило.
– …помнится, когда я впервые узнал, что радиус-вектор летящей планеты покрывает одинаковые площади за одинаковые промежутки времени… мне показалось, что после этого армии должны перестать сражаться… в смысле… я, кстати, был примерно в твоем возрасте… в общем, они должны были понять, до чего нелепо тратить на это время…
– И они перестали? В самом деле?
– Кто?
– Армии.
Мало-помалу начинала сказываться разница между взрослым и ребенком.
– Нет. Не перестали. Боюсь, что нет. Когда делаешь такие вещи, то превращаешься в некое подобие животного. Сэмми, вселенная поразительно точна. Нельзя получить булочку, не отдав грошик. Принцип сохранения энергии действует как в физической, так и ментальной сфере.
– Но, сэр…
– Что?
Ко мне пришло понимание. Его закон обрел размах. Я увидел, что он работает всегда и повсеместно. Зыбкой волной нахлынуло облегчение. Горящий куст еще сопротивлялся, и я тут же понял, в каком противоречии мы живем. Этот миг был для меня настолько важен, что я обязан рассмотреть его в деталях. На крошечную секунду оба мира сосуществовали бок о бок. Тот мир, где в силу моей природы обитал я – мир чудес, – усиленно тянул к себе. Отказаться от пылающего куста, воды из скалы, брения из плюновения – значит отказаться от частички себя самого: темной, устремленной вовнутрь и плодоносящей частички. Однако ж из того куста таращилась на меня одутловатая, веснушчатая физиономия мисс Прингл. А вот другой мир, холодный и рациональный, был родным домом дружескому лицу Ника Шейлса. Не думаю, чтобы здесь имелся шанс сделать выбор, обусловленный целесообразностью. Полагаю, что мой детский ум взвешивал между доброй и злой феями. Мисс Прингл опорочила свои же наставления. Она не сумела убедить – но не тем, что говорила, а тем, кем она была. Ник же убедил меня взять сторону его естественнонаучной вселенной тем, кем он был, а не тем, что говорил. Я на мгновение завис между двумя вселенскими картинками, а затем волна окатила горящий куст, и я бросился к своему другу. В этот-то момент дверь за мной и захлопнулась. Я шваркнул ею о косяк в лицо Моисею с Иеговой. И вновь постучаться в эту дверь довелось лишь в фашистском лагере, где я теснился к ней, наполовину рехнувшись от ужаса и отчаяния.
Здесь?
Нет, не здесь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































