Текст книги "Свободное падение"
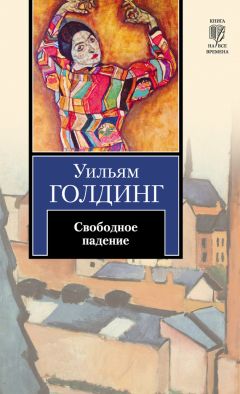
Автор книги: Уильям Голдинг
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 15 страниц)
14
Я заготовил две речи, по одной для каждого из моих родителей не во плоти. Пора отправиться к Нику Шейлсу и воздать ему добром. Излагал бы я ласково.
«Свой рационализм ты выбрал не разумом. Этот выбор ты сделал потому, что они показали тебе не того создателя. О да, я все знаю об их красивых, но пустых словах. Она – Ровена Прингл – лицемерила, а я-то знаю, чего стоит неискренность. Творец, которого они мимически изобразили для тебя в твоих викторианских трущобах, был старцем, тотемом иудеев-завоевателей, тотемом наших праотцев, покорителей и неторопливых поработителей половины мира. Я видел этот тотем на одном немецком фотоснимке. Он стоит навытяжку возле пушки. К жерлу привязан индус; еще миг – и тотем иудеев разнесет эту мятежную собаку в клочья за ее дерзость. Тотем обут в кованые сапоги, на голове – тропический шлем; он невежественен, лицемерен, великолепен и жесток. Как и все мое поколение, ты отверг его. Но ты был невинен, добр и невинен подобно Джонни Спрэггу, которого разметало на куски в пяти милях над его родным графством Кент. Вы могли бы жить с ним в одном мире. Тебя не поймали в страшную сеть, в которой нас, виновных, вынуждают терзать друг друга…»
Но Ник лежал в больнице, умирая от утомленного сердца. Даже в ту пору мне казалось, что он недополучил свое, меньше всего желая окончить дни на госпитальной койке в мелком городишке. В тот вечер я увидел его издали, с противоположного конца палаты. Обложенный подушками, он рукой подпирал свою громадную голову. Свет от горевшей за его спиной лампочки стлался по лобастому черепу, укрывал снежной пеленой подобно прожитым годам. Лицо под навесом обметанных белизной бровей выглядело изможденным. Я вдруг увидел в нем воплощение томящегося ума – и пришел в благоговение. Масштаб и уровень того, что происходило с ним на пороге смерти, заставляло меня испытывать лишь собственную ничтожность. Я удалился, унеся с собой так и невысказанный стих.
А для нее моя речь намечалась простой.
«Мы были с тобой схожи, вот и все. Тебя заставили меня мучить. Где-то ты утратила свою свободу, а после этого была вынуждена проделать со мной все эти вещи. Понимаешь? И не исключено, что в результате Беатрис очутилась в психушке; таково следствие нашего совместного труда, моего труда, труда всего мира. Разве ты не понимаешь, что друг друга нас заставляют пытать наши же несовершенства? Ну конечно, понимаешь! Безгрешные и нечестивцы обитают в одном и том же мире: Филип Арнольд стал членом кабинета министров, и жизнь для него легка как дуновение. Но мы-то и не те и не другие. Мы – виновные. Падшие. Мы пресмыкаемся на четвереньках. Рыдаем и рвем друг дружку на куски.
И вот почему я вернулся – раз уж мы оба взрослые и живем сразу в обоих мирах, – чтобы обеими руками протянуть прощение. Где-то надо оборвать жуткую траекторию падения. Ты это сделала, и я целиком тебя прощаю; швыряй в меня свои дротики. А твою роль в нашем повествовании я постараюсь изъять – насколько смогу».
Однако прощение нельзя только даровать: его приходится и принимать.
Нынче она жила в нескольких милях от школы, в поселке, крошечном поселке с камышовыми крышами и чугунными оградами. Завидев меня на том конце садовой дорожки, издала радостный возглас:
– Маунтджой!
А затем она сняла садовую перчатку и протянула мне белую ладонь; тут-то заготовленная речь и все, что я знал, вылетели у меня из головы. Потому что есть такие люди, которые загоняют нас в ступор словно цыплят, уложенных клювами к меловой черте. Я сразу понял, что ничего не следует говорить, но все равно оказался неподготовлен ко взглядам и суждениям мисс Прингл; да и наши картины прошлого не совпадали. Моя и Филипова слава были оправданием и утешением учительства. Ей нравилось воображать, что ее забота обо мне – Сэмми; можно ли называть вас Сэмми? и я пробурчал «конечно», ну конечно, раз уж мой клюв лежал на меловой черте, – так вот, ей нравилось воображать, что ее забота обо мне в какой-то небольшой, крошечной (возле гипсовой купальни для птиц сидел гипсовый кролик), хотя бы и вот в такусенькой мере, но все же несла ответственность за те прекрасные вещи, что я сумел дать миру.
Словом, через десять секунд мне хотелось только одного: унести ноги. По телу ползали мурашки. Она до сих пор была существом, обладавшим чудовищной силой, и ее нынешняя похвала столь же кошмарна, как и былая ко мне ненависть, и я понял, что нам нечего сказать друг другу. Потому что эта женщина одержала победу неожиданного сорта: полностью ввела в заблуждение самое себя и жила теперь в одном-единственном мире.
Сутками напролет поезда катят по рельсам. Затмения предсказуемы. Пенициллин излечивает воспаление легких, атом расщепляется как положено. Сутками напролет, из года в года, ясные как день истолкования отодвигают границы тайны, обнажая реальность удобопрактичную, понятную и отстраненную. Скальпель и микроскоп подводят, к разгадке поведения придвигают осциллограф. Выходит, великолепный балет исполинов самодостаточен, он и не нуждается в музыке, которую я слышал в минуты безумия. Никова вселенная реальна.
Сутками напролет действие взвешивается на весах и получает оценку: не как благоприятное, удачливое или опрометчивое, но как «добро» или «зло». Ибо этот-то принцип, который мы должны именовать духом, пронизывает своим дыханием всю вселенную, ее не касаясь; а касается он лишь темных вещей, содержится в одиночном заключении, касается, судит, выносит приговор и движется дальше.
Ее мир был реален, оба мира реальны. Моста нет.
Яркая полоса превратилась в треугольник света, обмахнувший неожиданно проявившийся бетонный пол.
– Heraus![25]25
Выходи! (нем.)
[Закрыть]
Поднявшись с колен, придерживая спадающие брюки, я неуверенно зашагал к судье. Но он исчез.
На место вернулся комендант.
– Капитан Маунтджой. Произошло недоразумение. Прошу извинить.
Меня развернул какой-то звук. Сейчас я видел коридор насквозь, и пятно в форме человеческого мозга видел, и ту камеру, в которой получил то, что получил. Туда убирали ведра, нагромождая их друг на друга, швыряли мокрые половые тряпки. Стало понятно, что одну такую тряпку они забыли, а может, намеренно оставили, когда освобождали место для меня. Она и сейчас мокрой кляксой лежала по центру пола. А затем один из солдат отсек из виду и ведра, и тряпки самой банальной дверью самой банальной подсобки.
– Капитан Маунтджой. Вы слышали?
– Слышал.
Комендант небрежным жестом указал мне на дверь, ведущую обратно в лагерь. И произнес непостижимые слова, над которыми я буду ломать голову, как над загадкой сфинкса:
– Герр доктор не разбирается в людях.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































