Текст книги "Свободное падение"
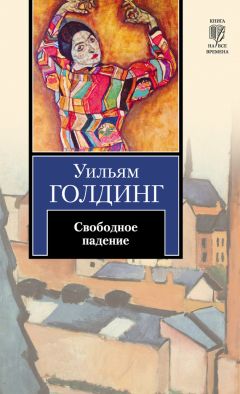
Автор книги: Уильям Голдинг
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
12
И все же будущее не целиком лежало в двух парах этих рук, потому как разлитому в нашей крови вину еще предстояло проявиться прыщиками и фантазиями о постели, в которой не спят, и в смешках, похабных смешках, изустных преданиях мелких городишек и поселков. Встречались такие словечки, которые цедили разве что ради вызова скабрезного смеха. Имелось и чувство ущербности, потому что Он – я то есть – не мог взять в толк причину всего этого гоготания; ему хотелось быть в курсе, знать дело с изнанки вместе с ее грязью; он алкал чувства социальной защищенности от принадлежности к племени, к тем, кто знает и ведает. Ну и, разумеется, здесь к месту, как отлично сидящая перчатка, пришлась бездушная Никова вселенная причинно-следственных связей. Я был смышленей Ника. Понимал, что если человек превыше всего, если он сам себе творец, то добро и зло побеждают большинством голосов. Нет поведения доброго или порочного: деяние либо обнаружат, либо оно сойдет тебе с рук. Вот отчего Он, покончив со своей увлеченностью Моисеем, пытался понять, отчего два дня подряд вишни столь смехотворны, а иногда напоминают о молчаливой деревенской девушке Селине. Вот откуда взялся Он, слушающий Джонни и впервые принимающий участие в обсуждении злободневных сальностей. Внимающий мистеру Кэри на уроке истории и раньше всех разражающийся хохотом на ввернутое учителем крепкое словцо (за это ему, правда, влепили выводить полсотни строк о правилах поведения, но оно того стоило). Вписавшийся в струю, знаток и изобретатель грязи, ведущий скандалист в теплом, скабрезно хихикающем мире, родном доме.
Смотрящийся в зеркало.
Самого себя я считал крайне уродливым созданием. Глядящая на меня физиономия была всегда угрюмой и затененной. Черные волосы, жесткие черные брови – не пышные, а колючие как щетина. Черты лица выходят мрачными, когда я пытаюсь их изобразить и понять, что я на самом деле такое. Лопоухий, со скошенным лбом и подбородком. Сам себя ощущаю человекообразной и крепкой на вид тварью; не дамским угодником, но самцом.
А ведь мне хотелось быть девчонкой. Там, в мире иллюзий, где всегда существовали их юбки и гривы, мягкие лица и опрятные животики. Но сейчас, когда вино разлито, сюда добавился и аромат тальковой пудры, и колыхание груди, и мерцание брошек в витринах «Вулворта», и округлые и шелковистые колени, и темная патока их киношных ртов, разверстых как раны. Я хотел быть одной из них и думал, что это желание уникально подобно самоудовлетворению и крайне постыдно. Как же я ошибался… Тяга к рукоблудию универсальна. Наш пол до конца не определен. Мне хотелось не столько оказаться «одной из них», сколько получить от этого удовольствие. А когда механика полового влечения прояснилась, я слишком хорошо осознал, к чему тянусь. Девичьи лица в моей тетрадке теснили все остальное. Соки бежали по жилкам. Амбивалентные и незрелые юнцы и юницы, мы провели три года в одном и том же помещении, безучастные друг к другу как анемоны на мокром камне. Нас будоражил прилив. Запах носился в воздухе, стекал с губ кинокрасоток. Мы поглядывали на противоположную половину класса, выискивая среди этих живых и реальных созданий намеки на те свойства, что заставили сойти лавину фильмов.
Ну а если б мисс Прингл обладала добротой и притягательностью Ника? Молитва и созерцание остудили бы лихорадочный жар? Красота святости одержала бы верх над дешевыми духами и мерцающими, выдуманными лицами? Взялся бы я изображать все девять ангельских чинов?
Филип вообще не умел рисовать. На таких уроках он присаживался рядом, и по негласному уговору я быстренько выполнял его задание, после чего брался за мое собственное. Мисс Кертис, обучавшая нас старая дева, была женщиной благоразумной. Предпочитала не будить лиха, хотя и понимала, что творится кругом. То утро, что пришло сейчас мне на память, было ничуть не более примечательным, чем наша учительница – и все же именно она приободрила меня и этим расположила к себе. Мы рассаживались кружком, и в его центре ставили конус или шар на постаменте, порой моделью служил стул, порой скрипка – а иногда и всамделишная натурщица.
Так вот, в то утро нам позировала девушка, которую я немножко знал. Обычно она сидела с противоположной стороны класса, возле задней стены. Тихая как мышка. Я решил, что не буду ее рисовать, а вместо этого набросаю-ка лучше человечков, осаждающих средневековый замок. Но Филип ткнул меня в бок. Я взглянул на девушку и парочкой линий с растушевкой изобразил ее на бумаге. После чего вернулся к штурмовым лестницам.
Мисс Кертис взялась прохаживаться между партами. Я спустя рукава принялся набрасывать эту натурщицу. За моим решением не работать над предложенной моделью стояло, пожалуй, что-то необычное. Кто знает, может, я видел ее другими глазами или припомнил будущее? Пытался увильнуть от уготованной мне судьбы?
– Филип Арнольд? Ого!
Мисс Кертис стояла у нас за спиной, и мы синхронно обернулись.
– Да ведь это просто замечательно!
Она подалась вперед, взяла лист и скорым шагом направилась к доске. Все мальчики и девочки откинулись на спинки стульев и взглянули вверх. Натурщица покашливала и смущенно ерзала, пока мисс Кертис подробно разбирала рисунок. Филип сиял, а я досадливо грыз карандаш. Снова подошла мисс Кертис.
– Достаточно, Арнольд. Теперь просто подпиши.
Филип ухмыльнулся и черкнул свое имя. Мисс Кертис обратила на меня сияющий взгляд; на ее щеках играли ямочки.
– Если бы это было твоей работой, Маунтджой, я, пожалуй, сказала бы, что со временем из тебя выйдет настоящий художник.
Она отошла с легкой улыбкой, а я в изумлении уставился на осиротевший портрет. Вот так номер! В своей небрежности я до того удачно поместил девушку на бумагу, что результат побил все мои прежние, трудолюбивые корпения. Линия бежала весело, свободно, властно. Каким-то маленьким чудом делала дополнительные намеки, так что глаза зрителя сами воссоздавали девичьи руки, хотя мой карандаш над ними и не работал. В стремительном, вольном беге линия сотворила ее лицо, истончилась и оборвалась там, куда был открыт доступ лишь воображению, но не карандашу. Ошеломленный, возгордившийся, я перевел взгляд на оригинал.
Позади девушки, на стене, были вывешены яркие, цветастые репродукции – танцовщицы Дега, кое-что из итальянской архитектуры в стиле рококо, палладианский мост, – но своим присутствием она заняла их место и утихомирила крикливость. Яйцеклетка и сперматозоид постановили: да будет женщина, и этот знак отличия наполнил ее до мозга костей. Один из ее пальцев, оказавшийся на пути солнечных лучей, просвечивал насквозь – как, наверное, и вся ладонь. Мне была доступна хрупкость ее скелета, височные впадинки напоминали изнанку цветочного лепестка. Я видел – давайте-ка я буду точен там, где точность невозможна, – итак, я видел в этом лице нечто неподвластное словам или карандашу. Скажу вот что: в моих глазах она была прекрасна. Ее лицо вобрало в себя и выражало всю сумму невинности без малейшей примеси глуповатости, вкрадчивость женственности, лишенной болезненной эротики. И еще я скажу, что пока эта девушка там сидела, уронив руки на колени, залитая светом из высокого окна, она была самодостаточна, покорна и сладостно нежна. А теперь знайте, что ничто из сказанного даже близко не подходило к описанию сидевшей перед нами натурщицы. Лишь я один, обращаясь сейчас, через пропасть целого поколения, к призраку Ника Шейлса и дряхлому силуэту Ровены Прингл, могу заявить: в ее лице, вокруг свободной линии ее бровей я видел метафорическое сияние, которое, тем не менее, казалось мне объективным явлением, реальностью. С каждым новым мигом она вызывала все большее изумление, превращалась в вопрос, в выраставшую на моем пути гору. Еще до окончания того первого урока я вполне мог сказать себе, что она всего лишь девушка со светлыми волосами и довольно милым выражением лица, но даже тогда я понимал, что все намного сложнее.
Насколько велико чувство? Где начинается и заканчивается боль? Мы живем как кривая вывезет, сталкиваясь с ситуацией, в которой приходится исполнять уже начатый танец. Я и раньше говорил, что наши решения продиктованы не логикой, но эмоциями. Мы обладаем разумом и при этом иррациональны. Сейчас-то легко пускаться в мудрствования на ее счет. Если я узрел тот горний свет, отчего же он не стал противовесом рационализму Ника? Но моя натурщица была из плоти и крови. Ее звали Беатрис Айфор, а помимо неземного выражения лица и нимба святости она обладала еще и коленками, иной раз обтянутыми шелком, и юными бутонами, вздымавшими ей блузку при каждом вздохе. Она принадлежала к числу тех редкостных девушек, которые никогда не бывают гадкими утятами, а, напротив, вечно отличаются грациозностью и большей уравновешенностью в сравнении со своими сестрицами. Они становятся ослепительным противоречием. Их неприкосновенные, безмятежные лики суть ангелы благовещения, и все же в их походке проглядывает та самая канатоходческая манера держаться, которую отец Штокчем назвал бы Нечистыми Помыслами. Она была застенчиво-скромной без нарочитости. Напоминала всех прочих своих товарок тем, что сама была девушкой, но я видел в ней нечто уникальное, хотя в чем это выражалось, объяснить не могу. Чего-то в ней было гораздо больше… Она была неприкосновенной и недоступной. Происходила из семьи респектабельных торговцев, а теперь, когда уже рушился известный барьер, разграничивающий средний класс, когда течения отсортировывали нас на типажи, группы и временные парочки, она так и оставалась отсутствующей и невозмутимой. Никто бы не дождался от нее хихиканья или дружеской подначки. Ее глазищи, светло-серые и прозрачные, смотрели из-под длинных ресниц в никуда, на что-то невидимое, подвешенное в воздухе. Теперь я страстно покрывал листы ее профилями, однако сходство упорно ускользало. Мне так и не удалось воспроизвести ту вдохновленную легкость, что пришла благодаря удаче и безразличию. Все же мой шедевр лежал перед глазами, и Филип Арнольд уже накорябал свое имя в правом нижнем углу. Мисс Кертис нашла возможным позабавиться этой ситуацией. Когда сей похищенный – или, если угодно, добровольно подаренный – портрет занял горделивое место на призовом конкурсе, она вылезла вон из кожи, расточая похвалы. Я достаточно долго негодовал, но затем мисс Кертис как бы невзначай обмолвилась мне, что там, откуда взялся этот рисунок, есть еще много чего другого. Но к моему ужасу и беспрерывному разочарованию я никак не мог переложить Беатрисину суть на бумагу, сколько бы ни тщился изучить эту девушку. Она была приятно удивлена портретом и подарила Филипу намек на улыбку, пронзивший мое сердце. И мне настала крышка. Ее нельзя было обойти, от нее некуда деться. Я оказался во власти маниакального влечения. Не знаю как, но я был обязан вновь изобразить ее со всем блеском – и это требовало серьезного изучения. Увы, от серьезного изучения объекта я лишь ослеп. Беатрис была пугающе важна, но когда дверь за ней захлопнулась, я не смог вспомнить ее лицо. Я не уловил ту особенность ее бытия, что придавала ей неповторимость. Я ее попросту не помнил. Оставалось лишь страдать. А потом, когда она появилась снова, мое спотыкающееся сердце увидело красоту, которая столь же юна, как и заря мира. Мой фантазийный мир был щедр на мечты. Я хотел спасти ее от чего-то насильственного. Она блуждала по лесу, а я ее отыскал. Мы спали в дупле, она лежала в моих объятиях, такая близкая, уткнувшаяся лицом мне в плечо. А вокруг ее райских бровей струился свет.
Так, а теперь взглянем-ка, был ли возможен иной результат. К кому мог бы я заявиться с подобными излияниями? Ник с ходу отмел бы в сторону этот свет. Мисс Прингл добилась бы моего исключения из школы, опасаясь за своих квелых ябедниц. Рассказать Штокчему? Так ведь к этому моменту все в нем поблекло, включая колени. А раз ситуация по необходимости оставалась неизъяснимой, страдание было неизбежным и при этом бессмысленным. Беатрис-то ведь не замечала никакого света в моем лице. Приливы моей страсти и обожествления бились об ее отвернувшуюся щеку, и она никогда не оглядывалась. Я не мог сказать ей «я тебя люблю» или «а ты знаешь, у тебя лицо светится?» В отчаянной попытке вступить хоть в какой-нибудь контакт я стал паясничать и кривляться. Словно со стороны слышал свои глупые и грубые остроты и при этом был готов лобызать ей ноги.
Вот тогда-то она наконец меня заметила, лишь для того, чтобы подчеркнуто оставлять без внимания, и я провалился в геенну. Щенячья любовь не хуже и не крепче любви взрослого, но она ничуть и не слабее. Она всегда безнадежна, раз уж мы приходим к ней с подветренной стороны экономики. Сколько лет было Джульетте?
Беатрис жила в нескольких милях от города и в школу приезжала на автобусе. Этот участок ландшафта приобрел существенное значение; любой факт о нем представлялся мне насущным. С ободранной кожей и новым знанием жизни я накручивал спирали вокруг ее поселка и вновь в испуге отступал. Что за тайны прятались за ее белым штакетником, я сказать не мог, однако ощущал их присутствие. Внутри и вокруг меня шла эмоциональная жизнь, странная как динозавры. Я ревновал Беатрис не только из боязни, что кто-то ее отобьет, но и потому, что она была девушкой. Ревновал ее саму к ее же существованию. А наиболее жуткое и отчетливо переживаемое чувство говорило: ну убьешь ты ее, так она от этого только силы наберет. Раньше меня пройдет сквозь врата и узнает то, чего я не знал. Жизненный прибой потемнел, повеяло штормом. Седой, разваливающийся человек в пастырском доме думал лишь про свою монографию о пелагианстве[22]22
Учение британского монаха Пелагия (ок. 360 – после 418 гг.), распространившееся в Средиземноморье и признанное ересью еще в V веке. Отрицало наследуемую силу первородного греха, принцип благодати и детерминированности поведения, утверждая, что спасение человека зависит от его собственных нравственно-аскетических усилий.
[Закрыть]. Теперь, когда я приближался к нему, он уже не вздрагивал от повеявшего холода могилы, потому как стоял на ее краю. Что нас с ним связывало? А прочие взрослые в моем окружении – отчужденные и величественные, как истуканы с острова Пасхи, – мог ли я рассказать им о моем аде и впустить их внутрь? Да я и сегодня едва ли могу говорить о нем самому себе.
И вот в этом выгоночном питомнике я попытался принять решения насчет мира. Днем и ночью меня преследовал ужас, повседневно и повсеместно поминаемый непечатным словом. Внутри меня находился колодезь, откуда временами выплескивала потребность и неизбежность в самовыражении. Сейчас я умел с ходу, стремительной линией изобразить любое человеческое лицо – кроме одного, которое не удавалось вспомнить, – и сходство чуть ли не прыгало в глаза. Я даже решился обходным путем пообщаться с Беатрис. Подготовил для нее рождественскую открытку, которую рисовал с безнадежной заботливостью отчаяния, прорабатывая крошечные детали, после чего вновь рвал на клочки и упрощал с таким страстным напряжением сил, что махом проскочил сквозь всю историю изобразительного искусства, сам того не понимая. Багрянец и краснота превращались в летучие формы, в которых с громадным трудом выживало сине-белое нечто: бывшая, ныне расквашенная звезда. Черный, иззубренный зигзаг по центру моей картинки был профилем Беатрис, некогда выписанным с буквалистской, мертвой точностью, а теперь признавшем собственную символическую сущность. Позади сей варварской трещины в обыденности неописуемой мешаниной схлестывались лавины красок. На что же я рассчитывал? Думал, что два материка способны общаться между собой на таком уровне? Неужели я не понимал, что напору моего прибоя не под силу всколыхнуть ее тихую заводь? Лучше б я набросал пару слов на бумаге: «Помоги мне!» И все ж после этих мучений я отослал ей свою открытку, не подписавшись – странное, причудливое, исполненное гордыни противоречие! – ну и, разумеется, никакого отклика не воспоследовало.
Половое влечение, изрекаешь ты; а теперь, сказав это, где же мы очутились? Совершенство космоса мисс Прингл вышло ущербным из-за ее собственной стервозности. Приземленность вселенной Ника была озарена его любовью к людям. Зов пола властно толкал меня сделать выбор и узнать. Однако ж я выбрал не материалистическое мировоззрение, а Ника. По этой-то причине истина представляется недостижимой. Я знаю собственную непоследовательность, потому как внутри забрезжила вера в рациональное, для которой у меня не было оснований ни в логике, ни в раздумчивом созерцании. Стены нашего дома образуют люди, а не философские системы.
Из алогично перенятой системы Ника я, однако, сделал вполне логичные выводы. Нет ни духа, ни абсолюта. Стало быть, вопрос о том, кто прав и кто нет, решается парламентарным путем, типа запрета на азартные игры или продажу спиртного после половины одиннадцатого вечера. Но с какой стати сидящий возле своего колодезя Сэмюэль Маунтджой должен следовать решению большинства? Отчего бы ему не дать добру свое собственное определение? Ник и не подозревал, что его этические взгляды перешли к нему от отца, сапожника-праведника. Из натурфилософии можно вывести лишь безнравственность, но отнюдь не нравственность. Запасы оптимизма и доброты, накопленные девятнадцатым столетием, иссякли, не успев меня достичь. Я трансформировал непорочный, бумажный мир Ника. Мой мир был аморальной, дикарской ловушкой, куда безнадежно загнали человека, которому оставалось довольствоваться лишь тем, что есть и покуда можно. Но коль скоро я пишу все это для того, чтобы себя понять, а не ради самооправдания, надо присовокупить и те осложнения, из-за которых моя повесть вновь превращается в гиль. В ту самую секунду, когда я было решил, что добро и зло – понятия чисто номинальные и относительные, я почувствовал, увидел красоту святости и ощутил во рту вкус зла, подобный блевотине.
В год возмужания нам был преподан урок половой жизни, и поскольку в него были вовлечены те, кем мы отчасти восхищались, я вообразил, что теперь все понял. Мисс Мэннинг учила нас французскому. Ей было лет двадцать пять; флегматичная, сдобная женщина с копной смоляных волос и ярко-пунцовым ртом. Учить-то она нас учила, но так, словно при этом думала о чем-то отвлеченном. Порой она по-кошачьи потягивалась и медленно улыбалась, как если бы находила и нас, и классную комнату и собственно обучение милыми, но в то же время смехотворными. Создавалось впечатление, что в каком-то ином месте она могла бы преподать нечто действительно стоящее, и я не сомневаюсь, что так оно и было. Нас, мальчишек, приятно будоражил клиновидный вырез между синими отворотами ее жакета, и округлые, шелковые колени, потому что то была эпоха коленок, и имела место известная конкуренция за стратегически расставленные парты, а мисс Мэннинг, как я понимаю, об этом не могла не догадываться. Она никогда не возмущалась, но и особой помощи тоже не оказывала. Словно все время говорила себе: ах, уж эти несчастные, ломкие девочки и не теряющие надежды прыщавые сорванцы! Потерпите, ребятки: вот-вот отомкнутся двери, и вы покинете этот питомник. Да и в самом деле, мисс Мэннинг была слишком привлекательной особой, чтобы вкладывать душу в работу.
Привлекательной ее находил и мистер Кэри. Мы считали, что все его существование было обусловлено двумя причинами, регби и латынью, однако сейчас убедились, что он делил с нами общий образ. Если во время проводимой им тренировки возле боковой линии появлялась мисс Мэннинг, его – как и нас – тут же охватывало стремление показать верх молодцеватости. О, с каким пылом мы кидались в драку за мяч! И до чего парящим, легким и нисколечко не вдохновленным присутствием мисс Мэннинг становился наш бег, когда мы устремлялись к центру поля, занимая места перед вводом мяча в игру! Но и мистер Кэри брался за нас всерьез, а заодно демонстрировал свой коронный номер, швыряя мяч настоящей торпедой, проскакивавшей мимо форвардов до зачетного поля и способной принести сразу три очка. А вообще-то столь бурная деятельность мистера Кэри несколько озадачивала, раз уж у него имелась жена с младенцем. Мужчина он был мясистый, светловолосый, краснолицый и потливый… а может, все дело в регби, хотя моя память утверждает, что он и впрямь постоянно потел. Раньше он преподавал в небольшой частной школе, а его латинский значительно уступал навыкам в регби. Получить место ему, несомненно, было бы нелегко, кабы не одно обстоятельство: наша школа только что переключилась с футбола на регби, так что с нами ему серьезно повезло. Мисс Мэннинг, однако же, зачастила к нашей площадке, тщательно следя при этом, чтобы не перемазать туфельки. Ах, с какими смешками и заботой помогал ей мистер Кэри обойти особенно пачкотный клочок поля! Игра при этом останавливалась, а он вился вокруг мисс Мэннинг, хохоча во все горло и изрыгая тучи пара в ноябрьский воздух. Демонстрировал ей мужественное великолепие цветов своего клуба, а она отзывалась ему томной улыбкой.
Смотрителем в нашей школе подвизался отставной солдат-пропойца, гонявший нас с газона, покамест мы были маленькими, и ведший с нами беседы «за жизнь», после того как нас обметало прыщами. Как раз неподалеку от школы имелась пивная, и когда он возвращался после обеденного перерыва, первыми о его приближении, словно королевские герольды, возвещали спиртные пары. Он разглаживал седые, армейские усы и принимался рассказывать о бое с вражеской конницей, который он принял с дистанции в две тысячи ярдов; демонстрировал шрам, полученный во время службы на северо-западном рубеже. Чем больше он потреблял пива, тем воинственней становился. Этот подъем боевого духа шел параллельно приросту раздражительности. Обычно он возражал против мазей и губной помады, а прилично набравшись, объявлял противоестественными короткие юбки в парламенте. Круглые, вихрастые, «мальчуковые» дамские стрижки – хотя, по-видимому, отнюдь не наголо бритые черепа – искушали Провидение и являли собой одну из причин разложения нынешней армии. Он был приверженцем штыка, мистера Болдуина[23]23
Стэнли Болдуин (1867–1947 гг.), премьер-министр Великобритании, консерватор правого толка. Политика подавления рабочего движения, разрыв дипотношений с СССР (1927 г.), попустительство экспансии фашистской Германии.
[Закрыть] и в целом подхода «нечего тут миндальничать».
В то время, ноябрьское время с его короткими деньками, промозглостью и слякотью, его мучило беспокойство. Что-то такое не шло с ума. Косноязыкий от пива, изливающий желчь в наши увлеченные лица сквозь усатый рот, желтушные глаза и фыркающие, испещренные венозными прожилками ноздри, он давал понять, что если б позволили ему сказать хоть слово, наши матери перевели бы нас в местечко почище. Есть такие вещи, о которых молокососам знать еще не пристало. Так что нечего лезть с расспросами, Маунтджой. Ясно?
Его до того распирало желание проговориться, что мы сами завелись и в лихорадочном возбуждении пустились строить домыслы и предположения. Так просто ему не отделаться. Наши крылышки коснулись этого меда и увязли. Мистер Кэри и мисс Мэннинг были нашими Адамом и Евой, сексом во плоти. Это волнение носило чисто мужской характер, утаивалось от наших незрелых девчонок, было знанием, колдовским блеском, жизнью. В большую перемену учителя дежурили, присматривая за учениками: мужчина за мальчиками, женщина за девочками – но кто же усторожит самих сторожей? И разве удивительно, что наш Бенджи, проверявший школьную котельную или что-то в этом духе, наткнулся на них, сам оставшись незамеченным? Но в том-то и дело, что сейчас у него на руках оказалась этическая проблема. Что делать? Поставить в известность начальство? Вот что не давало ему спать и толкало к выпивке. В чем состоял его долг? Сказать или не сказать?
Похоже, имелся лишь один способ вкатить сизифов камень этого кризиса на гору. «Да! – заорали мы, побуждаемые добродетелью даже более сильной, нежели у нашего смотрителя, – ну конечно, рассказать!» В конце концов, только этого не хватало, кричали мы, упиваясь собственной добродетелью и возбуждением. Мисс Мэннинг! Сдобная, сочная мисс Мэннинг! И мистер Кэри, распалившийся и краснорожий!
Когда Бенджи наконец-то решился, пятеро из нас прокрались вслед за ним. Затаились в пустынном коридоре, а он постучал в дверь кабинета и вошел. Прошло минут десять, ожидание затягивалось, но у нас не хватало смелости притаиться под дверью и подслушать. Но вот она распахнулась, показался Бенджи; пятясь задом, с кепкой в руках, он продолжал разглагольствовать. Тут вышел и директор, пытавшийся его урезонить. Но Бенджи громогласно кипел от негодования:
– Да я сто раз готов это повторить! По мне, будь они хоть женаты, все равно хуже не придумаешь!
И тут директор нас заметил. Думаю, он отлично понимал, отчего мы сюда заявились и чем именно интересуемся. Я по крайней мере ожидал, что он на нас наорет, однако ж директор промолчал. Просто стоял с понурым видом, словно потерял какую-то вещицу. О, наш директор был далеко не дурак. Он знал, когда про скандальную весть можно забыть, а когда она успела облететь слишком много ушей.
Все оставшиеся дни мистер Кэри и мисс Мэннинг были для нас наиболее любимыми и достойными восхищения преподавателями. Не просто учителями: они достигли статуса настоящих взрослых – тех, кто грешит. Сделались нашими кинозвездами. Сидя у ног мисс Мэннинг, мы внимали ей самозабвенно, как если б она заботилась о нас настолько, что была готова поведать все тайны жизни. Чего бы она ни сказала, мы бы все приняли на веру, и в этом кроется очередное противоречие. На ее последнем уроке мы следили за ней, затаив дыхание, лишь бы увидеть наконец хоть какой-то признак, след пережитого опыта. Но копна смоляных волос, клиновидный вырез, медленная томная улыбка и широкий пунцовый рот оставались прежними. Шелковые колени ничуть не изменились. Один раз она помассировала свою ногу, начиная с колена, ведя рукой сверху вниз, вытянув голень и оттянув носок, пропуская шелковую змейку сквозь полусомкнутую ладонь, пока не стало казаться, что она способна до такой степени обузить свою ножку, что сможет продеть ее сквозь колечко. Тут урок подошел к концу, мы встали, и она отпустила нас фразой, звучащей странно в устах человека, которому предстоит исчезнуть навсегда:
– Eh bien, mes amis, au revoir![24]24
Что ж, друзья мои, до свидания! (фр.)
[Закрыть]
Итак, они ушли – и тот и другая, – и учительский штат вновь стал серым и тусклым. Мир на несколько дней сделался невыносимым для мисс Прингл: голова запрокидывается, звучат горестные вздохи, однако когда я решил было воспользоваться ее якобы рассеянностью, она обдала меня яростью, словно языком пламени из паяльной лампы. Ник же отреагировал иначе. Подвел меня в первый и последний раз в своей жизни. Я набрался смелости и задал ему осторожный вопрос насчет секса и так далее, понукаемый собственными фантазиями, размышлениями о мисс Мэннинг и Беатрис, желанием сделаться девочкой и опасениями, что этим я сам себя гублю.
Ник резко меня оборвал. Затем заговорил, багровея лицом и не отводя глаз от кипевшей в колбе воды:
– Я верю лишь в то, что могу пощупать, увидеть, взвесить и обмерить. Но если бы человека изобрел сам дьявол, даже он не смог бы сыграть с ним более грязную, мерзкую и позорную шутку, наделив половой жизнью!
Вот оно что. «Будь они хоть женаты, все равно хуже не придумаешь!» И хотя я заработал очки среди своих приятелей, заявив, что Бенджи ошибся, надо было сказать «…лучше не придумаешь», я все-таки взял падшего ангела на заметку. В моем чрезмерно восприимчивом уме секс рядился в роскошные цвета, сияющие и зловещие. И тем самым я угодил в искрящуюся сеть подобно тутовым шелкопрядам, когда они в кишащем рое бьют друг дружку гибкими тельцами и извергают розовый мускус соития. О мускус, постыдный и пьянящий, стань моим благом. Окропи Беатрис, которая ничего об этом не знает, ничего об этом не думает; замкнутую и невозмутимую Беатрис, отделенную многими годами от будущего и полуневозможного соития, да еще с другим мужчиной. И если человек всего лишь животное, то мускус должен стать моим благом, раз уж он есть образцовое мерило для всех животных. Тот самец воистину велик, кто держит самое большое стадо для себя одного. Не надо говорить нам, что мы – высшие животные, и после этого ожидать от нас одну лишь пылкую преданность молодняку, стадный инстинкт, наивно рассудив, что жеребец-производитель не станет воинственно лягаться. Что же касается светового нимба по-над бровью, свечения нескончаемого утра в лоне Авраамовом, так это все иллюзия, побочный эффект. Не обращай внимания. Забудь, если сможешь.
Вот так я продвинулся в мир парней, где обитали Меркуцио, Валентин и Клавдио, и счел вменяемый мне грех за повод изобрести преступление, соразмерное с наказанием. Я виновен, следовательно, буду грешить. А ежели не смогу подыскать гениальных преступлений, то хотя бы навру, что приложил к ним руку. Вина предшествует преступлению и способна толкнуть на него. Мои притязания на порок были байроническими, и Беатрис делала вид, что ничего не замечает.
А затем пришло время мне уходить. Беатрис решила поступать в педагогический колледж в Южном Лондоне, где из нее сделали бы учительницу. Я же нацелился на художественное училище. Четко сформированного желания преуспеть я не испытывал. Попугайничал броскими партийными фразами, потому что в тогдашнем обществе человек питал иллюзию перманентной свободы, антитезы свободе монастырской. На прощание мы получили свою порцию напутствий. Отчего-то построив фразу на церковный лад, Ник сказал мне: «А если длань твоя найдет себе занятие, яви всю силу мышцы своей».
Почти то же самое сказал и директор, хотя на это ушло больше времени:
– Готов в путь-дорогу, Сэм?
– Да, сэр.
– Пришел за словами мудрости?
– Я уже попрощался со всеми остальными.
– Совет – штука опасная; а вдруг ты его запомнишь?
– Сэр?
– Присядь-ка на минуту, мальчуган, и не ерзай. Вот так. Покуришь?
– Я…
– Взгляни на свои пальцы и не выдумывай. А пепел вон в ту урну.
Внезапный, необъяснимый порыв.
– Хотел бы за все поблагодарить вас, сэр.
Он отмахнулся сигаретой.
– Что же мне тебе сказать? От Гнилого переулка ты уйдешь далеко.
– Спасибо отцу Штокчему.
– В какой-то мере.
Он вдруг обернулся к мне всем корпусом.
– Сэм. Мне нужна твоя помощь. Я хочу… понять, чего ты ищешь. О, ну конечно, я все знаю насчет партии, это продлится годик-другой. Но для тебя лично… ты ведь художник, прирожденный художник, хотя один бог ведает, отчего или как так вышло. Столь явно одаренных я еще не встречал. И все же эти портреты… разве они тебе не важны?
– Пожалуй, нет, сэр.
– Но ведь… неужели для тебя нет ничего важного? Нет-нет, постой! Оставим партию в стороне. Здесь и толковать не о чем. Я, Сэмми, придерживаюсь умеренных взглядов. Но вот лично для тебя… И впрямь нет ничего важного?
– Не знаю.
– У тебя талант, и ты даже не задумался, важен ли он? Послушай-ка… Нам ведь не надо больше притворяться, верно? Ты настолько выделяешься своим исключительным талантом, как если бы родился шестипалым. Мы с тобой это прекрасно понимаем. И я тебе вовсе не льщу. Ты бесчестен, себялюбив и… и так далее. Согласен?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































