Текст книги "Собачий царь"
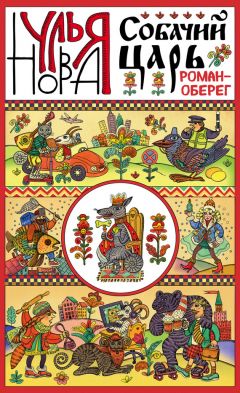
Автор книги: Улья Нова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Глава 3
Тармура
Дорога – оброненный поясок – лежит среди лесов. А чего ж не слыхать ни рёва шоссейного, ни голосов? Да откуда взяться шуму тревожному в глуши таёжной… Далеко впереди смыкают хоровод черно-бурые ели. Позади, уронив головы друг дружке на плечи, тихонько напевают сосны-громилы. Белая «Чайка» по той дороге летит, жемчужными боками со скупым солнцем перемигивается.
А кто в той авто мчится, в тарахтящей? Кто в «Чайке» с примятым крылом, с выбитым задним фонарём с утра пораньше тревожит чащи? Так, ничего особенного, сидит за рулем нахохленный филин: перья торчком, нос крючком. Уши седые навострил и синими глазищами от капота до самого горизонта на дорогу скучает. Нечем поживиться среди лесов. Пролетает стороной обочина: камешки, стекляшки, чубчики травы. Бросается под колёса мокрый с ночного дождя, морщинистый асфальт. Один и тот же уж многие вёрсты.
Только филин – это так, первое впечатление. Со второго взгляда проясняется: управляет «Чайкой» дед доисторических лет. Руки на руль уронил и, видно, про них забыл. Испещрены те руки морщинами-трещинами. Вены сквозь кожу глаголицей проступают. Чинно катит старец, с самомнением, словно за великие дела знаменит. Пушистые его волосы бережно гребнем расчёсаны. Да и борода хоть куда. А глаза у него тревожные, с холодком, будто небеса поздним вечером, после дождя. Казалось бы, чего старику горевать? Развалился в овчинном тулупе, тепло, уютно ему едется. Тарахтит равномерно двигатель. И прохлада осенняя рябиновая в салоне гуляет. Вот ворвался в щёлку бокового окна придорожный Вихорь Вихорович, укутанный в клочки ясного голубого неба. По-приятельски распушил дедовы волосы, бороду перистыми космами растрепал. Пылают щёки впалые, блестят глаза синие, но улыбка на губах не наметилась, борозда меж бровей не расправилась.
Обступили шоссе синие леса. Столпились у обочины сосны: человек в их гущу силой не протиснется, ветер с разбегу не ворвётся. Такая тишина: слышно, как облака ползут да птицы на верхушках елей качаются. Тут бы ехать и мечтать, песни распевая, а старик будто полыни поел. Уж и тулуп ему мешает, удушил до потери сознания, до семи потов обогрел. Мигом верхняя пуговица, словно репа, с ниткой вырвана. Остальные, напугавшись плачевной участи, сами вылезли из петель. Кое-как освободился дед из тулуповых оков, выпотрошил себя из овчины, но радость в глазах не блеснула. Тот же пасмурный день на его лице. Теперь не дает ему покоя зеркальце боковое. Лес в нём, что ли, кривой? Может, ветками оно исцарапано? Сорокиными слезами заплакано? От моста через спящую речку беспощадно осыпает его старец щелбанами да затрещинами.
С дедом вместе волнуется Вихорь Вихорович. Кружит под потолком, песенку весёлую напевает, никак не может понять: что за неприятность стряслась, какая горечь старика извела. Томится от любопытства Вихорь Вихорович, места себе не найдёт: то на кресле переднем растянется, то на заднем сиденье развалится. Оскорблённый невниманием, бормочет себе под нос такие слова: «Неприятности косолапые ждут в дороге, если кто катит по ней сердитый».
Пропуская нехитрые речи мимо ушей, мчится отчаянный старец наперегонки с белыми щекастыми облаками. Всё решительнее сжимает в кулаках скрипучий обод руля. Может, гложут его сомнения изнутри, но на лице заносчиво натянуто объявление: «Обождите, ещё сказочке на том не конец». А чего ж он тогда по обочине рыщет, беспокойно сосенки придорожные оглядывает, словно где-то здесь шапку бобровую обронил или сумку с паспортом потерял?
Долго дулся дед, охал, сопел. Наконец не выдержал: будто рублём одарил, словно прутом огрел, – заговорил. Точнее сказать, в бороду запыхтел: «Сколько я себя помню, Вихорь Вихорович, а память моя ряской не затянулась и бурьяном не заросла – много лет поздней осенью завожу свою «Чайку» белую и отправляюсь по оврагам, по кочкам, по жухлым цветочкам наугад в Залесскую сторону. Долго прыгает-скачет моя «Чайка» по корням и ухабам, прежде чем на прямую дорогу выкатить. Каждую осень путешествую без происшествий, об каких-нибудь напастях и не думая…
Ты ещё молодой, под облаками носишься, а я частенько к земле опускаюсь и вот что скажу: многие дороги врут. Им бы только петлять да вилять, путника вдаль зазывая. Заслушаешься на ихний гам и едешь как дурак в овраг. И всё же редко, но попадаются дорожки молчаливые, которые без обмана под листопадом вьются. Если поискать, встречаются стёжки тихие, хворостом и ветками заваленные, они куда надо ведут, не лукавя.
Не придумано средства, чтобы честные тропинки от поддельных отличить, – перепутаны они, перекручены, тридцать три раза заблудишься, если не сумеешь их развести-расплести. Хорошо, когда сердце подскажет, а иной раз молчит оно, как затянутая тучами луна, или причитает, ничего понимать не желая, будто сварливая баба. И всё ж на своем веку редко я в тропинках путался, болтовнёй их ни разу не заслушался. Выбирал тихую, кроткую, которая поскромней, вот и ехал по ней.
Как поеду по честной тропинке, никуда не сворачивая, приведёт она к деревеньке из трёх домов да из трёх кривобоких хлевов. Здесь, в погребе без окон, без трубы прозябает моя беззубая сестра Тармура. У неё один глаз в будущее глядит, а другой молчит, льдом затянутый. Днём спит сестрица на земляном полу. Нечёсаная, замаранная – совестно и больно глядеть. Ночью скитается Тармура в худых галошках по лесам, собирает в мешок всякую чепуху: пёрышки, паутинки, одуванчиковые пушинки. Синие и фиолетовые, свинцовые и медовые и ещё разные другие вечера коротает она под чужими окнами, со всех сторон напоминая пугало огородное. Разговоры соседей подслушивает, иногда тихонько хихикнет, позвонками захрустит, дёснами беззубыми забренчит. А люди пугаются. Прикладывают ко рту указательные пальцы. «Тихо ты, – говорят, – беда под окном шуршит, – говорят, – хворь у двери сопит». Мнительны ведь люди в своём большинстве.
Запугав соседей основательно, подбирает Тармура на чужих дворах стружки, опилки, всякую шелуху – в тот же самый заплатанный мешок, который я терпеть не могу…
Как заеду к ней на чай, первым делом даю нагоняй. Всю дорогу себе клянусь, что не стану серчать. Сказочное терпение запасаю. Но только в погребок тесный загляну, уносятся тёплые чувства гусиным клином в дальние края. Стою в дверях, словно лимон без сахара прожевав.
В первую очередь мышами пахнет, убежать хочется. Холодно и темно у сестрицы в погребе, не обо что здесь взгляд порадовать: скользкое всё, болотистое. А добро-то как обветшало с прошлого раза: заваленный тряпицами стол отсырел, почернел. Хромой буфет жучком подточен – облокотиться боишься. Прилепилась мебель горемычная вдоль сырых стен, будто престарелые улитки. А посерёдке немудрёного жилья раскинулся колючий ковёр – мох «кукушкин лен».
Действует мое появление на Тармуру как ведро воды колодезной. Просыпается она от сна наяву. Чувствует: врасплох застигнута, но надеется, что на этот раз пролетит ураган стороной. Суетится вокруг меня сестрица. В щёчку целует – усом щекочет. Крепко обнимает – рукавом чумазым новый тулуп марает. Про дорогу, про погоду выспрашивая, сладкими словами старается заболтать-обаять. А я, как снеговик в пургу, на пороге стою, потихоньку от злости леденею.
Воровато по сторонам оглядевшись, прозревает Тармура, что эдакую быль небылицами не прикрыть. Чувствует: сердцем уязвлённым скулю. Догадывается, что пылаю про себя синим пламенем, дымлюсь на всю округу сухим льдом. Курицей-нептицей встрепенувшись, к состраданию взывает Тармура. Ох и мастерски прихрамывает она на обе ноги! Изверг бесчувственный и тот бы смягчился, а я брови сдвигаю. Просыпается тогда у старухи в спине прошлогодний радикулит, набухает на щеке флюс десятилетней давности, а костлявые ладошки, как осиновые листы на ветру, дрожат. Уже в дальнем углу погребка камень от жалости горючими слезами хнычет. Причитает Тармура, а сама украдкой следит, не удалось ли сурового гостя разжалобить. От натуги в уголке её мертвого глаза вспыхивает чего-то, издали на разум похожее. Разглядев, что смягчить меня не удалось, ещё пуще волнуется сестрица. Ивовым прутиком пол метёт, а крошки – в лукошко. Замрёт в уголке, умницей прикинется, патлы нечёсаные в косу собирает, в спешке сваленные лохмы и клочки выдирая. А выходит у неё на голове копна с приподкопёнком, больше ничего.
«Обожди, братец, с дальней дороги остынь, – кивает туда, где лавка когда-то стояла, да вот сгнила, а теперь белая уродица-трава тянется тонкими стеблями к потолку, – я сейчас на стол соберу». Шепелявит, громыхая горшками да мисками. Это всё известная хитрость. Мне ль не знать, что миски у неё все дырявые. В горшках живут пауки. А в каждой кастрюле по три мыши заснули. Трепещу, на такое усердие глядя. Жалит ум дрянная догадка: лучше бы ехал по лживой дорожке и Тармуру безмозглую не тревожил.
А между тем сердце-моё-не-камень удивляется: как же с прошлого раза скрючилась Тармура, посерела, постарела. Руки у неё дрожат, а взгляд испуганный и тусклый, скажешь, мухоморов поев, ждёт старуха каждый миг колик. Будто одинокую сосну на лугу в предчувствии грозы, терзает меня печаль. Ноет моё сердце, жмёт, грудь горячим углём жжёт. Начинаю нехотя сердцевым стонам уступать, почти оттаяв, замечаю, что вставную челюсть где-то в лесу обронила сестрица. Вмиг терпение потеряв, себя не узнаю: серчаю, ворчу, волком из угла в угол сную. Не особенно выражения подбирая, первое применяю, которое под руку попадётся. Словно блюдца, выхватываю слова из ума. И со всей силы: уть! Через крапиву в овраге прокладываю путь. Раз, в самый сыр-бор, зеркальце глазком из буфета подмигнуло. И отпрянул я, поражённый. Испугал меня оттуда старик. Волосы дыбом стоят. Щёки впалые, губы синие, а из глаз, словно колют лёд, – острые осколки сыплются.
То не ураган погребок трясёт, не вьюга-пурга в четырёх стенах кружится, это братец Посвист, рукава засучив, у сестры-неряхи хозяйничает. Тут, там, сразу по всем углам сверкаю седой бородой. До земли тридцать раз поклонившись, с пола хлам-тарарам собираю. Уж заполнено лукошко мусорное до краёв всяким фантиком, обветшалым тряпьём да газетным клочком. Прутики бесхозные сами у меня в метлу складываются. Наутек бегут от той метлы дармоеды-мыши и клопы.
Действует уборка на Тармуру хуже, чем порка. Поначалу она в отчаянии на защиту хозяйства бросается, лезет под руку, мебель перестанавливать не даёт. Ну, приходится её легонько унять. Всхлипывает сестрица в уголке, головой качает, кулачками по щекам грязь размазывает. С каждой тряпочкой в слезах расстаётся, словно не брат заброшенный погребок убирает, а коршун в хозяйство ворвался, кур с цыплятами заклевал.
Кое-как уродицу-траву выдрав, крынки да горшки стопкой укладываю, а жильцов-пауков – за порог. Выметаю весь сор вон, вычищаю всю грязь с глаз, а сестрица на меня не глядит и дрожит, будто я какой вор. Под платочком мышек-подружек прячет и плачет.
Не успеет Тармура опомниться – выметен дом, от ковра кукушкиного пол освобождён. Веселеет на глазах буфет, в темноте лаковой дверкой поблёскивает. Улетучился туман над зеркальцем, подобрело оно, отражает румяного старика. Взмок он, словно из-под воды, не исключая причёски и бороды. А Тармура-то моя хнычет в три ручья. Заодно с братцем-коршуном всех обидчиков поминает. И ещё полчасика для впечатления куксится. Уж давно последняя слезинка по щеке чумазой пробежала, в морщину глубокую канула, а Тармура вздыхает да всхлипывает. Наконец, чёрную лебедицу обиды из души выпустив, отрывается она от заплаканной тряпочки. В первый миг озаряется серое личико, глазёнки довольно поблёскивают, погребок родимый оглядывая. Но, спохватившись, с похвалой сестрица не спешит. Шебаршит в своем уголке и на всякий случай обиженной прикидывается.
Говорят, бывало, люди в облака: от хорошего не беги, лучшего не ищи. А ведь редко люди ошибаются, когда в небо наугад говорят. Закруглился вроде с уборкой, но удовольствие не приходит. Всё кажется: сыровато, темновато. «Где же делась керосинка, которую я тебе в прошлый раз привёз? Поломала аль затеряла?» Тут как тут вылетает на стол керосинка, словно не за буфетом круглый год ржавела. Как запляшет в ней голубой огонёк, вырываются из темени стены сырые, проступают соломы клочки, которыми щели в потолке заткнуты, означаются мышиные лазы в углах, высовывается хлам, на полочки тяп-ляп уложенный. Оглядит брат Посвист помещение и бессильно голову уронит. Не гордится он своей работой, вся минутная гордость потухает в глазах. Снова в зеркальце старик недовольный, а взгляд сердито поблёскивает новым колючим льдом.
Тут обязательно в семейную сцену встрянет Ветер Лесной. С прогулки домой воротившись, напевает осеннюю голодную песню, отдающую забродившей листвой. Вырвет из крыши соломы клок, пнёт легонько погребок в бок. Сыплется с потолка на голову Тармуре пыль-сор, мой тулуп весь в песке замаран. А Ветер Лесной, щёлочку в стене нащупав, внутрь врывается. По углам завывает – мышат пугает. Полнится погребок запахом взволнованных небес, что опухли и продрогли после дождя. Бьются на стенах чёрные тени, будто вороны в гнезде крыльями машут, плачут, что не доглядели малых ребят-воронят.
За локоток схватив, тащу через низкие сенцы Тармуру испуганную за собой. А Ветра Лесного за кудри дёргаю, чтобы пасмурный вторник запомнил и впредь без спросу не встревал. За порог сестрицу вытолкнув, сажаю взволнованную старуху в «Чайку», под замок. Бьётся Тармура, в окошки стучит, кулачками грозит. Но братца уже ни разжалобить, ни запугать: перелилось терпение через край. А тем временем под колёсами ветки потрескивают, листья сухие хрустят – незаметно от гнилой деревеньки отчаливаем. Вот тебе и Дайбог.
Поначалу, из кавардака привычного вырванная, глазёнками хорька сверкает сестрица, слово не скажи – огрызается. Час-другой, уже не та Тармура: примолкла, отвлеклась, и другие дела у неё на уме. Юбку мятую кое-как приглаживает, рубашонку ветхую так и сяк оправляет, коготком грязь с рукава скребёт, пятернёй костлявой из лохм шелуху вычёсывает. И летит шелуха-пороша через щёлку окошка на поля, на луга. Дальше больше не соскучишься – двумя рывками стекло опустила и кому-то машет. Думаешь: по-глуховски разговаривает или хитрые знаки лешим подаёт? Холодно. Мимо. Только что по правую руку шумела на ветру рощица тонких осинок. Хвать, пропали осинки все до одной, в неизвестном направлении сгинули. А у Тармуры откуда серая гребёнка взялась? Озерцо впереди переливалось, с небом пасмурным переговаривалось, да теперь нет его. Зато сверкает у сестрицы в руке зеркальце, сеет в разные стороны солнечные всплески. Поле среди лесов горевало, катался по его вспаханным бокам Ветер Перемен. Хвать, а поля уже не видать. Но ровно в тот миг, когда поле за поворот ускользнуло, обрела Тармура махровое полотенчико и давай с лица пыль-грязь оттирать. Изо всех сил старается, аж позвонки хрустят. Верст через пять уж её не узнать. Вёрст через двадцать от неё не оторваться.
В человеческий вид из старой карги преобразившись, начинает Тармура в «Чайке» распоряжаться. Первым делом берётся за братца. На кочках подпрыгивая, на колдобинах подскакивая, на дорогу не любуется и без умолку себя оправдывает. «Я, – говорит, – не особо уважаю быт. У меня, – говорит, – разум делами поважнее забит». Короче говоря, всячески обеляет себя. Отмывается, осветляется, глядь, уж беленькая косыночка на ней, рубашонка кипенная, душегрейка овчинная, а шаль-то пушистую где взяла? Ну и дела.
Облагородившись в моих глазах, едет Тармура нарядная и опрятная, как барыня. Сушки грызёт, частушки поёт, веселится, словно смешинку проглотила. Что под окнами соседскими подслушала, всю дорогу повествует, за три радио старается:
«Небо наливное кренилось к полуночи. Из лесу тянуло буйной сыростью. Медленно таяла над деревенькой Луна, будто кусок масла – посерёдке сковороды. Дождичек озорной из лесу выскользнул, по траве побежал, земли не касаясь, по листам поскакал егозой. На колу у Лопушихи кастрюля висела, в ней весь день холодец варили – лился по округе богатый, жирный пар. Постучал, позвенел лёгкий дождичек по дну просторному, песком натёртому. Банки у Кручининой на заборе пересчитал, Крайневу в окошко чердачное щёлкнул и в потёмках синих исчез.
Притаилась я на чужом дворе, там, где от стены стоящего вместо дома вагончика падает на землю густая непроглядная тень. На поленце уселась под окном соседской кухоньки. И от их стены натопленной, обогретая, разрумянилась.
Кушали соседи основательно, каждый кус жевали с пристрастием. Поначалу ужина оба хмурились, на друг дружку по привычке дулись. А потом уж так они уписывали пристально, что и при желании красное словцо втиснуть не вышло бы. И полсловечка беленького в протяжении всего ужина они не выронили. Чавкали соседи на два голоса: впереди бугай Лохматый ненасытно мясо терзал, калачом заедая. Чуть поодаль Лопушиха, ликуя, удобряла холодец духовитой горчичкой. И лилась во все стороны песня старинная: зубы золотые позвякивали, серебряные зубья бряцали, а уж зубы фарфоровые острые клацали проворно, на весь лес. А когда замолкала музыка, значит, опрокидывали рюмочку. Лопушиха употребляла настойку клюквенную. Обжигаясь, жадными глоточками из ажурной стопки фальшивого хрусталя отпивала и, довольно встряхнувшись, морщилась. А Лохматый буян баловал себя водочкой. Чем ещё мужику утешиться? Захлёбываясь, залпом из стакана выкушивал да покрякивал, отирая рот пятернёй. Теплел и добрел Лопушихин сожитель, помаленьку в себя приходя. Помещение стрелой покинул Недайбог, запашок солёных огурцов не стерпев. Стало разряжаться напряжение в тесной кухоньке соседского вагончика. Даже я под их окном почуяла, как уносится из бабьего сердца тревога, а в глазах мужицких драчливых лихорадочный блеск угасает. Просветлела за столом обстановочка, и пошло семейное счастье на лад.
Холодцом наваристым на свиной ноге, щедро чесноком приправленным, лавровым листом и перцем не обделённым, вдоволь, до отвала я нанюхалась, слюнок наглоталась досыта. И почувствовала себя словно званый гость. Ох, уютно ж я в шаль укуталась да под сношенной кофтёнкой нахохлилась. Думала, после ужина часок покемарю. Но тут пахнуло мне в лицо знакомой гнильцой. Это Ветер Лесной с гулянки воротился. Как учуяла его, тут же весь покой был таков. Шастал меж сараев Ветер Лесной и свою старуху разыскивал. Над безмозглым усмехаясь, всё же глазом мёртвым тревожно в темноту я пялилась, а живым, будто девка запуганная, хлопала.
Поначалу звал он меня ласково, после долгой отлучки истосковался, аж от нежности весь дрожал. И до слёз меня эти вопли жалобили. Так он кротко мое имя выкрикивал, будто участь его решается. Меж сараев потерянный метался, тряпочки да лоскутки с заборов срывал. Трепыхнулась я, почти поверила, что после недельной попойки опомнился увалень. Но зацепилась моя кофтёнка за гвоздь. «Э-э-э, – думаю, – нет. Навстречу не выйду. Обожду». И осталась где была.
Стала к зову Ветра Лесного, как к чужому, с опаской прислушиваться, из головы всякий сор вытряхнув. Хлоп, а в голосе-то его умоляющем осиновый прут для старухиных боков заготовлен. Среди робкой мольбы за спиной кудреватая крапива припрятана, что в лесном овраге – в человечий рост. Хлыстик ивовый, в луже ледяной вымоченный, в зове жалобном притаился, терпеливо свой черёд ожидает. За догадкой по карманам не шарила: перевелись все деньги у шалопая. Глазом последним клянусь: снова до нитки поистратился, без копейки по миру шастает. Оттого и кличет Тармуру по чужим дворам, злость скрывая.
А потом уж Ветер Лесной не на жизнь разошёлся, а на смерть. Средь полночи темной, зябкой в двери колотил, в окошки к спящим заглядывал, запертые калитки тряс. И крушил, дурак, всё подряд. Там, на грядке у Крайнева, выполотая лебеда да ботва свёклы увядали. Подхватил их Ветер Лесной, раскидал, расшвырял по околице. У разгульной бабы Кручининой сбросил в грязь с верёвки скатерти, в лужу затоптал новые простыни. И пиджак дружка Кручининой, на заборе оставленный, в заросли репьёв зашвырнул.
Теперь требовал он меня настойчиво, нетерпение устав скрывать. Словно сидорову козу на убой вызывая, рычал и огрызался, как пёс. Не спешила я из убежища, в тени укромной от страха скрючилась. На призывы резкие не откликнувшись, сильнее вжалась в стену вагончика. На вопли пьяные, лютые, как матрёшка немая, лыбилась и башкой опустелой не смыслила. Всё ж пронёсся Недайбог мимо и крылом вороньим не задел. Одурелая, не попалась я. Поглупевшая, на зов не вышла. Непригожую ссору вынесла, слово поперёк не сболтнув.
А соседи всё молча кушали. По тарелкам вилки сноровисто тренькали, по маслёнке лязгал задира-ножичек. Изредка шаркала Лопушиха затёкшею ножкой, а Лохматый буян табуреткой поскрипывал. Дружно ужинали они в вагончике, посерёдке тесной натопленной кухоньки и ничего, холодцом увлекшись, не слыхали. Миновало счастливую чету буйство Ветра Лесного. Ни травинки он у них в саду не задел. И бутылки порожние на их крыльце целы остались. Даже рогожу бесхозную с их забора в угаре не утащил он. Порезвился олух вволю, наорался вдоволь. Среди грядок в огороде Крайнева оступился, рухнул в борозду и на плетях огуречных колючих сник непробудным сном. Зато я, сжавшись в спасительной тени, от испуга никак оправиться не могла. Трясло мои рученьки дрожью мелкой, осиновой. Знобило мои ноженьки лихорадкой январской. Головушка ныла, уста в ухмылке кривило, из глаза живого выливалась бездонная слеза.
А соседи терпеливо чай заваривали и над чайником пузатым гжельским покрасневшими носами клевали. Храпел на всю округу Ветер Лесной, дня на три сном его обезвредило. Луна, томясь над деревенькой, голубоватым светом мой погребок обласкала, словно у самого леса приютилась не халупа убогая, а вполне приличный, с достатком, дом. Упорно журчал в тишине тугой ручей. Это вдали, за сараем, из постели на холод выскочил по маленькому Крайнев. Но никак не могла я в настроение воротиться. А соседи чашками звякали да румяные сушки ломали. Вдруг вскочила Лопушиха форточку затворять. Занавески синие зашторила и, чтоб глаз чужой не пролез, щель замкнула прищепкой.
Струится из чашек дымок, будто вьюнок тянется к низкому потолку. Пригнулась бабья тень над столом. Ей навстречу мужик шею вытянул. Насторожилась и я, прищурилась. Как рукой всю мою хворь сняло. Звучно лобызнув горьковатый чай, Лопушиха-пройдоха вполголоса, сама с собой размечталась: «Знал бы кто, как в просторную избу хочу! Чтоб развесить полочки на кухоньке, умывальник новенький и шкафчики. Из коробки, что сыреет в подполе, наш столовый свадебный сервиз достать. И была б тогда прохлада в горнице, занавески лёгкие воздушные у открытого окошка нам выплясывали. Хватило б места и для спаленки. В ход пошла б ночнушка с оборочкой, две заморские, в клетку наволочки и широкая простынка с ромашками, что до хруста снежного крахмалена… Подоспеет черёд новых одеял, купим им на смену одеяльники с колокольчиками и листочками. Как почтенные граждане, выспимся, как солидные люди, умоемся, за раздольным столом отобедаем, знатно, с важностью заживём. Эх, нашлась бы работёнка сдельная, чтоб из-под полы совали денежку, чтоб пихали в сумку подношения и в карман из кулака тысчонки сыпали. Где такая работёнка водится? Чем её, пугливую, приманивать? Как представлю: кровать двуспальная, рядом тумбочка, лампа с плафонами. Аж дышать не могу, обмираю вся, будто лёд мне за пазуху сунули».
Отпрянул мужик от бабьего пьяного лепета. Обречённо над чашкой ссутулившись, будто чёрствый хлеб – окаменел. Сахар со звоном размешивал. Отстранившись от темы болезненной, как отлупленный, дул на чай. И рыдал грустный колокольчик над лесом. Кружил над верхушками елей Недайбог, чёрными крыльями стегал облака. Тем тревожным звуком отрезвлённая, огляделась Лопушиха, от домашней обстановки отпрянула, голову кулаком подперев, заскулила:
«В неизвестность ехать боюсь! Как узнать, куда наш вагон котится? Эх, а ведь под откос несёмся… Сколько дров запасать? Чего в погребе складывать? Не пойму… Чем мне, горемычной, утешиться? У кого бы хитростью выпытать, что да как впереди? – охала и вздыхала Лопушиха, допекая до белого каленья мужика своего. – Нет ли средства, которое на верные рельсы наш вагон установит? Чтоб катились мы по нужной дороге, следовали себе помаленьку не куда придётся, а куда я велю, куда надобно…»
Не стерпел Лохматый, проняло его. «Нету, – рявкнул, – в нашей деревне и ещё далеко во все стороны чудодейственных средств, чтоб вагоны на путях ровнять. Куда занесло, тут и останемся. А настанет день, последуем тихонечко, как и все, на тесный погост, болотистый. Там и будем лежать на поляне, под высокими и стройными соснами до скончания времён». А про себя, взгляд потупив, он прибавил: «Ишь, загорелась баба склочная, чтоб её куда-то там доставили…»
Ниже согнулась Лопушиха над скатертью и одними губами, без голоса, с небывалым нажимом выдала: «А ты про что старики галдят, об чём старухи каркают – мимо ушей пропускай. Ты выслушивай, насчёт чего люди помалкивают. Ты выпытывай, чего бабы говорить избегают, и мужики, как рыбы, за щекой хранят. Ты лови, об чём парни буйные и сквозь сон глубокий не обмолвятся. Девки даже под щекоткой не брякнут. Ведь утаивают люди немало дельного. Существует средство испытанное, чтоб из безнадёги скучной вырваться. Думаешь, легко оно в руки пойдёт? Малой ли ценой достанется? Разве у тебя в сапог не отложено? У меня в сундук не припрятано? Поднатужимся. Наскребём. А жалко денег, нету сил – сиди в грязи, едь, куда везут, ешь, чего дают, спи на узкой полке вагончика, лбом безмозглым потолок подпирая. Только знай: имеется возможность эту жизнь как надо устаканить. За тем дельные люди в Москву стекаются. По земле затоптанной скитаются. Как шальные по улицам бегают.
Промышляет в столице Лай Лаич Брехун, Собачий царь. Помалкивают мужики, будто ни за что не дано человеку, который крепко жизнью увлёкся, Брехуна повстречать. Потому что слепнет и глохнет такой человек ко всему вокруг. И не знают люди увлечённые, где Лай Лаича разыскивать. Невдомёк им, каков Брехун с натуры-лица. Нету в нём нужды для люда заводного, утонувшего в заботы с головой.
Немотствуют бабы, будто только тем встречается Собачий царь, кто понарошку живёт, кто в себе каждый шаг спотыкается, вопросов много судьбе загадывает да по сторонам ненасытно глядит. Все, кто с нелёгкой ноги ступают и в чужие окошки пялятся, у Лай Лаича Брехуна на примете. К нерадивым жильцам белого света объявляется он из царства собачьего. Только кликнут его в отчаянии, призовут, безнадёгой утомлённые, тут как тут возникает Брехун на шумной улице, чинно просителю навстречу идёт.
Облачён Собачий царь во что горазд: не сверкает ярлыками громкими, не украшен золотыми кольцами, за модами московскими он не гонится. Наряжается Лай Лаич с чужого плеча: в пиджачишко куцый да обношенный, в стоптанные жёваные чоботы. Жинсы, в хвост и в гриву поистёртые, изо всех портов признает. Не всегда узнают просители в забулдыге патлатом Лай Лаича. А ведь из толпы он выбивается повадками, стать имеет не холопскую, но царскую. Он плывёт задумчивой походкой, по-хозяйски эдак подбоченившись, в окружении трёх бездомных псов. Будто бойкая уклейка в тихом омуте, под его усищами колючими водится лукавая ухмылочка. А в глазах ещё та хитреца обитает. И глядит он исподлобья, наблюдательно.
Не сказать, чтоб удался Брехун ростом-выправкой. Да и мордой он не больно выдался. Бородёнку куцую имеет, на щеках не щетина – наждак, патлы серые в хвост заколоты, нос – картошина со средний кулак. Отчего же девки, на Лаича глядя, онемев, глазёнки опускают? Барыньки болтливые – запинаются, разодетые бабёнки – спотыкаются, тётки статные, сочные, смутившись, с шеи пот платочком утирают? И не спрашивай, промолчат. А чего скрывать, проник Брехун в наши тайные чаяния. С лёту бабий ум разгадал. Потому что редкая барынька на чужой самовар не позарится, на чужих санях не прокатится и запретную грушу не скушает. Смотрит всякая баба в сторону да в чужие окошки заглядывает.
Подгребает, значит, Брехун к просителю. Озирает нерадивого с издёвочкой. Мол, и не таких я раскусывал. Ой, немало народу обламывал. В чисту воду загонял, подо льдом купал, в сыру землю живьём зарывал. Расколю, куманёк, и тебя… Хваткие глазёнки Лай Лаича подмечают всякую задорину. Ничего от них не укроется: ни за пазухой сбережённое, ни в портфеле среди книжиц хранимое, ни в подкладку пальтишки зашитое, ни под стелькою, ни на дне души. Всё распахнутое и зашторенное на ходу прознает Брехун. С ног до головы обшарит его пытливый взгляд, вдоль и поперёк обмерит кропотливый ум, все кладовки, чуланы и подполы за версту в человеке нащупает. Чего у самой калитки повешено, а чего в глубокий погреб упрятано – до пшеничного зерна разведает. Что за пёс перед ним – разглядит. Оттого вблизи Лай Лаича, как щенки, мужички спотыкаются. Парни буйные, в пол потупившись, как цыплята двухдневные – нервные. Уж под тяжким взором Лай Лаича небыль с былью мешать плут не вздумает, молодец овцой не прикинется, Воробьёв Орловым не представится и не сделает вид Кузька-вор, будто шапка на нём не горит».
Загустела заварка в гжельском чайнике. Недоеденный сыр иссох и съежился. В чашках пойло остывшее ржавой плёночкой занялось. Притих Лохматый, насупился, но рассказу угрюмо внимал. По его молчанию твёрдому, по его дыханию резкому непонятно было, о чём он думает, интерес имеет или дуется. За ним исподтишка наблюдая, продолжала Лопушиха гнуть своё:
«Наизусть знает Лай Лаич кручину каждого. Нет нужды ничего растолковывать, так что времени зря не трать. Раз явился к тебе на зов Собачий царь, от других срочных дел оторвавшись, значит, подоспело твоей загвоздки решение, чем-нибудь готов подсобить. Ну, считай, не зря, во сне ворочаясь, вздохи тяжкие в подушку ты выдавливал, уголок простынки кусая. И не вхолостую слёзы горькие в омуте пива топил, в небо дымное обиженно всхлипывал, пачку в день изводя. Уловил твой зов Лай Лаич Брехун. Знает, что, в чужое окно заглядевшись, вдруг истаял ты в своих глазах, обмелела твоя биография, исхудала бесславная куцая жизнь. «Кто же долю мне такую нескладную, тесную да несладкую выделил? Отмерял, окаянный, скупой рукой. Всё боялся, как бы лишнего не обломилось. Чтобы не накушался вдоволь простой мужик, чтоб малинка ему в рот не попала, не закатилась за щёку мармеладина, сливки взбитые ум не взбодрили» – вот такие мысли колючие твою душу до крови царапали. Размечтался ты о доле получше, за чужим окошком себя представляя, поседел, посерел, отощал – всё курил на крыльце по ночам.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































