Текст книги "Деньги для Марии: повести, рассказы"
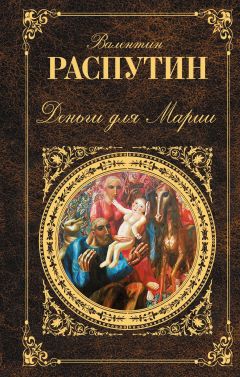
Автор книги: Валентин Распутин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
– Фу! – фыркнула Егорьевна, и губы ее еще больше округлились. – Ты сам же говорил мне, что ведмедь – это ведун.
– По меду! – коротко и зычно хохотнул Демин.
Круглое лицо с блестящими, искристо просверкивающими глазами, с аккуратным, луково вздернутым носом и чуть выпяченным, розанчивым ртом, придававшим иногда совсем детское выражение, лоснилось у Егорьевны и от печного жара, и от плотской сытости, и от удовольствия принимать гостя. Грудастая, с полными руками и с ямочкой на чувствительной шее, сразу за которой начиналось изобильное плато, рослая, раздобревшая, но не раздавшаяся, словно бы только размягчившаяся от доброго нрава, она оставалась в той спелости, которая еще брызжет соком. Изредка она взглядывала на Демина по-деловому, словно спрашивая, так ли все идет, как надо, и Анатолий уже не сомневался, что со стороны Демина тут не обошлось без инструкций.
Ели, пили, говорили о чем придется – и вдруг стыдно стало Анатолию: что же он тут делает, в укрытие, что ли, ушел? Какое ему может быть укрытие, какой праздник, какой выходной? Из этой же комнаты, перебравшись в кресло возле журнального столика, на котором горбился матово-сиреневым жуком телефонный аппарат, он позвонил домой. Иван был дома, ответил. Ответил обиженным, натянутым голосом, недовольный тем, что отец не пустил его сегодня на дачу. На даче работы невпроворот, но ведь не грядки же полоть рвался туда парень! А зачем рвался, Иван и сам, скорей всего, не знал. И мог нарваться. Пусть посидит дома. Спросил у сына, не звонил ли Иван Савельевич? Это хорошо, что нет. А в дверь не звонили? Тоже хорошо. А ты выходил? И понял по сопению, из которого никак не мог выбраться внятный ответ, что, несмотря на запрет, выходил. Не стал выговаривать, а со вздохом положил трубку. Парня не удержать, он и при нем мог, хоть кричи закричись, подняться и выйти. Позавчера не мог, вчера не мог, а сегодня отец, такой отец, ему не указ.
Через полчаса он опьянел совсем ни с чего, с двух рюмок водки. Рюмки, верно, были вместительные, пузатенькие, с какими нужна осторожность, но для мужика это все равно только легкая разминка. Значит, вконец вышел мужик, ничего не осталось. И когда Егорьевна потребовала от Анатолия здравицу, вспомнив, что тост – это чужое слово, пускай под него чужаки и пьют, он забормотал:
– Да какая от меня здравица? От меня одно расстройство. Конечно, я желаю вам… я вам много чего желаю… да толку-то от моих пожеланий! – И, обращаясь к Демину, заговорил отчаянней и тверже: – А ведь это я, Демин, должен был сделать… что она сделала… что Тамара моя сделала. Это мужик должен был сделать, отец. А мужика не оказалось, он спать ушел… устал сильно. Он и помнить забыл, что у него ружье двадцатого калибра за шкафом висит, а в шкафу два патрона с картечью уж который год, как часы, тикают. Я слышать должен был, как они тикают. Ну, какой это мужик, – с еще большим нажимом повторил он, – если жена среди ночи ствол обрезала, а он сил набирался, чтобы назавтра наблюдать, как этого поганца… он в семью нашу ворвался и всю ее испоганил… как этого поганца станут отпускать на все четыре стороны. Мужик сил набирался… А ведь вроде не трус. Ну, это мы еще разберемся, трус или не трус? – пригрозил Анатолий, морща от презрения к себе лицо. – Чудно: как-то так струсил, что и не догадался, что струсил.
– Вот так здравица! – растерянно ахнула Егорьевна. – Это никакая не здравица, это я не знаю что… Вы, Анатолий, все не так понимаете. Честное слово. Демушка, скажи ты ему…
Демин мрачно, наклонив рюмку с водкой и вздувая в ней волну, не глядя на Анатолия, спросил:
– Все сказал? Или про запас еще маленько оставил? А теперь слушай, как мы это понимаем. Для начала спросить хочу: зачем ты это говорил?
– Как зачем?
– Ну, зачем? Утешения захотел? Хотел, чтобы мы тебя успокоили: мол, все это не так и ты, дорогой друг, поклеп на себя возвел… Да тебя сейчас нельзя успокоить, ты сам это должен понимать. Тебя потом, позже, жизнь сама успокоит, да и то – как успокоит? Не успокоит, а закалит, будет долго еще бить тебя и мять, мять и бить, раз уж ты под руку ей попался. Она любит нас, дураков, учить.
– Для того и говорю: из ружья не выстрелил, так теперь хоть дерьмом выстрелю.
– Слушай и запоминай. – Демин поднялся, встал напротив Анатолия рядом с Егорьевной и, простирая над столом руки, заставляя Анатолия отшатываться, бросал рублеными, чеканными фразами: – У меня будет во-первых, во-вторых и в-третьих. Освободи там у себя место, чтобы все вошло правильно, одно за другим. Во-первых… Во-первых и в главных: тебе не дали бы стрелить. Не дали бы! Твоя Тамара Ивановна сколько там… часов семь невидимкой терлась возле стен, пока не привели этого вашего турку. Ты бы так не сумел, тебя бы десять раз разоблачили: чего это он тут скрадывает, что это у него там в сумке? Сграбастали бы, как миленького, и цель твою тебе не показали. Что может баба, мужику ни в жисть не смочь. Стрелять – да, это дело мужицкое, но тут еще надо было подкрасться, чтобы стрелить… для этого ты бы не годился. Ни ты, ни я не годились бы… Спроси вон у Егорьевны, почему мужики, которые поначалу тоже кинулись в «челноки», не сдюжили? Силенки маловато? Да нет, силенка еще имеется. Но силенка там – не все, там, может, главнее – исхитриться, разжалобить, дипломатию развести, всяких надувал надуть. У мужика не получается. Спроси, спроси Егорьевну, она скажет: не получается. Не та натура, не те извилины в голове. Это во-первых… – Демин щелкнул перед носом Егорьевны пальцами, и она тотчас поняла и налила ему в рюмку. Не приглашая никого присоединиться к себе, он выпил, хрюкнул удовлетворенно и продолжал: – А теперь слушай второе. Слушай! Даже если бы эти остолопы из прокуратуры дали тебе выстрелить и ты бы убил – закатали бы тебя без всякой пощады… ты бы убийца был и больше никто. А мать она и есть мать. Где мать имеет право не выдержать, отец терпи и не рыпайся. Ты бы убил, и через полгода забыли бы, что за дочь убил, честь родной дочери спасал, а помнили бы только, что убил… ни за что убил.
– Тамару Ивановну очень жалеют, – подтвердила Егорьевна, показывая жалость на лице, сморщив его и собрав на лбу аккуратные скорбные морщинки. – Очень. Весь город об этом говорит. Она у вас героиня. Я бы так не смогла, я бы струсила. А она героиня. Раньше рожать надо было, рожать и рожать каждый год, чтоб стать мать-героиней… А теперь вот: защитить их, роженых, надо. У нас говорят… я Демушке уже сказала… у нас говорят: соберем деньги на адвоката. Сколько надо, столько и соберем. Велят передать: это пускай будет за нами. Самого лучшего надо взять. Не отказывайтесь.
– Не откажемся, – заверил Демин, принявшийся опять расхаживать вокруг стола, вытягивая над ним и без того гнутую фигуру, чтобы зацепить вилкой закуску. – Это вы правильно: бедным и несчастным помогать надо. Бедным и несчастным вообще всегда надо помогать, а тут дело особое. Тут дело такое: не поможете вы сегодня – завтра и до вас доберутся и из вас сварганят бутерброд на закуску. Это же не случайно, это же нашествие – все эти черные, желтые, пегие… они ведут себя как завоеватели, мы для них быдло. Да! Но я не досказал! – вострубил он сердито, обращаясь к Анатолию. – Я не до конца вправил тебе мозги. У меня еще есть в-третьих. В-третьих и в главных. Слушай. Это тоже всех нас касается. Но сначала давай ухнем. Разговор у нас серьезный. Разбередил ты мою душу.
Выпили; Егорьевна быстрее и ловчее мужиков, поглядывая после этого на них со снисходительным терпением, пока они охали, кряхтели и сопели, прежде чем наладить дыхание. Демин продолжал:
– Вот ты говоришь, что струсил и сам не заметил, что струсил. Себя, значит, заклеймил и душу свою на лоскуты рвешь. И собираешься рвать до победного конца, пока от нее живого места не останется. Да ведь мы все, разобраться если, струсили. Струсили и не поняли, что струсили. Когда налетели эти… коршуны… коршуны-то какие-то мелкие, вшивые, соплей перешибить можно было… Но хищные, жадные, наглые, крикливые… И подняли гвалт несусветный, что все у нас не так, все у нас по-дурному, а надо вот так… А мы вместо того, чтобы поганой метлой их, рты разинули, уши развесили. И хлопали своими слепыми глазенками, пока обдирали нас как липку, растаскивали нашу кровную собственность по всему белу свету. А нас носом в развалины: вот тебе, вот тебе, ничтожество и дикарь, знай свое место. Ну и что? Стерпели, как последние холопы. Если кто и пикнул – не дальше собственного носа. Как-то всенародно струсили и даже гордиться принялись: мы, мол, народ терпеливый, нам это нипочем, мы снова наживем. Дураки? Нет, не то: дураки, да не последние же… В водочке захлебнулись? И это есть: может, на треть захлебнулись. А остальные где? Где остальные?
– Где остальные? – как эхо отозвалась Егорьевна.
– Вот и я спрашиваю. Где-то должны быть и нигде нету. И кажется мне, что мы какую-то штуковину в себе обронили. Какую-то детальку… она с момента выпуска, видать, плохо была закреплена, а по нашим дорогам еще больше расслабла. И вот где-то на хорошем ухабе ее окончательно скинуло. А деталька такая, что без нее все ходовое хозяйство теряет натяг. Хлябает, трется. Да. Я раньше как размышлял… – Демин вздохнул глубоко, поводил глазами по столу, но удержался, не стал наливать. – Я раньше немножко по-другому смотрел на причину… я думал, мы по той причине не уважаем себя, что нас… ну, как бы обчужили, втерли в нашу шкуру всякие там вещества, чтобы она на чужое отзывалась с полным нашим удовольствием, а на свое не отзывалась, к своему, значит, была нечувствительна. На чужое клевала, а от своего нос воротила.
Не вытерпел, встрял и Анатолий:
– А что – не обчужили, что ли? Еще как обчужили!
– Было. Ясное дело – было. И никуда не сплыло. Сегодня в сто пятьдесят пять раз больше втирают, чем было. Раньше в кожу втирали, а теперь в душу. Способы такие появились – в душу втирать. Но мы-то… тут я спотыкаюсь… да нешто мы настолько никуда не годимся, что не понимаем? Не может такого быть! Мы понимаем… и раньше понимали, когда в кожу втирали… Конечно, молодежь падкая, на нее процентов десять-пятнадцать отдавать надо. Но не больше, не вся она падкая. Мы все ж таки в себе остались. В нас кровь по-другому ходит, ни турками, ни американцами мы сделаться не можем. Ни по каким причинам. – Демин опять гулко вздохнул и поморщился. – В себе-то мы остались, а штуковину потеряли. Где, когда потеряли – никто не скажет. А без нее… то ли трусость, то ли безразличие. То ли жилы надорвали, то ли трын-трава.
– Найти надо эту штуковину! – чересчур бодро, выдавая этой бодростью свою усталость от умничанья Демина, воскликнула Егорьевна. – Найти и вставить на место. Чтобы натяг был. Правда, Демушка?
– Найти и вставить, только и всего, – с усмешкой согласился Демин. – Натяг нужен, без натяга нельзя. Водку пей, но песни свои пой. Сначала свое, а уж там… у нас натура широкая, в нее много чего войдет.
Боясь, чтобы он не сбился опять на путаные рассуждения, Егорьевна торопливо, точно за хвост поймав упоминание о песне и с маху окунув голос в жалостливость и игривость, затянула:
Голова ль моя, головушка!
До чего ты довела –
Говорили раньше: вдо-овушка,
Говорят теперь: вдова-а.
– Нету такой песни, – решительно отзывается Демин и косится на ее раскрасневшуюся огнедышащую грудь. – Где ты ее взяла? Сама, что ли, сочиняешь?
– А я ни одной песни не знаю, – с удовольствием признается Егорьевна и смеется. – Правда, до конца ни одной не знаю. Поют, а я подмыкиваю, как корова. Я в молодости дура дурой была, песню принимала за забаву, я только недавно и поняла, какая в ней радость.
– Сначала родила, потом забеременела.
– Фу ты! Такое даже и представить нельзя, о чем ты говоришь.
– А ты все-таки пыталась представить?
– Ну, конечно, пыталась, раз тебе нравится, – соглашалась она, поднимаясь собрать грязную посуду.
То она кажется недалекой, простушей из простуш, круглые глаза выставляются пленчатым блеском целомудренной наивности и грубых желаний; грудь вздымается – потому что мехам ее приходит время воздушной прокачки, а не от порывов глубокого волнения; темно-коричневое лицо, подвяленное от продолжительного бывания на свежем воздухе, ровно заполнено по всем заводям от внутреннего штиля, и житейские бури туда пробиваются разве что в исключительных случаях; то вдруг в одну минуту все в ней меняет выражение и глаза смотрят внимательно и умно, лицо оживает и отзывается на происходящее чувственными переливами, губы сами собой округляются и растягиваются, тугие щеки волнуются от дыхания…
– Мы вас совсем бросили, – говорит она Анатолию, возвращаясь к столу и окликая Демина, вышедшего курить на балкон. – Совсем, совсем вас бросили. Демушка, шатун, как нехорошо! При даме пускаешь дым ей прямо в лицо, а чуть дама отошла – вспоминаешь о приличиях. Теперь что – так принято?
– Да, – соглашается он, прикрывая балконную дверь, – принято. В связи с происшедшими в даме изменениями.
– Какими изменениями?
– Такими, что мы скоро пощады запросим: не курить при нас. Зачадили весь белый свет.
– Странно. Кто из нас курит – ты или я?
– Это ни о чем не говорит.
– Да как же не говорит?!
– А так, что мы с тобой, как два сапога пара, не в счет. Ты сапог с левой ноги, задержалась в развитии в одну сторону, а я сапог с правой ноги, я задержался в развитии в другую сторону.
– Я сапог с левой ноги… Спасибо. Я, значит, задержалась в развитии в левую сторону. И в каком, интересно, виде я теперь нахожусь?
Демин загоготал и, вытянув над столом руки, ухватил Егорьевну за плечи и усадил ее.
– Конечно же, – пошел он на попятную, – ты избежала дурного развития и сохранилась в образе самой непорочной женщины.
– Спасибо.
Быстро же она умела меняться! Только что стояла в напряжении, тянула слова, выговаривая их четко и требовательно, вот-вот, казалось, готова была опасно забренчать чайными чашками, и вдруг отставляет чашки, засмеявшись и затомившись, превращается опять в простушку, прижимает руки к груди и, выкачиваясь на стуле перед Деминым, запевает сочно и фальшиво:
Совушка-вдовушка,
Где же ты летала?
Или над могилкою
Сладко ты рыдала?
– Нету такой песни! – возмущается опять Демин. – Где ты их берешь?
– Ну, конечно, нету, – радостно соглашается она. – А может, и есть, я точно не знаю. Я же говорю… я только те песни и знаю, которых нету. Но похожее что-то ведь есть, правда? Скажите вы, Анатолий… он не песенный человек, хоть и бурлак… он не знает. – Анатолий тоже не знает, есть ли похожая песня, и пожимает плечами. – Я ее в хорошие минуты частенько напеваю. Так хочется иногда быть вдовушкой.
– Мужиков пожалей, – бурчит Демин. – Пусть живут.
– Ну, конечно, пусть живут. Я им желаю долгой-предолгой жизни, я их люблю. Но вот найдет: хорошо бы стать вдовушкой. Что-то сладкое в этом есть. Это ведь судьба русской бабы – быть вдовой… оттого нас, наверно, туда и тянет. Вдова по улице идет… не идет, а вышагивает, она не суетится, не хватается за судьбу, она полного своего положения уж достигла.
– Не приведи Господь!
– Не приведи Господь, а вот тянет, как дурочку!
Демин громко чихает, хмыкает на радостный возглас Егорьевны, закричавшей: «Правда, правда, вот видишь, правда!» – вытягивает из кармана огромный платок и гулко сморкается вслед этой радости. Говорит, теребя нос:
– Снять бы счас ремень, заголить одно место да выпороть тебя прямо при Анатолии.
– При Анатолии не надо, – канючит она по-девчоночьи, морща лицо и с деланым испугом отъезжая на стуле от стола. – Не надо при Анатолии, Демушка! Не будешь?
– Отстань!
– Но не будешь при Анатолии? Мне стыдно будет.
Потом пьют горячий зеленый час, вкус к которому хозяйка вывезла из Китая и никакого другого уже не признает. Демин тоже привык и не морщится, а Анатолий подслащивает каждый глоток порцией пирожного. Стол от сладостей ломится, уже без всякого порядка навалены на него и торт, и пирожные, и конфеты в круглой жестяной банке, и мармелад, и орешки в меду… И до всего этого хозяйка оказалась охотница. Она уже говорит неторопливо, лениво, бархатным голосом, вкладывая и в слова удовольствие от еды. Рассказывает, как прошлым летом в последний раз ездила за товаром в Корею и как, спроворив закупки, забежали они, три иркутские бабехи, в Сеуле в японский ресторанчик. Там на русский говор подсел к ним пожилой господин, очень пожилой, высокий, поджарый, с умным бескровным лицом, но очень подвижный, легко вскакивавший и легко говоривший, оказавшийся русским эмигрантом из Токио.
– Мы ели мороженое, а оно плохое, водянистое, во рту на колючие сосульки разваливается. Ну и говорим ему, что у нас мороженое лучше. «Да, – говорит, – мороженое лучше, а конфеты хуже». – «Нет, – мы хоть бабехи-распустехи, а патриотки. – Нет, конфеты тоже лучше». Он вскочил и отошел, и, пока мы сидели, привозят огромную картонную коробку, а в ней разных сортов конфеты, сортов десять или пятнадцать. Он что… он оказался конфетным фабрикантом. Распечатывает нам, кажется, три коробки: ну-ка пробуйте. На вид конфеты не очень, беловатые такие, как наша помадка… «Ну что?» – спрашивает. Мы жуем, а понять не можем. «Какие-то не такие». – «Но какие не такие? Вкусные?» – «Вкусные». – «Ваши конфеты, – говорит, – хороши, но одно в них плохо, много в них валят сахара. В два раза надо меньше сахара – и они будут и полезней, и вкусней». Вручил нам эту коробку, довез до отеля, приглашал в Токио. Я его часто вспоминаю. Он все дивовался на нас. А мы и правда, как на подбор, одинаковые: бокастые, горластые, мужикастые. Те же бабы, да не те. Не легковые, а уж грузовые, с дороги не столкнешь. Прощаемся, он говорит: «Вы меня, бабоньки, успокоили, теперь я знаю, что есть в России сила».
– Наездились вы, насмотрелись, – с благодарностью говорит Анатолий, уже совсем отрезвевший, изнывающий от желания подняться и распрощаться, повторяющий про себя раз за разом: «Везде хорошо, где меня нету». И сам же неосторожно, от неловкости за свое молчание, дает новый ход разговору, припомнив:
– Я утром радио слушал. В Англии, – сказали, – двадцать процентов женщин не желают выходить замуж. Двадцать процентов – это много, это целый поход получается.
Демин, опустив голову и пристально глядя себе в переносицу, словно считывая оттуда результат, докладывает:
– Двадцать не двадцать, а десять и у нас наберется. И все они потом мечтают стать вдовушками.
– Жалко тебе, что ли? – отзывается хозяйка и лениво поднимает на него волоокий взгляд.
– Да нет, не жалко, но не по порядку, не по справедливости.
Она мощно вздыхает, восстанавливая недостающую справедливость, с молчаливой важностью наливает себе из новомодного стеклянного заварника чай, кивком спрашивает у Анатолия, не налить ли и ему. Он, покачав головой, отказывается. Демин наливает себе водки и тем же способом, кивком, обращается к Анатолию. Тот отказывается и от водки.
– Я тоже желаю рассказать… из заграничных впечатлений… – выпив, говорит Демин с усмешкой, обращаясь к Егорьевне. – Интересная там жизнь. У нас она теперь тоже интересная, но там все равно интересней. Потому что там все передовое, а уж мы потом следом, вприпрыжку. Я там видел… и вот теперь думаю: может ли у нас быть такое?
– Где и что ты, Демушка, мог видеть? – с милой иронией спрашивает она и, подперев рукой щеку, клонясь на правый бок, ближе к Демину, принимает благосклонное выражение.
– Видеть я мог в заграничном государстве Молдова в позапрошлом году. Мы с тобой тогда еще не были близко знакомы, а то бы я, конечно, не поехал, мне бы хватило твоих рассказов. Летал я туда дядю хоронить. Он у меня был последний дядя, с отцовской стороны, а жил в Кишиневе, он там сорок лет братьям-молдаванцам помогал промышленность поднимать. Еще бы пожил, да молдаванцы не велели. У них там на фронтоне одного дома лозунг такой… сам видел. Аршинными буквами на русском… вообще-то русский они там метлой поганой везде повыметали, а тут для нас, чтобы мы читали… выведено огромными буквами: «Русских за Днестр (в Россию, значит), евреев в Днестр, хохлы сами разбегутся». – Демин пошлепал губами, изображая, до каких границ может дойти разгулявшаяся дурость, и продолжал: – Дядю своего я опоздал похоронить, на три часа опоздал. Без меня похоронили. Зато насмотрелся, пока жил там до девятин. Октябрь, теплынь, еще лето, народ на улицу высыпает, народ там очень общественный. Ну и я посередь него шмыгаю.
– Как мышка, – пропела Егорьевна.
– Как коломенская верста. Но и коломенская верста будет шмыгать, когда объяснят ей, что по-русски на улицах разговаривать опасно. Пришибут ненароком, как вражеского шпиёна. Солнце светит, город красивый, я в нем и раньше бывал, к дяде же после армии приезжал. И народ раньше был нормальный, а тут сделался прямо злой, ходят и высматривают, на кого бы наброситься. Я стараюсь не обращать внимания на обстановку, гуляю. Замечаю: парк Пушкина остался под этим же названием, памятник Пушкину тоже стоит, хоть на него и было покушение. Ну, думаю, и я должен уцелеть. Слышу: смех, музыка, праздник. Недалеко от парка Пушкина памятник Штефану Великому, он раньше в парке и стоял, но его перенесли… чтобы не было, значит, подчинения. И русские буквы с памятника срезали, свои, самостийные, наклеили. Штефан этот в Средние века жил. Стоит на высоком постаменте огромный свирепый дядька, правда что великий, правой рукой крест над собой поднял, в левой меч держит. А вокруг свадьба. Я протиснулся, гляжу: невеста в этой… как ее? – в фате белой, а сама потрепанная такая, двадцатидевятилетней свежести, по лестнице на постамент взобралась… это ведь надо было – лестницу из дому приволочь!.. взобралась к Штефану и к ногам его льнет. А выше достать не может, размеры не позволяют. Думаю: фотографируется на память. А жениха не видать. Невеста чего-то покричит, покричит в толпу, азартно так, не по-свадебному, и опять к ногам Штефана… прямо богатырские ноги, толще, чем у слона. Замечаю: веселье вокруг не так чтоб уж свадебное, но цветы, цветы, все завалено, коробки с подарками. Она ползает в ногах у Штефана, а он стоит, ноль внимания.
– Кино снимают, – вставил свою догадку Анатолий.
– Кино, да не то, шоу, да нехорошоу. – Демин покосился на Егорьевну, она, делая вид, что рассказ ей совсем не интересен, закатив глаза и нажевывая конфеты, уморительно вытянув губы, за которыми, слизывая налипшую конфетную кашицу, метался язык, откинулась на спинку стула. Невозможно было удержаться – и Демин машинально тоже повозил языком и только уж после этого направил его по назначению, чтобы продолжить рассказ. – Догадаться-то я догадался, что это не кино, а спросить… молчу. Слышу, две старушки рядом шепчутся по-нашему: с ума, мол, сошли… Так что оказалось! – Демин мрачно взглянул на Егорьевну, продолжающую самозабвенно крутить во рту языком. – Вечером по телевизору передают: какая-то фокусница, самая большая у них там задира против русских… стихи сочиняет… специально разошлась с мужем, чтобы в патриотических целях выйти замуж за Штефана. Вот как бы, например, – жестом приглашения наклоняясь к Егорьевне и протягивая ладонь, сказал Демин, – вот как бы ты захотела замуж за Петра Первого. Она за своего Штефана Великого, а ты бы, чтобы утереть всем им нос, за нашего Петра Великого. С ними только так и надо. А?
– Придется подумать, – ласково отозвалась Егорьевна.
– Карусель ты моя ненаглядная! – постарался он сказать с грустью. – На все-то ты согласная… жила бы страна родная! Нет, что это все-таки делается – ты можешь ответить? Что надо бабам? Живых мужиков уж совсем ни во что не ставят, каменные, с трехэтажный дом, фигуры им подавай! Что вы в них находите?
Напросился Демин на ответ и незамедлительно его получил:
– Что надо, то и находим.
Самое время было подниматься, и Анатолий стал прощаться. Демин вышел из-за стола и, вытянув голову, поворачивая ее то в сторону Анатолия, то в сторону Егорьевны, топтался, не зная, куда двинуться.
– Посуду мыть, Демушка, посуду! – распорядилась хозяйка, приходя опять в деловое настроение.
* * *
Иван Савельевич жил в большом и бойком пригородном поселке, через который проходили две дороги на Байкал: одна из Иркутска делала дугу и возвращалась на накатанный Байкальский тракт, а вторая тянулась больше ста километров на западный берег. Дугу эту дачники любили: тут хороший хозяйственный магазин, тут выпекался вкусный хлеб и тут же самосевом пророс небольшой базарчик на площади, откуда южная и западная байкальские дороги расходились в разные стороны. Все, что требовалось для ремонта и огорода, для стола и развлечения, тут и добиралось без толкотни в десять-пятнадцать минут, после чего, сбежав от городской тесноты и светофоров, можно было катить спокойно дальше.
Изба Ивана Савельевича стояла в сторонке, по дороге в пионерский лагерь, давно заброшенный и разграбленный, в редколесной сосновой рощице. Вразброс в ней стояло еще несколько изб с огородами; рощица, потеснившись для них, их же потом и защитила: поселковым сходом решено было для дальнейшего заселения ее закрыть.
Три прямоствольных сосны с высоко задранными ветками гнулись-шумели под ветром и во дворе Ивана Савельевича. А двор всегда был забросан ноздреватыми шишками, которые шли потом в дело для топки самовара. Скотину Иван Савельевич, оставшись в бобылях, давно уже не держал, но по весне привозил с птицефабрики молодок, летом у него были яйца, а по осени мясо. Жил он с Николаем, младшим сыном, а в это лето у них гостила дочь Николая десятилетняя Дуся, девочка, как говорил Иван Савельевич, «на два лица»: то квелая, постоянно зевающая, глядящая вокруг себя пустыми глазами, а то, как по погоде, кудахтистая, что-то наговаривающая и напевающая, играющая роль хозяюшки. Дусю, как и младшего братца ее, мать после развода с Николаем увезла в Ангарск – и вдруг отправила ее к отцу и деду, к их несказанной радости, даже не предупредив. А теперь вот и Светка с ними, которую от беды подальше спрятали, считалось, за высоким забором. Забор из потемневших плах был, но так себе, и кобель сигал через него почем зря, едва перебрав лапы.
И, как давно уже не было, стало уютно Ивану Савельевичу в доме – эх, если бы еще отгородиться совсем от мира и унять израненное сердце. И Николай, поднимая руку на себя, стрелял в него, и Тамара Ивановна, наводя свою справедливость, тоже часть картечи выпустила в отца. Но вот собрались здесь возле него эти две несчастные девчонки, тоже подбитые выстрелами, и поверилось осторожно, что, быть может, самое страшное позади и должно же из горя горького выпечься утешение. Ему уже было за семьдесят, два года доходило сверх того, лицо, исхлестанное уличными ветрами и нутряными пытками, словно бы окорилось с выщербами, грудь опала, руки и при хороших глазах, а у него все еще были хорошие глаза, часто тыкались слепо, мимо цели. Но, проведя полжизни в лесу, запас сил он в себе еще ощущал, и земля под ним еще не шаталась. Если бы не горячило постоянно и не взбрыкивало испуганно сердце, примериваясь, как ему придется выпрягаться… Если бы не стискивало временами голову так, будто в нее вкручивают металлический обод…
Он поднимался после ночи рано и, глянув через щель в заборке на спящих в соседней комнате девчонок, шел во двор искать работу. Невелико хозяйство, но она находилась всегда – накачать воды в бочки для огородного полива, прибрать одно, другое, пятое, десятое, накормить молодок, которые вот-вот начнут нестись, поговорить с ними, а потом поговорить и с кобелем, еще не омужичившимся, игривым, ревновавшим Ивана Савельевича к молодкам и гонявшим их так, что они разлетались от него, как перья. А потом в летней кухне вскипятить чай и, отдыхиваясь облегченными, снизывающимися с какого-то мотка вздохами, долго пить его на крылечке с растворенной за спиной дверью и ощущать, как втягивает туда, внутрь, уличный воздух.
Девчонки поднимались поздно. Ни та, ни другая на улицу за ворота не рвались. Дуся привезла с собой огромную, как Библия, «Энциклопедию женщины» и утыкалась в нее, забравшись с ногами на продавленный диван в прихожей и часто и гулко перелистывая тяжелые страницы. Ивана Савельевича все подмывало взглянуть в эту «библию», чтобы разобраться, полезна ли она для подростка, но рука не поднималась: не его это дело. Ну и высмотрит, ну и что – запретит? Да нет, только отодвинет от себя девчонку. С ними теперь надо как-то по-другому, чем «можно» или «нельзя». Вон морковка нынче выскочила чуть не на две недели раньше обычного срока – и разберись: или семена такие, или общая атмосфера потянула. Ох, эта общая атмосфера!., чтоб ей было пусто.
Не понуждал Иван Савельевич девчонок и к огороду, но к вечеру, когда ослабевало солнце, они раскачивались сами; младшая, Дуся, при этом делала заявление: «Дедушка, мы идем полоть! Дедушка, ты слышишь?» Ей требовалась похвала еще до начала работы.
– Ну и ступайте, – отзывался он. – Дело хорошее. Не перестарайтесь только. Вы хоть морковку от морковника сумеете отличить?
– Они в малом возрасте не отличаются, – к его удовольствию толково отвечала Дуся. – Пускай подрастут вместе, потом разберемся.
Светка на тонкой шее тянула голову и вслушивалась, она все еще не пришла в себя и смотрела вокруг с пристальностью глухонемой.
О, Господи, спаси и помилуй неразумная чада Твоя! Так их много, вся земля устелена ими от одичавших злаков! Для чего, Господи, предназначаешь Ты столь щедрый урожай? Для кучного выправления или для единовременного выкоса, чтоб пресечь недостойное?!
Николай летом дома бывал мало. Он подсаживался на лесовоз, отворачивающий с дальней байкальской дороги на лесосеку, и на старых вырубках, которые тянулись на многие десятки километров, сходил. И во всякую пору что-нибудь да подбирал: черемшу, травы и корни, ягоды, кедровую шишку. Где-то там были у него схроны от непогоды, свои, скрытые от чужих глаз, деляны, свои тропы. Людей он чурался, пряча в тайге искривленное, поведенное на левую сторону, обезображенное выстрелом лицо. За черемшой, за ягодами заходила во двор к Ивану Савельевичу бабка Суслониха, прозванная так за ровно стекающее с маленькой головки широкое становище, установленное на короткие и крепкие ноги; она ехала с таежным урожаем на городской рынок и продавала. И они, Николай с Иваном Савельевичем, полгода этим жили, и она, продавалка. Николай ходил без ружья, хватит – настрелялся, и пропадал иной раз по неделе, а осенью и больше. Но и дома отмалчивался, отвыкая от слов; когда узнал о случившемся с сестрой, заплакал, из вытекшего левого глаза побежала струйка желтой слезы. «Она бы лучше мне сказала», – выговорил с трудом и тут же испугался своих слов, замотал головой. Светку, когда привезли ее, погладил рукой по плечу и тут же спрятался.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































