Текст книги "Деньги для Марии: повести, рассказы"
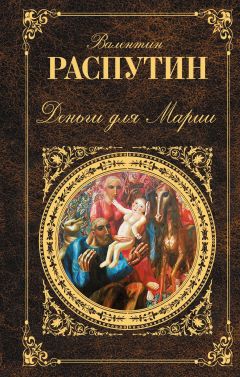
Автор книги: Валентин Распутин
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Анатолий приезжал через день, новости не могли быть утешительными: Тамару Ивановну судить не торопятся, от адвоката она отказывается, говорит, что защищать ее не нужно, никому она не верит. Областной следователь топчется на месте, ждет окончательных результатов судебно-психологической экспертизы. И все-таки есть одно, непроверенное… но как знать!.. В Москве застрелили депутата Думы от Иркутской области, чеченца, и в Иркутске спустя несколько дней стреляли в его брата, тоже какого-то главаря. И вполне может быть, что кавказцам, которые преследовали Анатолия, теперь не до него, в последнее время охоту за ним они, похоже, сняли. Иван Савельевич предостерег:
– Но ты Светку все-таки не торопись забирать.
– Нет-нет, пускай здесь побудет. Как она – оживает?
– А не знаю, Толя. Не пойму. Рана там глубокая, заживы долго может не быть. Иной раз глядишь: то ли от боли морщится, то ли силится улыбаться. Это хорошо, что они тут с Дусей вместе.
Сидели в избе, в прихожей, где прохладнее, Иван Савельевич за столом на скамейке у окна, опершись локтем о подоконник и сцепив на животе руки, Анатолий напротив, задрав высоко колени и утопив зад, гнулся на продавленном диване. Только что отчаевничали, посуда была еще не убрана, и над нею кружила пчела. Дверь в сенцы была отворена, и в прихожей гулял ветерок, пузырем втягивая в комнату девчонок сквозящие от стирки ситцевые занавески. В избе было прибрано и все-таки сиротливо без хозяйки, сам жилой дух казался горчащим. Тамара Ивановна, наезжая, и скребла тут, и мыла, навешивала на окна свежие занавески, вытирала в межоконье рамки с фотографиями под стеклом, смахивала тенетистые узоры с потолочных углов, вытряхивала домотканые, еще с Ангары привезенные, половики и коврики, но проходило несколько дней, и вновь проступала серая, золистая испоть, и опять все покрывалось сиротством. А без Тамары Ивановны что станется, и говорить нечего.
Солнце сдвинулось и перестало бить в окно, возле которого сидел Иван Савельевич, нагретый воздух перед глазами Анатолия в четко очерченном квадрате окна курился, дрожал. И в этом струении марева казалось, что свисающий с ближней сосны шест, которым поднимали на высоту скворечник да так и оставили там, легонько качается стоймя, чтобы, раскачавшись, спрыгнуть. Самого скворечника не видно, но Анатолий знал, что он пустовал. Его из году в год зорили вороны. Прежде их отпугивали ружьем и навсегда разогнали малых пташек, а большие, вороны и дятлы, до сих пор били клювами в пустующий домик и пытались столкнуть его вниз. Пойми эту жизнь… ничего-то нигде, оказывается, понять нельзя.
Уже неделю как жара не донимала сильно, дни стелились солнечные и яркие, но не гнетущие. За другим окном, на восток, цвела в палисаднике сирень, рас клонив по сторонам тяжелые ветви в убранстве горящих фиолетовым огнем свечей. Обломанная сирень в банках с водой красовалась везде – и в спальне у девчонок, и в летней кухне, и в сенцах, и рядом с собачьей будкой на двуногой, с отростом, березовой чурке.
– Даже в самовар, вертихвостки, натолкали, – рассказывал Иван Савельевич. – И снует эта, меньшая-то, и снует: – «Деда, когда самовар кипятить будем?» – «Да кипятите, – говорю, – когда вам охота: не маленькие». А чего не маленькие – маленькие! Им охота, чтоб я ткнулся, увидал да ахнул погромче: «Эк она где, холера, проросла!» Мы ведь как разговариваем, Толя… Спросишь ласково – не знают, как отвечать. А разворчишься – это им то самое, глядишь, и по душе отзовутся.
Хлопнула с маху калитка во дворе – Иван Савельевич, вздрогнув, обернулся – никого, должно быть, выскочила Дуся. И спросил:
– Свидание-то не дают?
– Нет пока.
– А Ванюшка-то что ж не приедет сюда?
– Я пока его дома держу. За книжками сидит.
– Я уж перестал понимать, Толя, хорошо ли это – книги? Говорят: плохому не научат… смотрю я: запутать могут, хорошее с плохим воедино смешать. – Иван Савельевич опять оглянулся во двор: кто там мог проскочить в калитку? – и продолжал: – Николай у нас книжки читал… я радовался, пускай умнеет парень. А он вишь до чего поумнел! Шире головы. Он еще там, дома, – домом Иван Савельевич до сих пор называл деревню на Ангаре, – блажить стал. Задумываться начал. Наманят, наманят книги, насулят с три короба, а жизнь, она другая. И вот я думаю: человек от рождения, от родителей направлен по одной дорожке, по родословной сказать, а книжки его выгибают на другую. Ломоносов за рыбным обозом пешком из Холмогор ушел, так он Ломоносов был, кругом его по ученой-то части редколесье было. Он почему еще не сбился с пути… он в котомку себе родной холмогорской землицы набрал и все законы из нее вывел. А наши что? Они прямо в чащобу устремляются таких же, как они, без царя в голове, они все голодные до незнаемой жизни… И вот он, Коля наш… Впопыхах женился, какую-то чудь в ней увидел, а она, чудь-то эта смазливая, зубастая оказалась, клыкастая, на нем же ездила и его же ни в грош не ставила.
Иван Савельевич вздохнул тяжело, с мыком, помолчал, облизывая сухие губы, и спросил у Анатолия:
– Ты не закурил?
– Нет.
– А я покуриваю. Думал, что до смерти освободился, а не смог. Да-а, – с горечью протянул он, возвращаясь к прежнему разговору, – начудили. Я ему, Николаю, еще в те поры, как разглядел хорошенько его чудь, разъяснял… Говорю: вот поставь ты передо мной двадцать девок, двадцать невест, и я тебе без всякого испытания скажу, какую выбрать. На самую добрую покажу. Выбирать надо добрых, а не показных.
Анатолий представил себе этот осмотр, Ивана Савельевича, прохаживающегося перед строем выставочных невест, и засмеялся:
– А почему надо двадцать, а не десять?
– Десяти может не хватить. Лучше двадцать. Доброта у девки на лице написана, ей и мазаться не надо, чтоб себя красивой сделать. Природу не спрячешь, она себя обязательно покажет.
Иван Савельевич тяжело вылез из-за стола, потоптался на месте, наставляя затекшие ноги, и пошел посмотреть, где девчонки. Светка в летней кухне играла с котенком и раззадорила его до того, что он напрыгивал на нее, взобравшуюся с ногами на голый деревянный топчан, она вскрикивала, перебирая ногами; котенок, пушистый комок из желтого и белого, отскакивал, не разворачиваясь, шлепался на спину, взвивался вверх, чтобы приземлиться на лапы, делал стремительный разбег и снова кидался на Светку. Иван Савельевич от порожка полюбовался и, когда Светка, ухватив котенка за шкирку, выставила его за дверь, за спину Ивана Савельевича, спросил:
– А Дуся где?
Девчонок так часто приходилось спрашивать, где одна и где другая, что и они тоже научились не выпускать друг друга из виду.
– Где-то за воротами, – задышливо, пятясь от котенка, приседавшего для прыжка через порог, отвечала Светка и ждала, когда Иван Савельевич отойдет.
– Шла бы, посидела с нами, пока отец не уехал.
– Ну, потом, – отговорилась она и, оставшись в кухне, прикрыла дверь. Пойми от кого – от котенка или от деда.
Воротившись, Иван Савельевич, посмеиваясь, рассказал о Светкином занятии, порылся на полочке возле двери, отыскал жестяную банку с табаком, пахнувшим ядреным едким духом, и принялся сворачивать самокрутку. Сигареты он не признавал, а папирос не стало. Закурив, сделав несколько жадных затяжек, отдышался и опять приободрился.
– Ничего, Толя, как-нибудь. Не может быть, чтобы свернули нас в бараний рог. Я вот тебе расскажу…
И рассказал Иван Савельевич историю, которая вспомнилась ему, надо думать, раньше и вспоминалась не однажды в эти дни, а теперь запросилась наружу.
– Это сколько же годков минуло? – спросил сам себя и прикинул: – Да уж не меньше тридцати. Томка тогда с Дусю была, может, немножко постарше. У нас в деревне вскорости после смерти Сталина угнездилась одна семья. Сам он, хозяин-то, был в наших краях на высылке, а как дали ему вольную, ворочаться не стал, откуда вышел, а выписал себе жену с погодками-ребятенками… мальчишка и девчонка были… и осел как вольнопоселенец. Кряжеватый такой мужик, рожа хмурая, все попервости в зеленых галифе ходил, в отместку, поди, тем, кто его в лагере караулил. Звали Ефроим. Заняли они избенку в три окна на верхнем краю деревни, последний парнишка уж у нас народился. Заняли избенку-горемыку, а потом и давай строиться, и давай. И это по тем временам, когда мужика гнули в бараний рог: на заем последнюю копейку отдай, молоко от коровы на молоканку отнеси, яйцо от курицы в сельпо сдай, огородные сотки еще и до Хрущева обрезали. А он в рост и в рост. В колхоз не пошел, устроился сначала бакенщиком, а опосле, как Ангару запруживать вознамерились, по зоне затопления каким-то чинодралом заделался. Но это уж потом. А до того при самой нашей глухой бедности… она его не касается, наша бедность… На задах избенки поставил времянку, да крепкую, не хуже этой избенки, а избенку смахнул и давай на том месте подымать крестовый дом. В два лета поднял, откуда что и взялось. Баба некорыстенькая, росточку небольшого, а тоже пятижильная, так и снует, так и снует. Дом поставили под шифер, у нас этого еще и в заведении не было, у нас контора была под тесом… Обнес свое поместье глухим забором, в улицу – высокие теремчатые ворота под навесом. Только ахай! У первого у него мотор на лодку, у первого мотоцикл «Урал» с коляской, у первого нарезная винтовка. Боролись, боролись с кулачеством, а он посередь голытьбы возрос как чирей на ровном месте.
Иван Савельевич говорил неторопливо, с улыбчатой усмешкой, подкивывая себе и морща и без того морщинистое лицо. И последние слова подвел, прямо как к воротам, к вопросу.
– А с чего возрос-то? – спросил Анатолий, слушавший невнимательно, с усилием, как и все теперь делавший с усилием, перемогавший какую-то налипшую изнутри, как грязь, тяжесть. – С приисков, что ли, явился?
Иван Савельевич с готовностью подхватил:
– С приисков, говоришь? Ну да, с приисков. С тех, где под конвоем водят. Сам он не признался бы, но слух такой стоял: когда мы Украину от немца отбивали, он в лесах против нас партизанил.
– Ну, за это так скоро не выпустили бы…
– А там тоже после Сталина порядка не было. Одних за колоски в землю вбивали, других из-под самой страшной статьи втихомолку выводили. Умел он, значит, и там себя поставить. Такие нигде не растеряются, повсюду найдут кума и брата.
– Но откуда же у него взялись деньги? Не в огороде же он их нашел?
– А вот этого никто не знал, – быстро и уверенно отвечал Иван Савельевич, ответ у него был готов. – Слухи разные ходили, да из слухов, сам знаешь, дело не сошьешь. А я так думаю: это ему баба с родины доставила. Он оттого, думаю, и не захотел на родину ворочаться, что не мог там ими распорядиться, они у него запашок имели. Он для того и изъял оттуда семью, что хотел следы замести. На войне в тех местах чего только не бывало.
– А потом он, значит, с тобой воевал?
– А его, Толя, со всей деревней мир не брал. Не любили его, а поманит, покажет бутылку – идут беспрекословно. А опосле еще больше не любят. Но он во внимание не брал, любят его, не любят. И сам никого не любил, жил в бирюках без нужды в людях. На подмогу, я говорю, зазывал, а так, чтобы по душам поговорить с человеком, этого в нем не водилось. Мы для него были люди десятого сорта.
Вошла Светка, юркнула за занавеску в свою комнатку, а потом встала в дверях, придавив одну полу занавески спиной, а другую жгутом держала в руке.
– Послушай, послушай, Света, – сказал ей подбадривающе Иван Савельевич, – какую мы оказию с твоей мамой прошли. Она тогда еще на подросте была, босыми ногами пыль на дороге взбивала… Ты дверку в кухню прикрыла?
– Прикрыла.
– А то кобель бы не полез. Он у нас из варнаков.
Иван Савельевич продолжал рассказ, а Анатолий посматривал на Светку, не слушавшую, уставившуюся в окно, за которым, кланяясь, тяжело раскачивались яркие гроздья сирени. Оттуда же заглядывало и солнце, и Светкино лицо в обрамлении золотисто-смиренного закатного потока выпечатывалось особенно четко. Не было на Светке ее лица, слезло оно – так же, как слезает, меняя черты, кожа в тяжелой болезни. Все в этом новом лице обострилось и распалось: глаза, глядевшие тускло, сами по себе, ставший совсем маленьким и некрасивым нос, сам по себе, и крепко сомкнутые, вдавленные одна в другую губы, тоже сами по себе. Все на месте, и все сдвинуто, не соединено: во всем видна стылость донельзя измученного человека. «Чем бы развлечь здесь дочь, что бы придумать? – стал размышлять Анатолий. – Может, телевизор сюда привезти? Евстолия Борисовна свой, конечно, не отдаст, он для нее весь свет в окошке. Но теперь у многих по два, по три телевизора; если поспрашивать – найдется, поди… Сидели бы девчонки, смотрели…» И услышал голос Тамары Ивановны: «И что бы они смотрели? Не насмотрелись еще, что ли, не отравились до конца жизни? Не надо, Анатолий, не смей!»
Иван Савельевич говорил:
– Парнишка этого Ефроима, Гошка, все на мотоцикле гонял. И все нашу Тамару пугал. Разгонится и прямо на нее. Она отскочит… Пока мотоцикл разворачивается, то убежит, то на забор запрыгнет. Ухватил я его как-то на ходу за воротник, поставил на ноги. «Ты, парень, что делаешь? Ты же ее изувечишь!» Зубы оскалил и на меня, как звереныш: «гы-ы»! Не подействовало. Снова руль на девчонку. И опять, и опять. Кончилось тем, что наскочил и ободрал ей ногу чуть не до кости. В район, в больницу я ее возил. Зашили, замотали – месяц на ногу не приступала. Пошел к Ефроиму: так и так, уйми своего парня. Он на меня в точь так же зубы: «Гы-ы, у них это, можа, любовь». И меня же высрамил, что у меня девчонка по улице шляется.
Стукнула калитка; Иван Савельевич, прерываясь, крикнул в окно:
– Мы все здесь.
Вбежала Дуся, раскрасневшаяся, с короткой мальчишеской стрижкой, в короткой майке, по моде не закрывавшей пупа, и в шортах, получившихся из обрезанных, одна штанина короче другой, джинсов. Глаза ее блеснули удивлением от неподвижно расположившихся фигур, и она заявила:
– Хочу поесть.
– Ты только не расхоти, – сказал Иван Савельевич. – Погоди чуток, мы вот скоро закончим, я расскажу, чем дело кончилось, и мы твоему хотению дадим свое имение.
– Как это?
– А что имеем, то дадим. А чего нет, того и не будет. Сядь, прижми свою вертушку. – Небольно-то и вертлявой была Дуся, и сказал Иван Савельевич… для всех ребятишек заготовленными словами сказал. – Сядь и слушай. Сейчас и про папу твоего будет.
– А что про него будет?
– Не забегай вперед, слушай. Садись вот рядышком со мной.
Произошло общее перемещение. Иван Савельевич подвинулся на скамье, и Дуся сбоку водрузилась на нее с коленками; Анатолий подъелозился к диванному валику, облокотился на него, приняв удобное полулежачее положение, а возле другого валика устроилась Светка.
– И пошла у нас самая настоящая вражда, – вернулся к рассказу Иван Савельевич и с укоризной почесал седую клочковатую голову. – До последнего случая я вроде сильно и не вражевал на него, думал: дурость и дурость, должна же она затихнуть, эта дурость, ведь рядом живем. Ан нет, Толя, тут не простая обнаружилась дурость. Он, этот Ефроим, он что… он подсмотрел нашу слабость. Не он один подсмотрел… если на теперешнее время оглянуться – много кто подсмотрел. Мы, русские, большой наглости не выдерживаем. Маленькой, гонору всякого, этого и у нас самих в достатке, а большую, которая больше самого человека, то ли боимся, то ли стыдимся. В нас какой-то стопор есть. Вот и я долго так же: сердце зажму и отойду. Я отхожу, а он все наглей, уж никакого ему удержу. Я к той поре уж в лесничество перешел. И знал, что зверя он берет в пору и не в пору, охранного закона ему не писано. Наши егеря поймали его с поваленной стельной изюбрихой, послали протокол куда следует. Отвертелся и на меня же прокурором смотрит. Идешь с поклажей на Ангару, чтоб на тот берег переплавиться… у нас там уж большое хозяйство расчалось… идешь, он на берегу, на каменишнике, с веслом в руке, волком смотрит.
– Ты когда, – спрашивает, – утопнешь?
Вот до чего у нас дошло! Он Ангару за свою собственность стал считать. Я креплюсь, а вовнутри-то кулак хороший отрастает. Ответишь ему только: не дождешься, мол, утопленником меня зреть, а в самом закипит: чем бы тебя, вражину, погладить?
– А когда папа будет? – поторопила Дуся.
– Вот сейчас и будет. Потерпи. Сейчас мы с твоим папой сядем в лодку и поплывем. Плавали мы туда-сюда часто, хозяйство там, дом здесь. У нас в лесничестве были две грузовые лодки, широкие в борту, вроде карбаза, на волне стойкие. И мотор «Вихрь» дали, этот мотор в ту пору казался зверем. Рычит и прет скрозь любую непогоду. И вот так же мы с папой твоим, а ему в ту пору годков десять исполнилось, так же с левого берега на правый рулим. А уж сумерки, вода в Ангаре темная, и низовка тянет. Но сумерки пока светлые, в них видать даже дальше, чем на солнце, и волна еще не разошлась. Идем поперек реки, Коля в носу, спиной к ходу, я в корме за мотором. Вижу: с правой стороны, от верхнего острова лодка повдоль реки. Ходко бежит, носом по волне настукивает. Вглядываюсь: Ефроим. Лодка у него хоть и ходкая, на манер шитика, а верткая. Да и легкая. Сближаемся, я гляжу по ходу шитика, что я успеваю проскочить. Но Ефроим поддал газу и прет прямо на нас. На таран идет. Он-то, конечно, рассчитывал, что я струхаю и отверну. «Ах ты, гад! – думаю. – И тут захотел меня в грязь носом». Кричу Кольке: «Падай!» и руками машу, чтоб падал в лодку. И только-только успел нос развернуть под шитик…
Иван Савельевич сделал полагавшуюся паузу. Светка, откинувшись на спинку дивана, смотрела на него во все глаза, голые ее пятки, высовывающиеся из босоножек и едва касающиеся пола, выплясывали нервную чечетку. Дуся, вытягивая шею и морща от напряжения нос, пыталась поймать себя в висящем над диваном зеркале. Анатолий спросил:
– Перевернулись?
– Шитик отбросило метра за три от нашего карбаза и перевернуло. Мотор оторвало, Ефроим вынырнул еще дальше. Я, как испуг отхлынул, соображаю: если Ефроима к себе в лодку из воды поднять, он, чего доброго, и меня, и парнишку поскидает в Ангару. Испуг отхлынул, злость прихлынула: ты хотел, чтобы я слабость свою перед тобой показал – на же: подгребаюсь к нему, сбрасываю конец, чтоб ухватился, и плавом, как бревно, тяну к берегу. Таким вот манером и доставил. В ангарской водичке он присмирел, едва на берег выполз. Хотел еще зуботычину дать, да ладно, думаю…
Анатолий подождал и опять подтолкнул Ивана Савельевича:
– Ну и какое у вас дальше соседство было?
– Друг на дружку не смотрели. Я Кольке наказал никому не сказывать об этом происшествии и сам помалкивал. Признаться, побаивался. От него всего можно было ожидать. Злого человека от зла отучить нельзя! – Дуся нетерпеливо подталкивала Ивана Савельевича плечиком, напоминая о своем голоде, и он поднялся, уже на ногах закончил: – А он недолго после того и оставался в нашей деревне. Началось затопление, вся Ангара на дыбы, он чем-то поруководил-поруководил, а когда началось переселение, снял свой дом и увез. Говорили, в город увез. Где он теперь, живой ли, не знаю.
– Учить таких надо, да, дедушка? – как поняла Дуся, так и спросила.
Иван Савельевич подумал.
– Учить надо, – осторожно ответил он. – Но сдается мне, что поодиночке не выучить. Всех вместе надо. А как – не знаю. Сейчас вот про Бога вспомнили… Так к Богу-то пошли несчастные люди, которые от злодея терпят. Злодей к Богу не торопится. А власть, она вишь, какая власть, она распояску злодею дала, с ним по совести не поговоришь. Как на фронте было, – обращаясь уже к одному Анатолию, добавил Иван Савельевич. – Кто кого: перекрестимся втихаря да с криком «За Родину, за Сталина!» – в атаку. Вот так-то бы и теперь всем оставшимся народом!
Уже в темноте уходил Анатолий. Все вышли за калитку, договаривая, задержались на выбитом ногами плешивом пятне перед воротами. Светка, оттиснув отца в сторонку, быстро, напрягшимся голосом, спросила:
– Папа, когда маму можно будет увидеть?
– Не знаю, – удивленный ее напористостью, ответил Анатолий. – Лицо Светки в зернистом свете электролампочки с дорожного столба было решительно, панцирной неподвижностью отблескивала на нем кожа. – Не знаю, – повторил он. – Может, на следующей неделе, а может, и нет.
* * *
Прошло два дня – и вдруг Светка исчезла. Иван Савельевич с ночи встал по обыкновению рано: накрапывал из безнебья, из низкого серого сумрака, дождь тихой моросью, сильно и вязко пахло в ограде сиренью, а в огороде дикой коноплей. И, пока не разошелся дождь, прикатил Иван Савельевич на тачке три возка черной земли на огуречную гряду, чтобы заглубить уже поднявшиеся всходы. Под дождем оно хорошо, сразу же и породнит старую засыпку с новой; после этого обошел раза три огород, размечая в памяти, что надо будет сделать самому и на что направить девчонок. Дождь не расходился, и подставлять ему, слабо сеющемуся, голову и лицо было приятно – как помазание мягкой редкошерстной кисточкой происходит, и руки, творящие его, выбирают самые чувствительные места. Потом, как всегда долго, пил Иван Савельевич чай, шикая на куриц, вспрыгивающих на порожек летней кухни, и слабым поминаньем, не торопясь выстраивать их в черед, касался своих житейских туч, то отдергивая память, то снова заставая ее подле больного места.
И долго не шел в избу, чтобы не потревожить девчонок. Досидел, пока не вышла Дуся и, зевая, от позевоты сгибаясь и разгибаясь, будто в поклонах, раздутыми словами, с трудом скатывавшимися из широко раскрытого рта, выговорила:
– А где-э Све-эта?
– Где ей быть? – посмеиваясь над девчонкой, сказал Иван Савельевич. – Возле тебя где-нибудь. Вы вместе почивали.
– Не-э-ту.
Иван Савельевич заглянул в избу, прошел в огород, уже в тревоге выскочил в улицу: нету. В том же порядке, с зачастившим сердцем, заставляя себя не торопиться, обошел с полным обыском все, где Светка могла находиться, – нигде ее не было. Сунул Дусе стакан горячего чая, все остальное сыщет сама, и бросился на автобусную остановку. А прибежав, понял, что бежал без головы: если бы Светка решилась уехать, за утро она бы уехала десять раз, а в небольшой очереди, сидящей возле магазина на крылечке и толкущейся рядом, ее быть не могло. Поспрашивал в магазинах, в том и другом, – не видели. Обратно домой; Дуся встревоженно и молча следила из летней кухни, как он мечется, и продолжала в испуге намазывать на хлеб варенье и слизывать его языком, выгнув над столом голову и глядя в раскрытую дверь.
Иван Савельевич присел рядом с нею. Украли Светку? Но как ее могли украсть – не из постели же вытащили?! Схватили, когда Светка вышла из избы? Но она бы закричала! По тихому утру он бы услышал ее откуда угодно. Сама, не сказавшись, сбежала? Но почему? Зачем по следу одной беды догонять другую?
Он решил: подождет час, а потом надо ехать в город. Час он дал себе на всякий случай: а ну как вздумалось Светке погулять по рощице, которая еще за двумя дворами переходила в лес. Через час надо бить тревогу. Но как ехать, бросив здесь Дусю? Куда ее? Тащить с собой? Пугать своим испугом? Да и что там, в городе, будет?
Он выждал час, прибавил еще полчаса и бросил-таки девчонку, решив, что по дороге на автобус забежит к Суслонихе и попросит ее приглядеть за Дусей. Но Суслонихи дома не оказалось; бухал матерой глоткой кобель, таская грохочущую цепь; от крыльца, со ступенек, уставил на Ивана Савельевича маленькие глазки поросенок, склонив короткую голову набок и шевеля прозрачно-розовыми ушами; с поката над сенцами уже струилась вода. Дождь томился, томился да расходился. И Иван Савельевич, перекрестив про себя Дусю, не стал возвращаться: будь что будет.
Он поехал уже в двенадцатом часу; из пористого замшелого неба сыпало вовсю. В городе по обочинам дороги налились лужи, люди под зонтиками, по-куриному вытягивая шаг, крались и подпрыгивали. Все было мокро, мрачно, все погрузилось в тяжелое ожидание. У Ивана Савельевича и внутри будто отсырело от разлившейся смертной тоски. Если он не застанет сейчас Анатолия дома, что ему делать? А если и застанет, вместе они, потелефонив туда-сюда, уложат на коленях руки в оцепенении: что дальше?
А вышло, что и Анатолия он не застал, дома был Иван, и осторожные их звонки Евстолии Борисовне и в прокуратуру ничего не дали. В прокуратуру они звонили не в ту, а Евстолия Борисовна первой спросила, когда приедет Светка. Иван, еще больше вытянувшийся в последний месяц, с длинными руками и огромными босыми ногами, задумчиво хлопал глазами и пытался вспомнить, что говорил ему перед уходом отец. Кажется, собирался пойти в какую-то мастерскую. Надо было искать Демина и уж тогда выходить на след Анатолия. С тем и снарядил Иван Савельевич внука, а сам, как побитая собачонка, не сослужившая самой простой службы, поплелся в обратную дорогу.
Да и не поплелся, а погреб. Дождь полоскал без устали, из трубного зева водостоков вода выфыркивала залпами, залитый асфальт пузырил, люди попрятались, машины медленно проплывали, отваливая на стороны волны. «А это к чему?» – огромным, ко всему приложимым и ничто по своей безответности не говорящим вопросом мучился Иван Савельевич, преодолевая потоки.
* * *
Эти два дня после отъезда отца прожила Светка в непрерывном нетерпении, точно что-то нагорало в ней и нагорало, превращаясь в золу, но под золой не затухли и теперь принялись горячить угли. Она продолжала оставаться вялой и неразговорчивой, все так же смотрела перед собой пристально и невидяще, но и лицо ее от внутреннего напряжения морщилось, и плечи судорожно вздрагивали. Светка ждала отца, считая, что должно что-то обязательно произойти и он привезет новости. А что должно произойти и какими могут быть эти новости, она не представляла. Но если занывает так в непрекращающейся муке – значит, занывает неспроста. Однако отец, по обыкновению пропустив один день, на второй не приехал. И Светке стало совсем нестерпимо и за дедушкиным забором, и в своем нездоровом почужевшем тельце. Ей чудилось, что от нее и пахнет нехорошо – и чем дальше, тем больше. Прождав отца до вечера, утром она решила ехать. Ничто не могло остановить ее – ни переполох, который поднимется здесь и дома, ни опасность, от которой ее прятали, ни унижение, которого не миновать, едва лишь она начнет добиваться своего. Хоть что, хоть в тысячу раз больней, но только не так, как теперь, в дошедшем до края изнеможении.
А решившись, она и спала хорошо, и проснулась рано. Услышала, когда Иван Савельевич вышел, зная, что теперь до позднего утра в избу он не вернется, высмотрела в окно, что нашел он занятие в огороде, и выскользнула в калитку. В легкой беленькой курточке на плечах, в тонких летних джинсах с подвернутыми штанинами, в разношенных шлепанцах и с белой маленькой сумкой в руке, в которой ничего, кроме мелких рублей да носового платка, не было. Накрапывал дождь, гулко, будто соскользнувший и разметавшийся по земле гром, мычали коровы. Со стороны города, как к ночи, вставала темнота. На автобусной остановке Светка еще издали заметила Суслониху, низкую и громоздкую, как животное, мотающую маленькой головой, и отошла, а потом, когда автобус подкатил, бегом вбежала в последний момент в заднюю дверь и отвернулась, уставившись в стекло на убегающую дорогу. На автобусной станции в городе сидела в углу зала с опущенным лицом, прикрывшись ладонью, делая вид, что дремлет, изредка вскидывая из-под пальцев глаза на стенные часы со звучно прыгающей секундной стрелкой. Вскоре она и верно задремала, успокоившись, ощутив и в себе часовой механизм, отбивающий секунды и умеющий насторожить ее на время, когда нужно будет подниматься. Хлестала дверь, плавал от стены к стене гул голосов, слышались объявления – и все это превращалось в чеканный ход часов, стерегущий среди многолюдья ее жалкое укрытие. И так ей наконец было хорошо в эти полчаса, когда совершенно забылась она, столь сладкое она испытывала забвение, так укачало ее это спокойное людское волнение, что, придя затем в себя и оцепенев от возвращения, она еще долго набиралась решимости, чтобы подняться. Объявили посадку сразу в два больших автобуса, ползала зашевелилось, заторопилось к дверям, и только тогда общий порыв подхватил и ее. Она вышла, окунулась в настегивающий ливень и пешком побрела в сторону центра.
В небольшое, в три этажа, аккуратное белое здание, сохранившее свою белизну даже в ливень, мирным своим видом больше похожее на какое-нибудь скромное благотворительное общество, чем на областную прокуратуру, Светка прошла беспрепятственно. Охраны здесь не водилось, доверительным расположением небольшого уютного фойе она, казалось, и не была предусмотрена, а за столом дежурного слева от входа напротив мраморной лестницы никого не оказалось. Светка задержалась у дверей, давая стечь с себя воде и глядя под ноги, и почувствовала, что туда же, под ноги ей, на происходящий непорядок, смотрит кто-то еще… Он, этот человек, окликнул Светку с противоположной стороны фойе и спросил, к кому она пришла. Спросил вполне дружелюбно, но переживая, казалось, за коллегу, в кабинет которого может переместиться это истекающее водой существо. «К Николину», – слабым голосом ответила она; это было у нее первое слово за весь день. Человек подошел к столу дежурного, поднял трубку телефона и набрал номер. Только теперь, протерев глаза ладошкой, она рассмотрела его, и больше всего на его лице, белом, нисколько не загоревшем, поразили ее очень густые и очень лохматые брови, из-под которых с трудом выглядывали маленькие глаза. Николин в трубку удивился: «Разве я вызывал вас?» – «Мне надо», – сказала Светка и после продолжительной паузы, способной напугать, услышала: «Поднимайтесь и ждите, сейчас я занят».
Перед дверью Николина на втором этаже она прислонилась к стене и почувствовала себя почти так же хорошо, как на автостанции, когда она полностью забылась в себе, будто в уютном гнездышке. С волос продолжала стекать за шею вода и щекотливыми струйками сбегала по спинному желобку вниз, и куртка, и кофточка влипли в тело, оно зудилось, выгибалось и вздрагивало. И все равно было хорошо, всякое страдание в ней умолкло, поддалось смирению и терпению. Впервые, еще не различив, не назвав ее, Светка коснулась истины: ожидание события сильнее самого события.
Минут через двадцать Николин крикнул через дверь, чтобы она заходила.
Он был немолод, с седыми висками и подсушенным правильным лицом, с прямой высокой фигурой и твердым взглядом глубоко посаженных глаз. В деле Тамары Ивановны обвиняемая была видна ему как стеклышко самого простого изготовления, но он с жалостью и даже с некоторым раздражением смотрел на ее дочь, начало и причину всей этой истории. В отличие от матери крепкого орешка из дочери не вышло. Беда невелика, если бы по множеству самых неуловимых примет не распознавалась эта слабость в людях силой и грубостью. В благополучном обществе с действующими нравственными и юридическими законами эти противоположности сдвинуты, сильный становится терпимей, а слабый сильней, но как только люди выходят за установленные границы, неминуемо просыпаются самые грубые инстинкты и низменные страсти, и те законы, которые действовали в условиях «мирного» времени, становятся недостаточными не только по букве, но и по смыслу. Когда верх берет вырвавшаяся наружу грубая сила, она устанавливает свои законы, неизмеримо более жестокие и беспощадные, нежели те, которые могут применяться к ней, ее суд жестоко расправляется с тем, что зовется самой справедливостью. Ее, эту грубую и жестокую силу, начинают бояться, даже прокурор в суде заикаясь произносит вялый приговор, который тут же отменяет общественная комиссия по помилованию. Правосудие не просто нарушается – его подвешивают за ноги вниз головой, и всякий, кому не лень, с восторгом и бешенством, мстя за самую возможность его существования в мире, плюет ему в лицо.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































