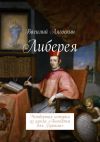Читать книгу "Анекдоты для богов Олимпа. Оглядитесь – боги среди нас!"

Автор книги: Василий Лягоскин
Жанр: Мифы. Легенды. Эпос, Классика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Эпизод третий: Казацкий император
– Так вот ты какой – тать, разбойник и вор?!
Сухощавый генерал-поручик стремительно ворвался в допросную, и Маврин, следователь, неспешно поднялся со своего стула. О генерале Суворове он был наслышан; так же, как о великой досаде этого моложавого военачальника, которая явственно читалась в его глазах. Как же – посланный самой императрицей Всероссийской, Екатериной Великой на поимку злодея и самозванца Емельки Пугачева, он опоздал. И войско мятежных казаков и примкнувших к ним башкир разбили другие генералы; и самого Емельку соратники, такие же самозваные полковники, скрутили, как барана и привезли государевым людям; в надежде на помилование.
Генерал остановился перед намертво прикрученным к полу табуретом, с которого самозваный «император Петр третий» не соизволил оторвать свою задницу. Пугачев сидел и ухмылялся прямо в лицо высокопоставленному военному – так же, как перед тем следователю. Неширокая спина Суворова закрывала сейчас кряжистого, заросшего черной с проседью бородой самочинца, но Маврин был уверен, что тот действительно ухмыляется, как и все последние дни. И что никакими словами невозможно поднять этого человека с крепкого деревянного сиденья и заставить поклониться – даже самой Екатерине Второй, окажись она тут, на задворках своей империи. Как оказалось, проницательный, умудренный опытом полицейский чин тоже мог ошибаться. Генерал Суворов нашел такие слова. Совершенно не относящиеся, на взгляд следователя, ни к этой мрачной комнате, ни к злодею Емельке, страшному в своем спокойствии, они заставили Пугачева вскочить на ноги перед генералом.
– Гражданка Иванова, как же вы смогли задержать такого опасного сексуального маньяка?!
– Утром он совсем устал, тут-то я его по голове бутылкой и ударила!
Следователь не успел изумиться: «Какая Иванова? Какой бутылкой?!». Глаза Пугачева на лице, которое показалось над левым плечом, украшенным генеральским эполетом, было заполнено такой великой растерянностью, и даже (показалось Маврину) бурно растущей радостью, что лишь они одни стали для следователя главными. Ну, еще и слова, которые были готовы выплеснуться сквозь всклокоченную бороду. Емелька действительно вытолкнул слово – единственное, и не менее загадочное, чем суворовская фраза:
– Анекдот! – жарко прошептал он.
Маврин каким-то непостижимым образом понял, что лицо Суворова, сейчас скрытое от него, расплылось в улыбке, самой широкой, какую только могло себе позволить – так же, как и злодейская физиономия самозванца. Но, когда генерал-поручик повернулся к столу, сиротливо украшенному письменным прибором и тощей стопкой допросных листов, его лицо было прежним – холодным, заполненным лишь рвением и ответственностью за порученное дело. Дело, кстати, он себе уже придумал.
– Ее Императорское Величество, матушка-государыня Екатерина повелела меня самолично препроводить вора и самозванца Емельку Пугачева в столицу, пред ее светлейшие очи. Распорядитесь подготовить его к этапированию… не позднее завтрашнего утра. Я встаю рано. К шести утра узник должен быть одетым, умытым и накормленным. Повозка приготовлена?
На его командный тон следователь ответил теперь совсем по-военному; вытянулся в струнку и отчеканил:
– Так точно, господин генерал-поручик. И телега, и клетка, в которой надлежит перевозить государева преступника, как дикого зверя.
Показалось Маврину, или нет, но на бесстрастном лице генерала промелькнула тень неудовольствия. Но в чем следователь был уверен точно, так это в том, что у двери Суворов повернулся, и прошептал еще одну удивительную фразу, явно обращенную к самозванцу:
– Думаю, что многие поездили бы на хорошей отечественной машине… Но кто ж нас пустит в город на танке?!…
Маврин завис на последнем слове, совершенно незнакомом ему. А Пугачев, напротив – словно все понял в этой фразе – чуть поклонился спине выходящего уже в дверь генерала, и тоже разразился фразой, в которой непонятных слов было не меньше:
Дальнобойщик, регулярно перевозящий водку, отличается от своих коллег железными нервами и очень грустными глазами.
Маврин не видел глаз Суворова, но о том, что тот обладает поистине железными нервами, знал. Сейчас же увидел, как прямая спина в мундире, на котором самый придирчивый взгляд не смог бы отыскать ни одной морщинки, чуть дрогнула, а потом дверь аккуратно захлопнулась, оставляя следователя наедине с преступником. Но теперь на табурет уселся совсем другой человек. Морщины на лице Пугачева разгладились, в глазах появился блеск, с каким, наверное, этот беглый казак и казачий «император» посылал свои полки на штурм Оренбурга и городков крепостной линии…
Следователь Маврин любил поспать. Но в это утро он встал необычайно рано. Передача опасного преступника конвойной команде, которую возглавлял целый генерал, не была его обязанностью; его присутствие в остроге не было обязательным. Но он примчался сюда даже раньше, чем на высокое крыльцо вывели узника, гремевшего цепями. Рядом самозванца уже ждала обычная одноосная повозка с клеткой, а не неведомый «танк». Только теперь Маврин понял, что толкнуло его на «беспримерный подвиг»; на подъем в такую рань. Он жаждал услышать еще одну, или несколько занимательных фраз, таящих в себе неведомый, но, несомненно, весьма глубокий смысл. И не ошибся.
Пугачев, сопровождаемый сразу четырьмя острожными стражниками, низко нагнул голову, и едва протиснул крепкое тело в дверцу, с грохотом захлопнувшуюся за его спиной. А там, внутри, разразился громкой бранью. Но эти грязные площадные слова Емельки, который никак не мог разогнуться в тесной деревянной клетушке, он слышал прежде, и не раз. А вот то, как Пугачев охарактеризовал свежесть раннего осеннего утра, и то обстоятельство, что генерал Суворов никак не появлялся, несмотря на обещание…
Семья садится в машину. Ребенок спрашивает:
– Почему мы не едем?
– Потому что холодно на улице, греем машину.
И тут ребенок выдал:
– Попами, что ли?!…
Наконец, появился конвой; точнее, его начальник – генерал-поручик Суворов. Сиятельный конвоир обошел упругим шагом двухколесную арбу, на которой была намертво закреплена клетка, чуть изумленно покосился на следователя, присутствия которого здесь явно не ожидал, повернулся к скорченной внутри деревянного узилища Емельки и разразился еще одной фразой. Увы, этих слов Маврин не понял. Он был достаточно образованным человеком; в силу особенностей выбранной профессии неплохо знал латынь. Но древнегреческого языка в багаже его памяти не было…
– Уси-пуси, а кто это у нас тут прячется?…
Пугачев ответил генералу тоже на языке олимпийских богов:
– Милая, я же просил… Не сюсюкай с моим членом. Разговаривай с ним, как с большим!
Они оба расхохотались, и узник, попытавшийся повернуться в клетке, отчего толстое дерево жалобно заскрипело, проворчал – теперь уже понятно для Маврина:
– Лучше бы я был поменьше. А так – ни вздохнуть, ни…
Следователь, следящий за эти удивительным диалогом вполоборота, с совершенно невозмутимым лицом, ответил ему – в душе, конечно:
– Тогда бы и клетка была меньше, тать. Тебя не на прогулку везут, а на суд, и на смерть…
Вот таким «благим» пожеланием Маврин и проводил бунтовщика и его конвоира, чтобы больше никогда не увидеть их…
А пожелание это словно провожало растянувшийся караван, в центре которого рядом с арбой ехал на коне генерал-поручик Суворов. Теперь, когда никто – даже конвойная команда – не мешала их разговору, два олимпийских бога, наконец, смогли открыть друг другу истинные имена. Но, если на признание генерала: «Я Арес», – сложенный в немыслимую фигуру бунтовщик лишь понимающе хмыкнул: «Кто бы сомневался!», то его олимпийское имя…
– Гефест! – воскликнул вслед за Пугачевым бог войны, забыв в волнении о конспирации, – какого черта ты скрывал свое имя; зачем ты поднял этот бессмысленный и жестокий бунт вместо того, чтобы припасть к ногам своей Афродиты?
– Афродиты?! – еще громче выкрикнул Емелька, заставив верховых конвойных приблизиться вплотную.
Впрочем, вероятность того, что среди них найдется знаток древнегреческого языка, была еще меньшей, чем в случае с Мавриным. Узник продолжил так же жарко, но уже не столь громко;
– Афродита! Сотни лет поисков, надежд и бесплодных мечтаний. А она, оказывается, здесь, рядом. Кто же она, Арес-воитель? И где она?! Достанет ли мне счастья в немногие дни оставшейся жизни увидеть ее?
– Кто знает? – загадочно усмехнулся Суворов, – пожелает ли Великая Императрица увидеть подлого вора и бунтовщика? Разве что одним глазом – на казнь?
– Императрица… Екатерина Великая… Кажется, брат Арес, я только теперь понял смысл одного анекдота из Книги:
– Не знаю, как у Пугачевой, а у меня на месте Галкина голова бы постоянно болела!
– Не знаю, кто такой Галкин, брат, – продолжил он, – но, судя по слухам, что доносились даже до наших степей, таких «Галкиных» у моей Афродиты немало.
Но в этом возгласе никто не смог бы распознать хоть капли ревности; Гефест – как это было прежде уже много раз – словно упивался своими страданиями. В клетке сейчас сидел не грозный атаман, а бог-рогоносец, с каким-то мазохистским упоением готовый внимать словам Суворова. А тот, к изумлению и Пугачева, и собственных подчиненных, лишь расхохотался – когда скованный по рукам и ногам вождь казацких бунтовщиков глухо застонал в своей клетке. Но только олимпийский бог, идущий (точнее, едущий на арбе-однооске) на собственную казнь, распознал в этом в этом смехе какое-то обещание.
Подобное общение продолжилось всю долгую, неспешную дорогу. По большей части это были жадные вопросы Гефеста и весьма скупые ответы генерала. Скупые – потому что суровому воину совсем не прельщала слава летописца любовных похождений императрицы. Он искренне любил; точнее боготворил эту женщину. Как Повелительницу, по слову и во славу которой с младых лет утверждал в битвах превосходство русского штыка. И сейчас с изумлением; чуть ли не с отвращением воспринимал жадный интерес Гефеста именно к этой, постыдной стороне царствования Екатерины. Наконец, он не выдержал, и обрушился с обвинением на собеседника, который, казалось, забыл в своей тесной клетушке о физической боли – так сейчас упивался страданиями душевными:
– Это ведь ты, брат, виноват во всем! Это тебя она хочет увидеть в очередном фаворите. И – пусть я навечно забуду об Олимпе – если в глубине души этой великой женщины не растет отчаяние от того, что годы ее не идут, а летят, а ты до сих пор не предстал перед ней.
Что-то пошло не так, и шаман вместо дождя вызвал проституток…
Генерал усмехнулся, и продолжил уже без надрыва в голосе:
– Твое явление действительно пролилось бы благодатным дождем на иссохшуюся душу Екатерины. А ведь ей уже скоро пятьдесят. Переписка со всеми государями; с величайшими умами – Вольтером, Монтескье, Тацитом… к чему все это? Матушка-императрица до сих пор пребывает в уверенности, что ты, олимпийский бог, скрываешься сейчас в обличье одного из великих мира сего. А ты…
– А что я? – ощерился с глухим смехом Емелька, – я тоже по-своему велик. Больше того – уже который год обзываюсь императором Петром Третьим, супругом возлюбленной моей Екатерины. Многие верили в это… кроме меня самого. А на поверку вышло, что это истинная правда. Ведь узами брака нас соединил великий Зевс тысячи лет назад…
– То-то я смотрю, что ты в своей клетке не помещаешься, – захихикал генерал, – что, рога мешают?
Суворов сжал коленями бока скакуна и послал его вперед, в голову колонны, оставив Емельку в смятении. Два дня Пугачев терзался мыслями в одиночестве, пока, наконец, поздним вечером, в деревушке Мостах, генерал не подошел к клетке, куда после ежевечернего моциона препроводили бунтовщика, и не спросил, как привык – прямо и откровенно:
– Ну что, брат, не надумал бежать?
– У меня есть предложение! Давайте в этом году проведем отпуск у моря? Возьмем жен и поедем, а?
– У меня есть предложение получше!
– Ну?
– Давайте поедем без жен!
Пугачев не ответил; не успел. Из-за избы, в которую определили на постой самого Суворова, к темному беззвездному пламени взметнулся высокий столб огня. Ни дыма, ни треска – это было фантастическое зрелище, словно рожденное волей олимпийских богов.
– Не богов, а одного конкретного бога, – проворчал чуть слышно Гефест, – вот этого, что стоит и ухмыляется в уверенности, что я приму его дар. А нужен ли он мне?!!
В следующее мгновение тишина взорвалась криками, суматохой; ветер донес до клетки и вполне тварный дым, и треск огня, жадно поглощающего смолистую древесину, а потом и топот конвойных, окруживших арбу. Коней никто вести не стал, так же, как и впрягаться вместо них в двухколесный экипаж, чтобы отвезти узника подальше от пожара. Лишь отомкнулась дверца решетки, и Емельян Иванович со стоном потянулся, в то время, как умелые руки стражников приковывали его к большому колесу арбы. Генерал махнул рукой, и они опять остались вдвоем. Арес не погнушался, присел рядом с олимпийцем. Он не смотрел в темное лицо бунтовщика, по которому мелькали сполохи совсем недалекого пожара; он ждал ответа. А еще в его руках приглашающе звякнули ключи от кандалов.
– Нет, – наконец вздохнул могучей грудью Гефест, – спасибо, конечно, брат, что ты готов рискнуть ряди меня, ради моей свободы и карьерой – и честью, а может быть и собственной свободой. И дело не в том, что жертва твоя окажется напрасной. Емельку Пугачева схватят если не завтра, то в ближайшие дни. Главное – пусть даже произойдет чудо, и я затеряюсь в башкирских степях, или за китайской стеной – это будет означать одно… Афродиту я в этой жизни не увижу. Зачем мне такая жизнь?
– Ну-у-у, – генерал попытался подбодрить его, перевести на другие, более приземленные радости тварной действительности, – у тебя ведь были… есть другие привязанности. Жена, дети…
Гефест молчал; наверное, вспоминал всех, к кому действительна была привязана его нынешняя ипостась. Жену, Софью, и троих детей от нее – Трофима, Аграфену и Христину. Нынешнюю, навязанную ему жену – семнадцатилетнюю Устю; миленькую, но бесконечно далекую. Наконец, Татьяну Харлову, вдову коменданта Нижнеозерной крепости – женщину, которая чем-то напомнила ему Афродиту, и потому оставившую в сердце бога рану, которая кровоточила до сих пор. Татьяну, капитанскую дочку, застрелили соратники; чтобы она не мешала их честолюбивым планам. Именно в тот день Емельян Иванович охладел к восстанию; практически смирился с мыслью, что в этой жизни не увидит свою тысячелетнюю любовь.
Он опять потянулся телом, которое уже свыклось с теснотой клетки, и никак не желало сейчас развалиться вольготно; потом улыбнулся. В слабых уже отсветах рукотворного пожара эта улыбка показалась Суворову страшной. Тем удивительнее были слова Гефеста:
– Нет, брат, не уговаривай. Я из своего «дома», – он кивнул на клетку, – ни на шаг!
И добавил, усмехнувшись теперь открыто, почти радостно:
«Скорее бы в шкаф!», – подумал любовник.
Полночи два олимпийских бога вспоминали прошлое – сначала общее, связанное с их тысячелетним томлением на Олимпе, а потом и раздельное; уже в тварном мире. А когда край небосвода чуть посерел, Пугачев попросил сановного конвоира еще об одной милости:
– Повели привести ко мне сына…
Генерал-поручик упруго, одним движением, вскочил на ноги – словно не просидел полночи, прислонившись к холодному дереву колеса. Он сделал шаг в направлении смутно темнеющей фигуры охранника, когда из уст Гефеста вырвалась последняя просьба:
– Арес, брат… Пообещай мне, что я увижу в этой жизни свою Афродиту.
– Я сделаю все что могу, – дрогнул голос Суворова, – и даже больше…
В Самаре генерал-поручик передал бунтовщика по инстанции, в руки многочисленных чиновников, жаждущих поквитаться с Емелькой за собственные страхи. Пугачев знал, что теперь его ждут не долгие, почти душевные разговоры, а пытки в стремлении вырвать нужные для сановников признания. Он сам был продуктом этой эпохи; сам недавно убивал, резал и жег – в том числе и такие вот ненавистные высокопоставленные рожи. Главной тайны Гефеста вырвать из его груди не смогли бы никакими пытками, так же, как и великой надежды, ради которой он пока жил…
Генерал-майор Суворов между тем гнал коня и солдат, что сопровождали его, в столицу. Он не любил оставаться в Санкт-Петербурге надолго. Напыщенная, нарумяненная и подлая толпа придворных… не то, чтобы пугала его, но опасения вызывала нешуточные. Единственное, что могло его по-настоящему его испугать – это оказаться смешным в глазах окружающих, даже таких – на его взгляд, совершенно никчемных, не нюхавших пороху. Обычно он спасался тем, что замыкался в своем внутреннем мире; если же его «выковыривали» оттуда наружу, под блеск многочисленных дворцовых свечей, на помощь приходили анекдоты из Книги.
Вот и теперь, когда перед ним в анфиладе императорского дворца остановился огромный толстопузый придворный, изрекший какую-то великую (на его взгляд) истину, совершенно не воспринятую умом генерала, Александр Васильевич смерил этого штафирку суровым взглядом, отчего тот стал внешне даже меньше сухопарого генерала, и одарил его очередным шедевром из книги:
– Ты реально как муравей!
– Почему? – в тему пискнул придворный.
– Вечно какую-нибудь фигню несешь.
– Фигню? – изумился толстяк, который в глазах генерала был как бы не мельче трудолюбивого насекомого.
– А что, сударь, – Суворов перевел разговор в русло практических вопросов и ответов, – государыня-матушка сегодня принимает?
В его вопросе все было наперекор дворцовому этикету; начиная с того, что спрашивать об этом было положено совсем у других людей. Но сановник ответил; он, очевидно, знал суровый нрав этого подтянутого моложавого генерал-поручика. Так же, как об особом благоволении к нему Ее Императорского Величества, Государыни Екатерины Второй. Может быть, был наслышан и о том, что особым указом императрицы генералу было позволено без долгих канцелярских проволочек предстать пред монаршими очами. В любое время суток… даже – страшно подумать – в императорской опочивальне, кто бы там не находился.
– Государыня Императрица в малом кабинете, – наконец, выдавил из себя громадный «муравей»; и – уже в спину умчавшегося Суворова, – только она занята. У нее Светлейший князь Григорий Александрович…
Генерал его уже не слушал. Ему задали направление «штурма», а дальше все должно было свершиться по его собственному наставлению: «Быстрота, натиск, победа!».
Его натиск не попытались удержать два гвардейца, что замерли у дверей императорского кабинета. Они тоже, скорее всего, знали об указе. Так что один из них сейчас нарушил свою безукоризненную стойку, и успел распахнуть перед Александром Васильевичем дверь, справедливо предположив, что тяжелая створка не выдержит такого безудержного штурма. Суворов влетел в кабинет, который сейчас можно было назвать скорее выставкой… человеческих, точнее, мужских тел. Императрица прохаживалась вдоль короткой шеренги из трех здоровенных мужиков. Один из них был наряжен в скромный мундир кавалергардского поручика; двое были в штатском. Пятый член этой выставочной процедуры – князь Потемкин – не отставал от Екатерины ни на шаг. Царственно-угодливый, он стал наливаться кровью в лице. Генерал знал, что светлейший князь не любит его; точнее – люто ненавидит. Суворов не был, и никогда не стремился встать рядом с государыней ближе, чем кто-либо другой. И, тем не менее – знал Потемкин – была у этих двух людей (императрицы и генерал-поручика) какая-то общая тайна, в которую не позволительно было вторгнуться никому. Даже ему – душевному другу Екатерины!
А еще – какие-то нелепые фразы, которыми обменивались эти «заговорщики», и на которые неизменным смехом отвечали зачастую лишь они сами. Вот и теперь Суворов остановился рядом с высочайшей парой, окинул быстрым взглядом трех молодцев, не смевших сейчас даже дышать, и воскликнул, ничуть не смутившись тем, что не успел еще поприветствовать ни императрицу, ни его, Светлейшего князя Российской империи, стоявшего в табели о рангах неизмеримо выше простого генерал-поручика:
– Мой мальчик такой хороший! С друзьями пиво не пьет, не кричит на меня, не матерится, не ревнивый совсем!
– Ты это. Потыкай в него палкой. Он, по ходу, мертвый.
– А у меня нет никакой палки! – расхохоталась императрица, – не кинул еще никто сегодня.
Потемкин в глубине души поморщился. Он любил, когда его Екатерина шутила… но! Единственно, когда с ним! А здесь, в присутствии этого солдафона, да еще трех «племенных бычков», которых он…
«Солдафон» грубо прервал плавный ход его мысли, без всякого почтения ткнув пальцем в большой поясной портрет императрицы, где Екатерина была представлена с многочисленными орденами и государственными регалиями:
– Я имел в виду вот такую, – крепкий палец генерал едва не проткнул полотно известного живописца, ткнув в императорский жезл.
А потом, совершенно игнорируя побагровевшую физиономию князя, заполнившегося яростью, продолжил, явно цитируя какого-то еще одно общего с императрицей знакомого:
– Девушка, можно вас на минутку?
– На минутку у меня дома муж есть.
Вообще-то официально мужа у Екатерины Второй не было. Конечно, князь Потемкин мог считать себя таковым, но… Властный жест императрицы прервал сомнамбулический сон троицы, погнал их строевым шагом из кабинета. Потемкин попытался было задержаться, выдернуть из рукава несуществующую торчащую нитку, но бросился следом за молодцами, едва не вытолкав последнего в спину, когда Екатерина процедила сквозь зубы: «Вон!». Процедила так властно, словно тут сейчас стояла не женщина, в которой несчастный царедворец знал каждый изгиб роскошного тела и (как он прежде безосновательно предполагал) души, а настоящая богиня!
Знал бы Григорий Александрович, насколько сейчас он был близок к разгадке тайны императрицы! Потому что в кабинете друг напротив друга стояли два бога – воинствующий во все времена Арес с хитринкой, какой-то новой тайной во взгляде, и нетерпеливая от ощущения предстоящего чуда Афродита. Богиня Любви и Красоты не выдержала первой:
– Ну, говори! Не томи! Я же вижу, что ты принес мне весть, которую я давно жаждала услышать.
– Это он! – выдохнул лишь два слова Суворов.
А великая императрица закружила в танце, как малая девчонка Фике еще в своем, маленьком родительском доме, который весь поместился бы в одной главной зале Зимнего дворца.
– Да, – подтвердил еще раз генерал, – подлый бунтовщик Емелька Пугачев суть Гефест, олимпийский бог и твой супруг в вечности. И своей главной целью в жизни теперь считает увидеть тебя, Афродита. Хоть одним глазом.
– Ах! – вскричала обычно такая спокойная и властная Екатерина, – ну почему… почему судьба так немилосердна к нам? Почему он не появился десять, двадцать лет назад. Как я теперь предстану перед ним такой… безобразной и страшной старухой?!
– Не наговаривай на себя, матушка, – генерал с улыбкой остановил этот во многом притворный порыв женской души, – ты по-прежнему великолепна. Во все времена ты была и остаешься богиней Любви и Красоты. Обладать которой почел бы за великое счастье любой – и на Олимпе, и в тварном мире.
– Кроме одного, – императрица стрельнула в его сторону глазками.
Это действительно было истиной, непонятной никому; в том числе князю Потемкину. Великая императрица и молодой генерал были лишь душевными друзьями; это было инициативой Суворова, для которого существовала лишь одна женщина – Победа. Так что попытки Екатерины нанизать этого сурового воина на длинную нить своих возлюбленных давно превратились в своеобразную игру двух богов. Вот и теперь императрица притворно вздохнула, выпятив вперед свой по-прежнему аппетитный бюст:
– Главное в этой жизни – не сдаваться!
– А я бы с удовольствием кому-нибудь сдалась.
– С удовольствием – это другое дело.
Генерал лишь улыбнулся, а Екатерина поспешила объяснить:
– Это я про нас с Гефестом. Знал бы ты, как я жажду увидеть его… хоть на краткий миг. Потому что по-прежнему уверена – наша с ним любовь может гореть лишь на расстоянии. Окажись он рядом со мной больше, чем на один день, и эта любовь сожжет нас. Или хуже того – остынет… навсегда. Но я все равно хочу увидеть его. И я его увижу!
– Это, матушка, не ко мне, – пробормотал с низким поклоном Суворов, опять превращаясь в воина, человека, далекого от придворных интриг, – взять штурмом крепость – это я всегда пожалуйста, а кланяться и улыбаться таким вот…
Он кивнул на дверь, за которой – Суворов был уверен – изнывал от нетерпения и ярости Светлейший князь Потемкин. Он действительно стоял там, чуть в отдалении от дверей, готовый заскочить к своей Фике. Увы – генерал улыбнулся шире, чем в кабинете государыни – сейчас в Зимнем дворце правила не Екатерина Великая, и не Фике, а божественная Афродита. Это ее повеление передал Суворов гвардейцам:
– Матушка-императрица повелела никого не впускать к ней.
Проходя мимо скрежетнувшего зубами Потемкина, он еще и отчеканил; словно бы в никуда:
В любом доме у женщины всегда есть отдельная комната, где она делает все, что хочет: хочет – борщ варит, хочет – посуду моет…
Глаза князя теперь полезли на лоб. Он точно знал, что Фике никогда в жизни не мыла посуду; по крайней мере, с тех пор, как водрузила на голову императорскую корону. А генерал-майор Суворов прошел мимо, вычеркивая из жизни эту страницу. Он сделал все, что мог, для олимпийских родичей, и теперь их судьба была в их собственных руках. Точнее, в нежных ручках Афродиты.
Екатерина действительно встретилась с Пугачевым – один раз, как и обещала себе. Емелька – отмытый, переодетый в чистые, не окровавленные одежды и аккуратно постриженный, встретил Афродиту исхудавшим, с черными кругами под косматыми бровями. Но богиня видела лишь его горевшие от счастья глаза; она и сама была счастлива, как никогда в этой жизни. Они почти не говорили – им не хватало слов, чтобы рассказать о тех годах и десятилетиях, что разлучали их. Вместо слов говорили руки, с жадностью узнававшие совсем незнакомые черты и изгибы тел, и плоть, впитывавшие магию телесной любви впрок – до новой встречи, которую каждый из них начнет неистово жаждать, как только императрица выйдет в двери каземата. Она задержалась на мгновение, прежде чем склониться перед низкой притолокой и одарила Гефеста напоследок еще и анекдотом:
Если красивых женщин вокруг намного больше, чем обычно, значит, с утра у тебя будет болеть голова…
Императрица вспомнила эти строки из Книги, оказавшиеся пророческими, на следующий день, когда ей принесли на утверждение вердикт суда. В отношении главного преступника, ее Гефеста, были начертаны страшные слова: «… четвертовать, голову воткнуть на кол, части тела разнести на четыре части города, и положить на колеса, а после на тех местах сжечь». Недрогнувшей рукой императрица размашисто расписалась. А совсем скоро, в морозный январский день, Емельяна Пугачева прилюдно казнили. Самозванец знал, что смерть его будет безболезненной – ведь это без всякой просьбы с его стороны пообещала российская самодержица. Но он предпочел бы претерпеть в этот момент все муки ада, лишь бы в одном из окон дворца, задернутых тяжелыми полотнищами, показалось лицо Екатерины-Афродиты. Увы, его сознание, прежде чем померкнуть навсегда, отметило лишь, как одна из занавесей чуть заметно дрогнула. Именно в это мгновение умерла и Афродита. Двадцать лет после этого январского утра Российской империей железной рукой правила Екатерина Великая. О прошлом; даже об Олимпе, она запретила себе вспоминать. И генерал, затем фельдмаршал Александр Васильевич Суворов был осыпан милостями императрицы; чинами и орденами, но – в отдалении от двора. Чему он, кстати, был несказанно рад.
Екатерина не пугала больше князя Потемкина, и многочисленных фаворитов анекдотами. Лишь на смертном одре, окруженная ближним кругом, она, глядя куда-то в немыслимую даль сквозь наследника, Павла, на удивление четко произнесла:
Полночи ждала мужа, волновалась… Потом вспомнила, что не замужем, успокоилась и уснула.
Великая императрица уснула навсегда.