Текст книги "Кавказские евреи-горцы (сборник)"
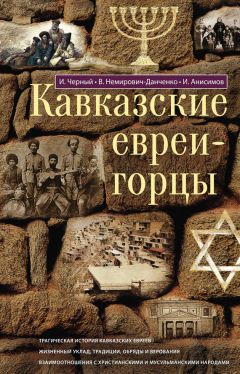
Автор книги: Василий Немирович-Данченко
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
– Что ж, пора? – обратился ко мне Магомед-оглы.
– Куда торопиться? Разве тебе здесь нехорошо?
Старик прищурился на солнце, сверкавшее сквозь виноградные сети. Зевнул.
– Вечером можем выехать.
– Тогда придется заночевать в пустом ауле.
– В каком это?
– Да тут по дороге. Все, кто жил в нем, выселились в Турцию.
– Переночуем и там.
Серая ящерица быстро пробежала по земляному полу галерейки, оставляя за собою извилистый след и как-то широко расставляя лапки. Еще быстрей мелькнуло мимо красивое лицо Махлас, обдав меня на бегу целым водопадом огневых взглядов. Вон ее голос замирает уже где-то далеко-далеко. Точно какие-то музыкальные ноты относит ветер в сторону. А солнце еще ярче пронизывает колеблющуюся стену виноградных лоз, еще изумрудную…
Сильнее пахнет жасминами и гиацинтами. Чувствуешь, как кровь приливает в вискам от этого одуряющего запаха.
– Куда ты едешь теперь? – обратилась ко мне Махлас.
– Далеко!
– В большие аулы? А там, должно быть, весело, в больших аулах. Сказывают, дома там до неба, а башни так выше неба.
– А тебе тоже хотелось бы туда?
– Еще бы. Здесь скучно. Братья все уезжают. Одна старуха тетка, да и та больше ругается да дерется.
– Вот замуж пойдешь, тогда попроси мужа в Тифлис тебя свезти.
– А что такое Тифлис?
– Большой аул.
– Оттуда к нам шелковые платья возят? И кольца оттуда? Вот хорошо, должно быть, там. Только в больших аулах, говорят, и большие начальники есть. Впрочем, бояться нечего. У меня муж будет богатый. Двести баранов у него.
Вскоре жара спала. Я простился с гостеприимными хозяевами и пустился в путь. Махлас долго провожала меня глазами.
– Как здешние евреи ладят с русскими? – спросил я Магомеда.
– Они горцев больше держатся. Русские хуже их. Русские деньги больше их любят. Русские «расхаживают теперь на нашей голове».
– Да разве вам при русских хуже, чем прежде, что вы проклинаете нас?
– Как тебе сказать? Прежде, положим, и не так безопасно было. Ни шамхалы таковские, ни уцмии хайтагские, ни ханы кази-кумухские не обращались с нами так. Но те были орлы между орлами. Хоть и захлебывали, да все же свои! А теперь вот солдат правит у нас всем. В курятник сесть коршуна ведь не загонишь, хоть там и проса вдоволь! Опять же Аллах знает, что у вас на уме. Слыханное ли это дело, чтоб победители так обращались с покоренными? Вы нас не грабите, не уводите детей и жен наших в плен, значит еще что-нибудь более страшное задумали. Значит, тут есть хитрость какая-то. Не дураки же мы, чтобы не понять этого. В ауле всякий мальчишка знает, что русские задумали какое-то дурное дело и хотят усыпить нас теперь, чтобы врасплох застать! Теперь в одном ауле хлеба не хватило – русские хлеба дали. Разве враги так делают спроста? Прежде аул рассеялся бы по всему Дагестану подаяния собирать, а тут на местах остались. Нет, нас этим не обманешь. Вы вон и сихру[2]2
Сихра – наука, дающая средства все узнать и все делать.
[Закрыть] знаете. Вы, как древние пираваны[3]3
Фараоны.
[Закрыть], чудеса колдовством делаете. Неужели же такие величайшие грешники на добро способны? Мы, разумеется, будем жить мирно, пока вы своего хвоста не покажете. Оставьте нам оружие и не берите нас только в солдаты.
– А если и вас станут в войска записывать?
– Все уйдем в Турцию. Мы любим свои аулы. На несколько дней уедешь – и то тоска берет, но если на нас шинель наденут, мы уйдем от вас.
Это я знал и без Магомеда-оглы. Еще Гаджи-Мурад-Амиров в 1873 году рассказывал, что только одни слухи о запрещении носить оружие и о рекрутском наборе заставляют горцев массами переселяться в Турцию, несмотря на их редкую привязанность к родине. «В их глазах перед солдатской службой самый ад – ничто, хотя мухамеданское пекло похуже дантовского».
Вот как, например, плакался один переселявшийся в Турцию:
– Меня не ждут там богатство и радость, но если бы и ждали, то и тогда я не был бы счастлив. Да и можно ли быть счастливым, когда человек покинул родной аул, своих соотечественников, друзей и родных; когда не имеешь возможности посещать могилы своих отцов в пятницы и в день великого Байрама и сидеть в кумае на досуге!
И, зная, что их встретит там нищета, они все-таки уходят сотнями и тысячами.
Глава 4
Оставленный аул
На окрестные горы ложатся синие тени вечера. По местному еврейскому обычаю, Бениогу отправил двух своих сыновей сопровождать нас до ночлега. Молодежь весело перекликается, забавляясь эхом, болтает с важным и серьезным Магомедом-оглы и на скаку стреляет в ласточек, закружившихся в воздухе.
Мы едва пробираемся по дну Кай-Булагской щели. Направо и налево, то стесняя нас, так что мы проезжаем гуськом, то расширяясь, высятся почти отвесные стены. Зелень треплется на них редкими пятнами, горбины и плоскости камня изорваны черными трещинами, где гнездятся ящерицы и до сумерек неподвижно держатся серые совы. Внизу, по самому дну щели, едва-едва сочится вода, с камня на камень, с уступа на уступ, чистая, холодная.
– Где же это грохот воды слышится? – заинтересовался я.
– А другой большой рукав есть. Он вон в ту косую щель ушел, там и бурлит, ворочая камни.
В одном месте нам пришлось проехать сквозь небольшой каскад. Щель тут сужалась, так что издали казалось невозможным пробраться в это игольное ушко. Мы направились туда гуськом. Там, в этой скважине, сверху вниз обильным дождем сыпался ручей студеной воды.
Нас обдало с ног до головы, потому что свернуть было некуда.
– Как не отведут ручья куда-нибудь в сторону? – заметил я.
– Христиане не позволяют. Захотели мы раз очистить дорогу, столько шуму вышло!
– Это отчего?
– Да, говорят, святая Нина нарочно ручей тот пустила. Креститься не хотели здешние евреи, ну так она и сделала чудо – кто ни проедет, всех этою водою окрестит. Хочешь не хочешь, а брызнет. Поневоле! Прежде евреи этой дорогой вовсе не ездили. Горами шли.
– Это неправда! – вставил Магомед-оглы. – Дело иначе было. Окрестный народ давно-давно креститься думал. Только реки не было такой, чтобы в нее погрузиться могли. Ну, святая Нина и велела этому ручью выйти. Кто хотел крещение принять, проезжал Кай-Булагскою щелью. Святой ручей называется.
Христианские предания живут еще в этой давно омусульманившейся стране. Развалины христианских храмов встречаются повсеместно, и окрестное население относится к ним с суеверным страхом. Шамиль хотел было через своих мулл уничтожить эти развалины, но ни проповеди, ни приказания имама не могли побудить народ разбросать уже нестройные глыбы тесаного камня, разбить следы алтарей и истребить кресты, оставшиеся на стенах. Народ боялся мщения Мириам – и верил, что, разорив остатки храмов, он озлобит горных духов, живущих в этих красивых руинах. Как бы ни была плоха погода, иди хоть проливной дождь, мусульманин не станет искать защиты под кровлями и сводами этих церквей. Мне не удалось видеть самому их, но рассказы окрестных жителей рисуют необычайно дикие картины горных трущоб, где таятся развалины. В них только и находит убежище смелый разбойник, которому гораздо страшнее погоня нукеров, чем обители горного духа. Туда же забираются молодые пары, играющие свадьбы «уводом».
Евреи относятся к этим храмам с меньшим страхом, но все же трогать их не решаются. Вообще кавказский горный еврей не питает вражды к христианству. Невежественные раввины его, поддерживая только обрядности Моисеева закона, чужды фанатизма и исключительности остального Израиля. Кроме христианских храмов, особенно уважаются древние священные рощи. В их заповедную глушь проникают с религиозным благоговением. Тут царит вечное молчание, и громкий голос человека не осмеливается резко нарушать этого спокойного сна вековечных великанов, переживавших целые племена, давно исчезнувшие с лица Кавказа перед нашествием более сильных и мужественных дружин. В тени этих великанов некогда воздвигались капища неведомым богам, потом древние семиты домоисеевой эпохи совершали здесь свои таинственные служения. Наконец, тут же царил культ Молоха до тех пор, пока эти священные рощи не огласились гимнами христианских проповедников, смененных, в свою очередь, проповедниками и вождями ислама. Так же молчаливы, как тогда, так и теперь, заповедные дубровы, и такой же покой царит под их сводами. Солнце редко проникает в сырые чащи, где только шорох дикого зверя да робкое пение мелкой лесной пташки оживляют безмолвные могилы павших религий и исчезнувших народов.
Часто на дне Кай-Булагской щели лежали громадные скалы, сорвавшиеся сверху. Объезжать их было трудно и не безопасно. В одном месте недавно оборвавшийся утес стеной перегородил дорогу. Пришлось спешиться с лошадей, взять их под уздцы и с трудом, медленно переправить их на другую сторону, рискуя на каждой пядени камня, и особенно при спусках, сломать ногу коню или себе шею. А там опять новый сюрприз. По ветру нас обдало невыразимым смрадом. Магомед-оглы и тот закрыл нос. Мне трудно было дышать, но пришлось пересилить отвращение. В одной из теснин оказался разлагающийся труп лошади. Целая стая воронья разом поднялась, точно вспыхнула, когда мы подъехали к этому неожиданному препятствию. Сверху доносились к нам пронзительные крики потревоженных хищников, в боковой теснине выл голодный шакал, а впереди уже сгущались серые клубы ночной мглы.
– Пожалуй, и ночь скоро?
– Да. Ущелью конец недалеко.
– Значит, еще засветло доберемся.
Мгла становилась все гуще и гуще, редея на более широких площадках.
Евреи запели унылую песню, странно гармонировавшую с пустынной и мрачной обстановкой ущелья. Точно в хор этому меланхолическому рокоту воды по дну теснины раздавался шелест ветра, лениво пробиравшегося сквозь кай-булагские дефилеи к счастливой и только что оставленной нами долине.
Мои спутники – дети Бениогу – были из числа «образованных евреев».
Здесь, где масса Израиля невежественна до крайности, умение читать уже считалось образованием. По словам Иуды Черного, в древности среди кавказских евреев было много ученых. Даже талмудские толкователи Нахум Гамабай, то есть мидийский, жил в старой Шемахе в Ширване, и Симон Шафро, то есть ученый, писатель, родился в Дербенте. В то время народ находился на гораздо высшей степени умственного развития. Иуде Черному только в Дербенте попался раввин, знающий древнееврейский язык, остальные раввины не имели о нем и понятия.
– Умеете ли вы говорить по-древнееврейски?
– Моя амлаярец (я неграмотный), – отвечали ему всюду.
Большинство евреев не знают и местной грамоты, почему они зависят от мусульманских мулл, которые пишут им письма и разные бумаги. За это муллы получают от общества годовое жалованье. Вообще ни евреи к мусульманам, ни мусульмане к евреям не чувствуют здесь никакой вражды. Они отлично уживаются друг с другом, причем татарин с гораздо большим пренебрежением относится к христианину, чем к еврею. Солидарность, существующая между муллами и евреями, доказывает, что здесь неизвестно катальное устройство, подтачивающее народное благосостояние западного края к выгоде тамошнего Израиля.
Евреи на Кавказе, и именно горские, – то, чем они должны были бы быть везде: не обособленная, в исключительное положение поставленная община, а полноправные, сливающиеся с общею массою населения люди, полезные труженики и производители. У нас еврей-земледелец нечто вроде сиамских близнецов, двухголового соловья и других чудес. Там евреи занимаются мареноводством, возделывают фруктовые и виноградные сады, для чего не довольствуются собственными землями, но, расширяя свое хозяйство, арендуют участки у окрестных владельцев. Они же разводят низкие сорта табака, выделывают превосходное оружие, а в последнее время в широких размерах занялись овцеводством. Если хотите, и наши евреи занимаются тем же, но через рабочих крестьян. Черный труд им не по душе.
Кавказский еврей везде работает сам, и с заступом, и с мотыгой, и с киркой. Поэтому они и на вид смотрят молодцами и красавцами, и окрестное мусульманство к ним относится с полным уважением, и в грязи страстей не гниют, и ростовщичеством и гешефтом не занимаются ввиду более производительного и честного труда. Не ясно ли, как глупо упрекать Израиль, что высасывание жизненных соков из окрестной среды в крови у него, что еврей – ростовщик и плут по природе? Таким он является только там, где целые века его терзали отчуждением, давили презрением, сплачивая в нем искусственно страшную силу племенного эгоизма и прививая к нему катальные добродетели. Там, где евреи жили в иных условиях, как, например, на Кавказе, они являются и честными, и полезными людьми. Весь народ дурным не может быть, а только дурные люди могут кидать тень на массы.
Еврейские училища здесь помещаются в саклях вблизи синагог. Несмотря на незначительное число учащихся (по 15 на 200 домов), сакли и тесны, и грязны. «Раввин сидит на земле и на ковре, а вокруг все мальчики. Вместе со своим учителем они кивают головой, читая молитвы или Библию. Печатные еврейские азбуки у них редко бывают, большею частью раввины рисуют на таблицах буквы, алфавиты, и дети учатся читать и писать с этих прописей. Все они пишут на колене, по мусульманскому способу, к чему так привыкают, что на столе им работать и трудно, и неудобно. Самое большое училище находится в Дербенте; оно и чисто и просторно. Оканчивающие здесь курс получают свидетельство на звание раввина или резника. Остальные же школы в Грозном, Хасавюрте, Темирхан-Шуре и деревнях в весьма жалком виде».
Кай-Булакская щель как разом началась, так же разом и кончилась узким выходом в нагорную долину. Мы оставили внизу густые туманы и по узкой тропинке поднялись на ближайшую вершину. Ясный месяц уже стоял над плоскогорьем, серебрившимся вдали; серебрилась и мгла внизу, серебрились и скалы под его ласковыми лучами. Только глубокие долины казались черными падями там, где туман не заполонил их совсем.
– Хороший аул был!
– Что, где? – опомнился я.
– Куда едем… Большой аул был… Теперь пустеет.
– Неужели никого не осталось?
– Ну! Кому и быть? Целым джамаатом поднялись люди и пошли. Большая часть саклей разрушена теперь, другие сожжены.
– Кто ж их жег, горцы?
– Горцы? – И Магомед-оглы с негодованием оглянулся на меня. – Разве мы станем жечь колыбели наших детей и могилы своих отцов? Под этими кровлями росли мы сами, кто ж решится уничтожать их? Пусть ветер да дождь уничтожают, пусть их время рушит. Старость для всякого есть, как для человека, так и для сакли! Нет… во время войны сожжено… Много аулов сожжено было… Аулы уничтожены, разрушены, сожжены… А те, кто жил в них, давно на чужбине, и ни следа от них, точно их и не было.
Только десятая часть выселившихся в Турцию горцев осталась в живых. Все остальное погибло рассеянное, изголодавшееся. Ни в чьих преданиях, ни в чьей песне не останется памяти об исчезнувшем народе, и скоро, проходя мимо его могил, мимо этих безмолвных и безлюдных аулов, никто не будет знать, какая жизнь кипела на этих обрывах, под этими плоскими кровлями, какие сердца бились там и каких суровых драм были молчаливыми свидетелями эти раскидистые дубы и каштаны. А между тем легендой без слов, духом легенды веют эти каменные вершины, так красиво вырезавшиеся на лунном свете, эти темные и серые ущелья, эти заповедные леса. И только когда из массы дикой поросли вдруг вырвется нежданно благоухающий розовый куст и аромат белых лилий встретит вас в чаще боярышника и плюща, – вы поймете, что здесь когда-то жило целое племя, сильное и мужественное, – племя, разом исчезнувшее с лица земли, как исчезает дым, рассеиваемый ветром, как исчезает тень от тучки, пробежавшей по небу, как исчезает зыбь на морском просторе. И тихо колышутся эти чудные цветы, и едва-едва шелестит их листва, точно робко жалуется она вам на эту стихийную смерть, смерть целого народа.
Тропинка круто свернула направо, теперь нам пришлось ехать в тени. Лунный свет ярко бил на обрывистый спуск с горы, вырывая его из мрака. В одном месте он делался отвесным. Громадные массы камня, точно сложенного здесь циклопическою стеною, падали вниз вертикально, серебрясь и выступая на свет каждою своей выпуклиной, каждым углом и изломом. Отвесная стена скоро переходила в выпуклую, она уже висела над долиною. Страшно было смотреть на эту горбину, думалось, вот-вот и она рухнется вниз всею своею грузною, тяжелою массой. И вдруг я приостановил коня и с чувством, близким к восторгу, уставился на эту твердыню.
Прямо на ней, на этой горбине, висевшей над долиною, точно гнезда ласточек висели сакли. Кто и как их прилепил сюда? Голова кружилась еще внизу, что же должно быть там, на этом словно вздрагивающем карнизе? Прямо с отвеса горы выступала плоская кровля и упиралась в такой же выступ пола. Кровля поддерживалась деревянными столбами, пол был утвержден на балясинах, укрепленных вкось в расщелины скалы. Это была только галерея, веранда, балкон. И таких балконов были сотни, прямо из горы, прямо на отвесе. Самое жилье или выдолблено в скале, в отвесе, или вровень со стеною отвеса возведено над карнизом. Ласточкины гнезда под кровлей колокольни, гнезда, свитые на стенах развалин, жилье каких-то воздушных существ, птиц, что ли, – короче, что хотите, только не аул, не село, не обитель человека. Что-то волшебное, призрачное, одуряющее, что-то похожее на сон, далекое от действительности. А этот лунный блеск, выхватывающий ласточкины гнезда из мрака, этот лунный свет, который точно курится на их плоских кровлях, свет, обращающий деревянные жерди в серебряные колонны, разделившийся камень – в матовые глыбы, свет, на котором только черными трещинами или зевами кажутся входы в сакли и окна их… А еще выше, над этим воздушным аулом, над этими гнездами, унизавшими выдавшийся карниз, величаво дремлют голубоватые вершины гор, подернутых серебряною пылью, крутые, безлюдные, скалистые. Едва-едва ложатся на них тени от впадин и склонов, но этот общий колорит без оттенков, однообразный, рисующий только их профили, делает их еще величавее, еще грандиознее.
Смотришь – и тянет туда, и манит, и в то же время кружится голова и замирает сердце. И чудно-очаровательным кажется царство этой лазурно-серебряной ночи. И жаль дернуть уздечку, жаль ступить вперед на шаг, жаль потерять из глаз этот поэтический сон! Ведь знаешь, что с новым поворотом такой же величаво-прекрасный пейзаж развернется перед тобою, но больно расстаться с этим, к которому привязалось сердце, как будет больно расстаться с тем, который встретит меня на повороте.
– Что это? Какой аул?
– Там ночевать будем.
– Значит, это-то и есть безлюдный, оставленный поселок?
Магомед-оглы кивнул головой.
Идти туда, в эту могилу исчезнувшего народа? Да, это достойный памятник ему, грандиозный мавзолей эти гордые, траурные вершины!
И ведь нигде ни звука: точно притаилась ночь и ждет чего-то. Точно вся замершая от восторга, любуется окрестность на яркий месяц, а месяц, весь исходя лучами, любуется на нее. И смотрят они в глаза друг другу, и нет предела их красоте, нет конца их поэтическому счастью.
Прошел час – мы все ехали, прошел другой – тоже! А аул все там же лепится в стороне. Как-то мы доберемся до него, как? Ничего теперь ясно не помню. Точно сон виденья – позабыл его.
Представляется только мне, как мы зигзагами подымались вверх по горе, то направо, то налево. Точно в тумане видится впереди фигура Магомед-оглы, то сливающаяся с контурами окрестных скал, то вся выступающая на лунный свет, сгорбленная на малорослой горской лошаденке, стук копыт которой дробится в ушах, один нарушая мертвое безмолвие пустыни, окружавшей нас. Евреи давно отстали и вернулись домой; в горах я был один, – один с моим молчаливым спутником, плотно завернувшимся в бурку. Мне тоже не хотелось говорить, зато думалось и грезилось много.
Помню только, что по сторонам зияли бездны; там курился белый пар. Какое-то озеро блеснуло и опять снова покрылось тьмою, новые клубы мглы захоронили его. Черт знает, что за скалы вставали перед нами, точно сторожевые великаны, преграждавшие путь к сокровищам или заколдованным долинам.
Подымались, подымались, и когда я опомнился, когда я огляделся – оказалось, что аул, ласточкины гнезда, дразнившие воображение там снизу, оказались далеко под моими ногами, далеко так, что их и разобрать было трудно; только напрягая зрение, я различал плоские четырехугольники кровель, блиставшие точно серебряные дощечки. Мы, следовательно, зигзагами поднялись выше аула, выше тех свал, на которых лепятся его воздушные сакли. Нужно было спуститься вниз осторожно, медленно, соразмеряя каждый шаг лошади.
Крутизна была необычайная. Конь почти сползал на передних ногах, вытянутых и упиравшихся на всякую неровность по дороге. Он поминутно храпел и помахивал головою, точно предупреждая меня об опасности. А действительно, промахнись тут только – и костей не собрать!.. Даже страшно было долго смотреть вниз. Тут начинались откосы, о которых говорил я, и пропасть, точно пасть какого-то чудовищного, сказочного зверя, зияла под нами, беспощадная, поджидающая, притаившаяся, оскалившая свои зубы-утесы, словно челюсть, расположенная по ее окраинам. Теперь приходят сравнения в голову, а тогда не до того было. Просто замерло все и упало внутри. Даже Магомед-оглы, на что уже человек привычный, а и тот уткнулся в свою бурку и ни слова!.. Значит, и ему жутко стало, и ему, старому горному волку, не по себе.
Наконец мы поехали вдоль карниза.
Встревожили горного орла, мирно отдыхавшего в выбоине старого утеса. Поднял недоуменно голову старый хищник и, подпустив нас шагов на пять, медленно расправил крылья и грузно поднялся на ближайшую скалу, откуда долго еще провожал нас его недовольный клекот.
В одном месте тропинка разрывалась. По карнизу прошла трещина поперек его. Вот тут в тумане или когда туча на утес уляжется, спокойная и непроглядная, – беда! Трещина шириною аршина полтора, внизу – пропасть. Конь подобрался и как-то боком перешел ее. Я даже и не смотрел вниз – голова могла закружиться. Карниз, как оказывается, висел над бездной, выдвигаясь сплошным большею частью плитняком. Точно мы в магометанский рай пробирались по узкому, как острие сабли, мосту. Наконец прямо перед нами блеснули мазанки и сакли оставленного аула, точно кладбище, безмолвные и печальные. Ни собаки, ни человека. Только в камнях шуршит змея да сброшенные копытами наших лошадей камни пересчитывают всю неровность откоса, дробясь на тысячу сухих, словно щелкающих звуков.
– Смотри не попади с лошадью куда-нибудь в саклю. Ненадежные сакли-то. Кое-где устои расшатались. Пожалуй, еще рухнешь вниз вместе с саклей!
Мы добрались до сравнительно широкой площадки. Посредине была куча камней и мусора. Из нее приподымалась только половина разрушенной башни.
– Мечеть была, – сухо проговорил Магомед-оглы. – Ваши взорвали. Вон что осталось, – махнул он рукою на щебень и камни, сумрачно отвертываясь от меня в сторону. Ведь во мне все-таки являлся перед ним один из исконных врагов его народа, один из тех счастливых победителей, что разрушили его мечети, истребили и сожгли его аулы, а братьев его изгнали на далекую, неприветливую чужбину. Этого ж горское гостеприимство выдержать не могло. Понятно, что и Магомед-оглы, под влиянием разом нахлынувших впечатлений, не хотел говорить со мною.
Внизу и рядом лепились ласточкины гнезда-сакли… Вверху возносились в недосягаемую высь гордые вершины. А мы, точно мухи, цеплялись по этим откосам.
Наконец место для лошадей найдено, хоть им до утра придется довольствоваться только тем сеном, которое было с нами.
Их нельзя было стреножить и пустить – оборвались бы в пропасть. Мы сами чувствовали себя не совсем бодро. Хоть гора эта и карнизы ее держатся целые века, но, сообразив, как они висят над бездонным провалом, я невольно задумался: «А что, как сорвемся и с этими ласточкиными гнездами, и с этим ненадежным пьедесталом аула?»
Мы действительно были уже в оставленном ауле.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































