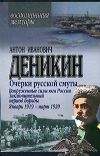Текст книги "Поля Елисейские. Книга памяти"
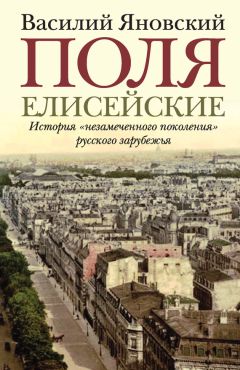
Автор книги: Василий Яновский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 26 страниц)
– Я не порицаю его, – говорил, волнуясь, Осоргин, закуривая очередную папиросу с русской гильзой, – он прав! Что бы он делал здесь глухой, в этом возрасте? Клянчил бы в Союзе литераторов?
После панихиды я очутился в обществе двух странных поэтов: Кобякова и Михаила Струве. Объединяла их необычная черта – оба уже пытались кончить самоубийством, но их как-то отхаживали. В «Последних новостях» даже напечатали некролог Андрея Седых, посвященный М. Струве.
– Ошибся маленько Болдырев! – сказал, будто крякнул, Кобяков, и его огромный кадык на тонкой шее дернулся, словно клюв. – Пяти минут не рассчитал Болдырев!
– Да, – рассеянно согласился Струве. – Я тоже так понимаю.
Спорить с этими специалистами не хотелось; что-то их пугало и обижало в решительном прыжке Болдырева.
Таким образом, вся серия «Новых писателей» фактически свелась к одному Яновскому, и Осоргин сохранил некую отеческую нежность ко мне. Дал все адреса своих переводчиков, и в итоге «Колесо» начали переводить. По-французски оно вышло под заглавием: “Sachka l’Enfant gui a Faim”. Только с течением времени, получив некоторые «мертвые» указания от других писателей, я смог оценить услугу Осоргина.
По его совету я послал «Колесо» Горькому в Сорренто и получил он него два письма, вскружившие мне голову.
В Монпелье однажды Александр Абрамович Поляков, которого я посвящал в тайны белота, передал мне пакет черных маслин, присланных ему Осоргиным; сам Поляков этих залежавшихся оливок не мог или боялся есть.
Я маслины использовал вполне, вымочив их предварительно в вине, и черкнул Осоргину несколько слов благодарности. Получил в ответ длинное письмо – это была наша последняя «встреча».
В Нью-Йорке я узнал о его кончине. Радуюсь, что он умер в родной Европе, в виду Луары, под благословенным галльским небом. Осоргин любил описывать прелести родной Оки или Камы. Но жил он на тех берегах едва ли больше десятка лет. И есть у меня думка: Осоргин в Москве завыл бы от тоски. (Как и многие подлинные эмигранты: Герцен, Тургенев, Гоголь – все разные и в чем-то схожие.)
Мне кажется, что большинство безобразий в истории России объясняются ее отвратительным климатом. Поэты обманывают обывателя, воспевая снега, и мороз – красный нос, и лихую тройку с бубенцами, и жаворонка (высоко, высоко) в синем небе. А ведь, вообще, господа, паскудно жить в России – метеорологически говоря!
Кстати, периодический голод, поражающий Русь (как и Китай) со времен Ивана Калиты до Никиты Хрущева включительно, пещерный голод этот объясняется в значительной мере ее климатом. Подумайте, друзья, ведь есть страны, где собирают ежегодно по два-три урожая. (И березку там не почитают как священное деревцо.)
На Пасху я получил письмо от Алексея Михайловича Ремизова – в ответ на мое «Колесо». Трудноразбираемая, своенравная кириллица удостоверяла: «У Вас есть лирика, без нее не знаешь, как прожить на этой земле…» Затем следовало приглашение: такой-то день, такой-то час.
Все воспоминания о Ремизове начинаются с описания горбатого гнома, закутанного в женский платок или кацавейку, с тихим внятным голосом и острым, умным взглядом… Передвигалось это существо, быть может, на четвереньках по квартире, увешанной самодельными монстрами и романтическими чучелами. Именно нечто подобное мне отворило дверь еще в доме на Порт-Руаяль и проводило в комнаты.
Но увы, чувство неловкости зародилось у меня тогда же и только росло, увеличиваясь с годами. Часто, часто я просто не мог смотреть Ремизову в глаза, как бывает, когда подозреваешь ближнего в бесполезной и грубой лжи. Сперва неосознанным образом, но постепенно все определеннее я начал понимать, что именно раздражает меня в Ремизове и в его окружении… Какая-то хроническая, застарелая, всепокрывающая фальшь. По существу, и литература его не была лишена манерной, цирковой клоунады, несмотря на все пронзительно-искренние выкрики от боли.
В этом доме царила сплошная претенциозность… Вечные намеки на несуществующие, подразумеваемые обиды и гонения. Все «штучки» Ремизова, вычурные сны и сказочные монстры в конце концов били мимо, как всякий неоправданный вымысел. Он быстро заметил перемену во мне и перестал надоедать своими рисунками, снами и неопределенными намеками. Стал гораздо откровеннее, проще и ближе.
Любопытно, что приблизительно через такое же разочарование прошли многие наши литераторы, вначале обязательно влюблявшиеся в Ремизова: иные даже кончали подлинной ненавистью, не вынося этой ложноклассической атмосферы.
В конце двадцатых – в начале тридцатых годов Ремизов был кумиром молодежи в Париже. А через несколько лет о нем уже все отзывались с какой-то усмешечкой и редко к нему наведывались. Как ни странно, о Ремизове часто отзывались таким образом:
– Вот подождите, я когда-нибудь сообщу всю правду про него.
Правды, впрочем, особой не было… Кроме той, что Ремизов постоянно апеллировал к истине и искренности, а сам непрестанно «играл» или врал.
Говорили, что Серафима Павловна Ремизова-Довгелло, страдавшая сплошным ожирением тканей, оказала на мужа благодатное влияние. Она преподавала древнюю русскую палеографию, и кириллица Алексея Михайловича, да и много других штучек, от нее! Я в жизни часто убеждался, что так называемое спасительное влияние дам в действительности почти всегда является попыткою задушить своего спутника под благовидным предлогом. Это верно от Данте Беатриче вплоть до Оцупа с его красавицей (впрочем, Данте имел еще других, более серьезных поводырей). Полагаю, что Серафима Павловна ответственна в значительной мере за ханжество, лицемерие и попрошайничество Алексея Михайловича. В их доме никогда ничем, кажется, не поступились для блага ближнего, а к себе Ремизов постоянно требовал евангельской любви.
Жилось им, разумеется, худо, но я встречал нищих и даже бездомных, которые ухитрялись изредка помогать другим. В доме Ремизова старались каждого посетителя немедленно использовать: хоть шерсти клок. Переводчик? Пускай даром переводит. Сотрудник «Последних новостей»? Пусть поговорит с Павлом Николаевичем, объяснит, что Ремизова мало печатают. Богатый купец?.. Пожалуй, купит книгу, рукопись, картинку. Энергичный человек? Будет продавать билеты на вечер чтения. Молодежь, поэты? Помогут найти новую квартиру и перевезут мебель. Доктор Унковский? Должен поправить старую, прогнившую резинку от клизмы: для этого пригодится именно доктор, хе-хе-хе. Кельберин? Передаст Оцупу, что тот приснился Алексею Михайловичу (и все обстоятельства, предшествующие этому событию).
Ибо у Ремизова выработалась неприятная, на границе с шантажом практика: видеть разных важных персон – во сне! Причем он мог управлять этими грезами: одни являлись в лестной для них обстановке, а другие – в унизительной. И Ремизов опубликовывал эти сны с комментариями.
Так что Ходасевич даже раз был вынужден написать Ремизову:
– Отныне я вам запрещаю видеть меня во сне!
И это, кажется, помогло.
Ремизов с детства по многим социальным и психологическим причинам почувствовал свою одинокую беспомощность, пожалуй, ничтожность. И оценил значение организации, общества, союза. Присоединиться одним из равных или последних к чужому объединению ему казалось невыгодным… Он придумал собственную «обезьянью» ложу, магистром которой назначил себя, а приятным людям выдавал соответствующие грамоты. Это, конечно, была игра, но, как все в этом доме, – двусмысленная игра!
Гость, усаживающийся за чайным столом у Ремизовых, сразу начинал задыхаться от какого-то томительного чувства… Алексей Михайлович своим московско-суздальским говором, тихим, но таким внятным и четким, точно он чеканил ртом добротную монету, сообщал замысловатую историю, из которой можно было догадаться, что его опять обидели, обошли, подвели.
Само собою подразумевалось, что все благородные и умные люди только и ждут случая, чтобы вступиться за Ремизова. Предполагалось, что весь мир в заговоре против хозяина, а мы, теперь собравшись, обсуждаем меры противодействия силам тьмы и зла. Невольно каждый начинал себя чувствовать заговорщиком, что и создавало удушливую атмосферу лжеклассической драмы.
Алексею Михайловичу совсем не жилось хуже, чем другим писателям его поколения. Он занимался исключительно своим любимым делом и жил в оплаченной, правда, с опозданием, квартире с кухней и ванной.
Писал он много, очень много, так как редко выходил из дому, и, по слабости зрения, читал все меньше и меньше. Думаю, что после него осталось больше сотни ненапечатанных книжек: пересказов былин, снов, дневников и повестей. Но и издавал Ремизов изрядно: во всяком случае, не меньше Зайцева, Цветаевой или Шмелева. Так что опять-таки его беда являлась частью общей эмигрантской болезни.
Иногда при мне он заканчивал какую-нибудь запись, близоруко переписывая ее в последний раз: тщательно выводя каждую букву отдельно… Это действовало на случайного свидетеля, заражая его энергией мастерства. Полуслепой плотный карлик, припавший выпуклой грудью к доске стола, строчит: дьячок московского приказа, быстро, быстро пишет, выговаривая губами отдельные слоги.
Уходя от него после такого урока, хотелось немедленно сесть за рукопись и вот так, смачно «ощупывая» ртом всякую букву, пропустить текст через сито ремесленного искусства.
Он учил нас обращать внимание не только на слова, но и на слоги или буквы, учитывая соотношение гласных и согласных, шипящих, избегая жутких русских причастий вроде: кажущийся, чертыхающийся, являющийся и т. д., и т. д…
– Я видел ваш почерк, – весело, на ходу занятый более важными гостями, бросил мне Ремизов при первом визите. – Надо выписывать каждую букву отдельно, в этом секрет хорошего письма.
О «Воспоминаниях» Бунина часто отзывались с возмущением… В самом деле, ни к одному из своих современников он не отнесся с участием (одно исключение, кажется, Эртель).
Но то же самое проделывал и Ремизов: всех разносил, ругал и порицал. С той разницей, конечно, что был он типичным неудачником, без нобелевских медалей, и ему должно прощать известную долю завистливой горечи.
Все писатели, разумеется, не знают русского языка и берутся не за свое дело… Особенно доставалось тем, кому хоть немного везло, – Бунину, Сирину. Ремизов хватал очередную книжку «Современных записок», где тогда без перебоя, из номера в номер печатался Сирин, и, читая вслух старательно подчеркнутую фразу, например, «От стихов она требовала ямщик-не-гони-лошадиного…», возмущенно жаловался:
– Вот давно избитое выражение «цыганщина», «романс» он заменяет строкой из пошлой песни и думает, что состряпал нечто новое! А все потому, что берутся не за свое дело.
В его злобном отношении к Бунину чувствовалось нечто классовое, сословное. Даже когда Осоргину, благоговевшему перед Ремизовым, привалило счастье и он сорвал десяток тысяч долларов в Америке, Алексей Михайлович немедленно обиделся…
В этих рейдах против врагов Серафима Павловна его молчаливо поддерживала. Вся она расплылась от волн жира… Без шеи, лицо, пожалуй, сохранило черты былой миловидности… детский, маленький носик.
Несмотря на свою ужасную болезнь, сущность которой заключалась в том, что она все превращала в жиры и откладывала их, или, может быть, по причине болезни, Серафима Павловна беспрерывно что-то жевала. Она ежедневно проводила несколько часов в магазине друзей, помогая у кассы и уничтожая гору изюма, пастилы, орехов.
Популярность у молодежи льстила Ремизову; на этой карте он удачно обошел Бунина. Одно время за его воскресным чаем собиралось человек тридцать новых литераторов. Но продолжалось такое оживление недолго. Уход молодежи оставил еще одну язву в обиженном сердце.
У Ремизова я познакомился с Замятиным после его приезда в Париж. Впечатление осталось: крепкий, целеустремленный ремесленник.
Покинув СССР, Замятин, однако, вел себя с примерной осторожностью, не желая или не умея порвать с потусторонней властью. От него ждали пламенных слов, смелых обличений – обвинительного акта… Чего-то среднего между Золя и Виктором Гюго. А он читал на вечерах свою «Блоху» (из Лескова) и сочинял сценарии для «русских» фильмов во Франции: “Les Bateliers de Volga”[83]83
«Волжские бурлаки» (фр.).
[Закрыть]. Он рассказывал о московских писателях. О Шолохове сообщил, что во втором томе «Тихого Дона» автор, по-видимому, использовал чужой дневник. Твердо помню, что речь шла только о втором томе и отнюдь не о «Тихом Доне» в целом.
Тогда еще были живы многие писатели, замученные «отцом народов» (увы, только ли «отцом»): Мандельштам, Бабель, Зощенко, Пильняк… Замятин догадывался о ждущей их судьбе, но этой темы он не касался. Знаю, что он дорожил успехом «Блохи» в Москве и все еще получал оттуда деньги. Над его письменным столом в Пасси висел большой советский плакат «Блохи». И своего «Обвиняю» или «Проклинаю» он так и не произнес.
Клеймить его грешно: так вели себя и другие сочинители, попадавшие проездом в Париж: Бабель, Киршон, Пастернак, Федин, В. Иванов, А. Толстой.
В русской классической литературе есть разные образцы высоких подвижников: старец Зосима, Платон Каратаев, Алеша Карамазов… Это святой жизни личности, но понятия о чести они не имеют! Ибо над западной, католической честью (honneur) наши художники старого стиля считали обязательным глумиться, как и над французиками и полячишками. Посмотрите, сколько все-таки примерных бар, не только крестьян в «Войне и мире», и ни одного стоящего француза. Наполеон с маршалами и все другие иностранцы говорят сплошную чушь с ложным пафосом… И это у Толстого. А Достоевский – уже неприличный пасквиль или клюква!
Задолго до большевиков начали на Руси издеваться над такими буржуазными условностями, как честь и достоинство личности. До христианства и гоголевского православия не докатились, а «гонор» профуфукали: не только фактически, но, что хуже, и в идеале – метафизически!
Русский мужик, как и боярин, испокон веков верил, что от поклона голова не отвалится, а покорную голову и меч не сечет и тому подобную мудрость. Танцует Хрущев гопака вокруг стола «отца народов» и думает: «Быть мне помощником письмоводителя!» А другие кандидаты смотрят на него с одобрением и завистью.
После внезапной смерти Замятина Ремизов мне сообщил:
– Вчера я видел во сне Евгения Иваныча… Нос у него совершенно сплюснутый, раздавленный и оттуда кровь капает. Я понял – это душа Замятина… Хрящ перебит, и густая, темная кровь течет. Понимаю: страдает очень, а помочь нельзя, поздно! Он сам искалечил себя «Блохой» и тому подобным успехом.
Передаю по памяти, уверен, что среди бумаг Ремизова сохранилась соответствующая запись. Алексей Михайлович не забывал таких снов и не сжигал своих блокнотов.
Раз я не явился на его очередной весенний вечер – с какой яростью он меня потом ругал:
– А билетом моим, что я вам послал, вы в клозете подтерлись, подтерлись! – со жгучей обидой повторял он, точно речь шла бог весть о каком кощунстве. (Билеты свои Ремизов подкрашивал и подклеивал рождественской мишурою всю зиму.)
После выхода в свет моего романа «Мир», главы которого он читал в гранках, Ремизов похвалил в нем только одно неприличное место.
– Это хорошо, что кот съел, – блаженно улыбаясь сквозь толстые стекла, говорил он. – Я вчера показал это описание Мочульскому, и тот просто ужаснулся, а ведь сам небось шалун… Я тут иногда смотрю на гостей и думаю: как ты, голубчик, все делаешь дома? – опять загадочно ухмыльнулся он.
Разные его позы – гнома, колдуна, болотного попика, недотыкомки – были игрой, обязательной данью того времени. Тут и Блок, Лесков, «Мелкий бес», Мельников-Печерский со всеми Ярилами и Перунами.
– Читайте мою «Посолонь», – советовал он поклонникам. – Там вся тема.
Я возражал, что, вероятно, Флобер со своим методом каторжной работы и «чистки» тоже повлиял на Алексея Михайловича. Ремизов осклабился:
– Это, что и говорить, это верно, но это потом. А начало свое, в «Лесах» Мельникова-Печерского. («Ремизов – почти гений, а учился у скверного писателя», – думал я с удивлением.)
Усвоив огромный опыт нужды, Алексей Михайлович больше всего негодовал, когда на его скромную просьбу отвечали: «Нынче всем худо». Это он считал пределом эгоизма и лицемерия.
Во время бегства из Парижа мне пришлось таскать с собою повсюду щенка, подброшенного нам в Тулузе. И люди кругом, беженцы, негодовали, а иногда и затевали драку под предлогом, что «теперь не до собак, детки гибнут…» Тогда я вспомнил и оценил вполне эту ремизовскую ненависть к обывательскому «нынче всем плохо»!
Как-то летом, во время каникул, когда все в отъезде, Фельзен начал по воскресным вечерам ходить к Ремизову с визитом. Туда же являлась одна его дама сердца. Посидев немного, они уже вместе отправлялись дальше.
А зимой на мой вопрос, почему он перестал бывать у Алексея Михайловича, Фельзен сообщил:
– Ноги моей у этого ханжи не будет больше! Звоню, отворяет дверь сам Алексей Михайлович и сразу говорит: «А знаете, Николай Бернгардович, у меня не дом свиданий».
– Ну! – ахнул я. – Что же вы?
– Я ничего, – снисходительно рассказывал Фельзен, и я понял – он прав, именно так надо себя вести! – Я ничего не ответил, – уверенно продолжал Фельзен. – Прошел, как полагается, в столовую, там уже сидела Н.Н… Поздоровался со всеми, поболтал минут пять и вышел. Больше ноги моей у него в доме не будет.
Ремизов тоже передавал мне этот эпизод со смесью гордости и страха.
– Вот вы это поймете! – несколько раз повторил он таким тоном, что я подтвердил:
– Конечно, вы правы, Алексей Михайлович.
IX
В те героические годы в Париже процветал Союз писателей и поэтов – организация молодых… А Союз писателей и журналистов состоял уже тогда из стариков, полудоходяг.
Председателем нашего союза часто избирался Софиев. Поручик или корнет артиллерии (Гражданской войны), он происходил из семьи кадровых артиллеристов, кажется, Михайловского училища; дед его – Бек-Софиев, полковник – еще был магометанином. Стихи Софиева не лишены гумилевской нотки. Был он отличным товарищем, несмотря на естественную склонность к интриге и смуте. Рыжеватый блондин с кудрями, несколько похожий на древнего галла, он зимой, на рассвете, мыл стекла окон больших магазинов и контор со стороны улицы: кожа его рук об этом свидетельствовала. Поднаторев на мучительной работе, Софиев вполне проникся классовым сознанием, на всех наших собраниях (и даже внутреннего «Круга») он защищал интересы трудового народа…
К религиозным вопросам оставался нечувствительным. Но обожал песню, стакан вина в кругу друзей и по-гусарски просто влюблялся. Летний отпуск он проводил на велосипеде; жена – Ирина Кнорринг, тяжело болевшая диабетом, – не могла его сопровождать. Возвращаясь опять в Париж, Софиев привозил вместе с памятью о виноградниках и замках на Луаре какую-нибудь вполне невинную романтическую историю… Восхищался западной готикой, церквями, каменщиками и всем колдовством «закрытого» средневекового общества. Был у них сынишка, раз при мне сказавший: «Надоело спать…» И еще: «Негрщик пришел» (то есть угольщик)…
Софиев теперь в Средней Азии (если еще жив); Ирина Кнорринг давно умерла, а мальчик их, вероятно, уже среднего возраста дядя, глава семьи и проч. (Жизнь, можно утверждать, продолжается.)
После победы парижские эмигранты (не все) пошли на поклон в советское посольство: Софиев, разумеется, был с ними…
Он подобно Ладинскому – тоже боевому офицеру – не только взял паспорт, но и честно уехал в Союз… Затем, несмотря на свой уже полувековой возраст, Софиев отправился «добровольцем» в экспедицию за Урал (Ладинский все же умер в Москве; там же обретаются Любимов и Рощин, но это уже люди совсем иной формации).
В архиве нашего Объединения хранились разные интересные документы; в какой-то год меня избрали секретарем союза, и я тут же спросил Софиева, где эти «исторические материалы» (например, заявление Горгулова-Бреда о поступлении в наш союз; помню выражение в конце письма: «Точка, как бочка»)…
– Я их храню отдельно, чтобы не пропали, – заверил меня Юра.
Где теперь эти уники, не знаю.
Софиева после очередной склоки обычно мучили угрызения совести, отсюда его покаянная жажда дружбы, любви, доверия.
Нас во «Внутреннем круге» он старался любить. По коренным чертам характера ему было легко словом, шуткою «предать» ближнего… Но как он винился потом и сожалел, а мы ему верили!.. Верили не тому, что он отныне будет «верным мужем, хорошим отцом, близким другом», а тому, что, в сущности, именно этого Юра жаждет.
Как председатель Объединения Софиев бдил за единством молодой зарубежной литературы… Он ставил себе целью подобно Ивану Калите «собрать и организовать» всех писателей и поэтов на чужбине сущих под культурным водительством Парижа. Этот государственный (имперский) пафос нас смешил, но все же изредка служил причиною лютых междоусобных (удельных) войн, угрожавших благополучию монолита.
Так Терапиано с Раевским затеяли новый поэтический кружок и журнал «Перекресток». (Название это предложил Давид Кнут: «Мы сошлись на перекрестке».) Предполагалось ориентироваться на Ходасевича («Формальный метод»). Ясно, что ни Поплавский, ни Червинская туда не пошли.
Состоял «Перекресток» из пяти-шести человек; самым ярким из них, кажется, был Смоленский (Раевский, брат Оцупа, в то время часто ронял такую фразу: «Я и моя группа»)…
Вот против них-то и ополчился Софиев, клеймя попытку разбить «организационное единство». Впрочем, группа эта сама собою вскоре рассыпалась и без особых заслуг со стороны Софиева. Лучшее, что осталось от «Перекрестка», полагаю, тетрадь, куда члены кружка записывали коллективные стихи огорченных и веселящихся поэтов. Помню эпиграмму на меня (автор, кажется, Смоленский):
Блажен прозаик, отстранивший лиру,
Он легкой музыкой несом:
То «Колесом» прокатится по миру,
То «Мир» прокатит колесом.
Кстати, прозаиков в «Перекрестке» почему-то представлял Алферов; он появился на Монпарнасе с одним рассказом «Дурачье». И больше, пожалуй, никогда нигде не обнародовал. Иванов его прозвал восходящим светилом малярного искусства. Ибо кормился Алферов именно малярным ремеслом (а в то время другой «живописец» – за Рейном – добился уже полного признания).
Действительно, Алферов вскоре встретил милую и богатую русскую барышню из правого лагеря и как подающий надежды сотрудник «Чисел» без труда обвенчался с нею… Он зажил сложной, обеспеченной жизнью человека делового, вспоминая, вероятно, с ужасом свое монпарнасское прошлое.
Впрочем, многие литераторы продолжали навещать его в книжном магазине, поддерживая связь. Поначалу он охотно помогал мелочью пристававшим сверстникам, но постепенно такая роль ему, разумеется, надоела. (Мне Алферов по первому слову однажды вручил несколько сот франков на квартирный «терм», сделал это легко, просто и без напутственной проповеди.)
Было в нем что-то старинно-русское, мягкое, вернее, славянское, «откровенное» и, естественно, талантливое, так что его успех у барышень вполне оправдан. А литература его не вышла! Искусство профессиональное – вещь противоестественная.
Беседовать с Алферовым было приятно, но неинтересно – проза, как кредитный билет, требует наличия настоящего золотого запаса; только поэзии позволительно быть глуповатой.
Случилось, что Алферов наконец отказал в какой-то мелочи упорно надоедавшему приятелю Н.Н. Последний это пережил как разочарование мирового порядка. Оказывается, уверял Н.Н., он ходил к Алферову так часто, единственно чтобы защищать его от налетов бесцеремонных знакомых. (Иначе говоря, Н.Н. боялся, что без его советов и помощи Алферов раздаст всем свое имущество… В этом анекдоте много характерного для парижан тридцатых годов.)
Судьба Варшавского в Париже была исключительная: все его любили и даже уважали. Причем не только как человека и гражданина, умного собеседника или благонамеренного демократа, но именно как писателя, беллетриста… А ведь за все довоенные годы он напечатал только два рассказа: книгу свою он написал уже после войны.
С легкой руки Адамовича – особенно ценившего именно то, что ставило под сомнение дальнейшее существование литературы, – Варшавского называли «честным писателем». Под «честным» в то время подразумевали серьезный, без выдумок, правдивый, на манер Толстого… Причем забывали, что сам Толстой, кроме честности и гения, имел за собою еще сумасшедшую фантазию: он постоянно искал не только Бога, но и новые формы – от «Холстомера» до «Истории фальшивого купона». Встреча Нехлюдова с Катюшей на суде тоже может показаться «надуманной».
Мне эпитет «честный» по отношению к писателю напоминал главу из «Записок писателя», где Достоевский высмеивает французов, в один голос твердивших, что Мак-Магон «храбрый генерал»!
«Когда про генерала можно только сказать, что он храбрый, то это означает, что генерал сей особым умом не блещет…» (Цитирую по памяти.)
Вот нечто подобное мне чудилось всегда за упорно повторяемым эпитетом «честный» (и ничего больше) относительно беллетриста.
– Что ж, написал один рассказик, и всю жизнь будет считаться писателем! – возмущался Поплавский, где-то с Варшавским не поладив.
Варшавский внушал доверие своей «скромностью», подчеркнутой совестливостью, ложной растерянностью, смесью принципиальности и деликатной уступчивости.
Мысли его, не всегда оригинальные, были из лучших источников: Бергсон, Толстой. И высказывал он их с такой откровенной взволнованностью, что нельзя было не проникнуться симпатией к этому милому молодому человеку.
Раз после доклада Варшавского кто-то из публики крикнул: «Лошади едят сено!..» И Адамовичу стоило большого труда потом убедить слушателей, что даже такая простая истина не лишена ценности в наш век!
И никто, кажется, не догадался, что Варшавский больной мальчик, что он родился левшой, которого «переобучили». Что он органически не в состоянии «закончить» работу, будь то собственный рассказ или чужое философское сочинение.
Прожив много лет без отца, в одной комнате с матерью, Варшавский упорно искал «героя», отдавая себя чересчур охотно под покровительство то Адамовича, то Фондаминского, то Вильде, то о. Шмемана или Денике и многих других. «Влюбленным» он мог быть одновременно в нескольких и слушался своих наставников не за страх, а за совесть, что последним почти всегда нравилось. Варшавский честно участвовал в «смешной» войне и, вернувшись из плена, был удостоен французской военной медали. Впоследствии, возмужав, он написал и издал две ценные книги…
Кроме удачной женитьбы Алферова припоминается мне еще один буржуазный монпарнасский брак… Адамович привел к нам именно с этой целью дочь Стравинского. И Юрий Мандельштам с ней обвенчался. Новобрачная хворала туберкулезом, совсем как в романах XIX века: через непродолжительное время она скончалась, оставив мужу младенца, девочку.
В 1937 году, кажется, я проезжал на велосипеде по Эльзасу и вблизи Кольмара наткнулся на Юру Мандельштама: там, на горе Шлютц (или что-то фонетически похожее), я подержал на руках сверток с его дочкой – четверть века тому назад. Говорили мы о Грюневальде, которого я тогда «открыл».
Мандельштам был очень предан литературе и писал с большим рвением главным образом серые стихи. Играл он с азартом в шахматы и бридж, но прескверно.
Адамович, критик, можно сказать, мягкий, тактичный («музыкальный»), после десятилетия творческой деятельности Мандельштама раз написал в своей очередной рецензии: «Кстати, право, еще не поздно Мандельштаму начать подписывать свои стихи каким-нибудь псевдонимом…» (цитирую по памяти).
Но Мандельштам не собирался отказываться от своего имени. Родители его – москвичи, милейшие люди – души не чаяли в сыне и дочке (Татьяне Штильман). Из всей семьи только Юра принял православие, пережив соответствующий религиозный опыт; и он же один погиб в немецком лагере. Произошло это, как ни странно, в связи с бриджем… Юра обожал карты, хотя больших способностей в игре не проявлял. Раз вечерком он пробрался из своей квартиры на следующий этаж (в том же доме) на квартиру другого сотрудника газеты «Возрождение». Там вчетвером сели за карты. А Мандельштаму, между прочим, как еврею «по расе», полагалось после восьми часов сидеть дома. Полиция случайно нагрянула и арестовала нарушителя закона. Юрия Владимировича увезли в лагерь Компьень, где он имел еще возможность общаться с матерью Марией и Фондаминским. Затем они все исчезли. Какой набор бессмысленных случайностей!
Мандельштам принадлежал к «группе» Терапиано. Многие начинающие поэты, в том числе и Смоленский, отдавали себя под опеку Терапиано. Но, расправив собственные крылья, они поспешно отделывались от лишнего груза и часто платили Терапиано черной неблагодарностью… Однако Мандельштам до конца остался верным своему патрону.
Софиев мечтал о том, чтобы собрать в одну организацию все кружки зарубежной литературы, а Терапиано стремился обучить их мастерству стихосложения – на свой салтык. Тень мэтра, строителя стихов, Гумилева, Брюсова не давала покоя Терапиано, и это тем более досадно, что, не касаясь его поэтического дара, шармом или магией он никак не обладал.
Был Терапиано внешне тускловат; стихи он любил и, по-видимому, знал. Но к прозе на редкость был глух! Молодым поэтам, если они признавали его авторитет, он старался услужить.
Под крылом Терапиано начинал Смоленский (в лагере Ходасевича)… В характере Смоленского было нечто, объединявшее его с Ивановым и Злобиным, – моральное гнильцо. Но умом или даром Иванова он, конечно, не обладал. Смоленский умел с толком и смаком повествовать о собственной смерти. Эта тема казалась ему и трагической, и значительной. Но в противоположность Иванову или Мережковскому, тоже распространявшихся на этот счет, Смоленский действительно скончался молодым, что, увы, задним числом объясняет многое.
Гимназистом Смоленский влюбился и сочетался законным браком с румяною, полногрудою девицей. Тогда он пел стихи о «ласточке белогрудой»… Постепенно заинтересовался водкою, разошелся с женою. Хорошенький смуглый мальчик во фраке, кокетливо поигрывая бедрами, декламировал с эстрады о «пьяном поэте» и что «каждая ночь бесконечна».
Знакомясь с дамою, он довольно грубо тут же начинал приставать к ней. Восседал у «Доминика» «на жердочке» и, чокаясь, порочно улыбался. А то вдруг затевал ссору с хорошенькой туберкулезно-миниатюрной А.
– Вот это новая Анна Каренина, – глумился он…
А. еще больше бледнела и кусала свои крошечные красные губы.
– Я вам сейчас морду набью! – крикнул я раз при свидетелях. – Выйдем отсюда…
Смоленский был, пожалуй, поэт maudit[84]84
Проклятый (фр.).
[Закрыть], но трусливый поэт maudit. Кривясь, он, однако, ничего не ответил. Через несколько дней «Анна Каренина» мне неожиданно сказала:
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.