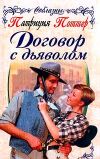Текст книги "Преданный"

Автор книги: Вьет Тхань Нгуен
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Она коммунистка, ответил он.
Ты хотя бы вечер об этом не думай, попросил я. Ты ведь уже ночевал тут. Ничего, не умер. И ее не убил. Она гражданское лицо. А ты гражданских особо не убиваешь, правда?
Тишина на линии означала, что Бон думает. Я ее не убью. Я просто не хочу идти к ней домой.
И почему я так хотел затащить Бона домой к тетке? Потому что я чувствовал, что он меняется, и хотел изменить его еще больше. Вопреки всему внутри у него что-то сдвинулось с мертвой точки. Он по-прежнему был безжалостным и идейным человеком, но еще он хотел встретиться с Лоан. Он признавал, что ему одиноко. Может, я и хотел сдвинуть его, пусть и самую малость, с этой его фанатичной антикоммунистической позиции, чтобы он не убил меня, узнав о моем коммунистическом прошлом. Но я думал не только о себе, я еще хотел, чтобы ему было не так одиноко. Чтобы он снова обрел семью.
«Фантазию» нужно видеть своими глазами. И со своими соотечественниками. Потому что это наше шоу – о нас и для нас. Мы там и звезды, и ведущие, и певцы, и танцоры, актеры и комики, артисты и зрители! Мы делаем то, что нам лучше всего удается, – поем, танцуем и развлекаемся!
Бон дышал в трубку.
Ладно, сказал я, ты не умеешь ни петь, ни танцевать. Но ты любишь смотреть, как другие поют и танцуют, я же знаю. Мы же в Сайгоне все время ходили по клубам. Тогда нам казалось, что нас всегда будут развлекать люди с такими же, как у нас, лицами и на таком же, как у нас, языке, что иначе и быть не может. И вот нам выпал еще один шанс! Бон, ну давай!
Когда он наконец согласился, я понял, что одиночество в нем сильнее ненависти. Он пришел с бутылкой вина – правда, вина дешевого. Но соблюдение светских условностей говорило о том, что со времен исправительного лагеря многое изменилось. Они с теткой ни словом не обмолвились об их прошлой, неловкой встрече и уселись на диван, заключив, не без помощи «Фантазии», молчаливое перемирие.
На пленке была запись выступления в Лос-Анджелесе, этом теневом Голливуде, куда устремлялись наши соотечественники, чтобы стать звездами. Насколько это было офигенное представление, становилось понятно, как только камера наезжала на публику и показывала восторженные, улыбающиеся лица зрителей, которые с огромным наслаждением глядели, как наши южане делают то, в чем они мастера: выставляют себя на посмешище. Размышления об идеологии, политике, науке и поэзии были делом уроженцев севера, где родился и я. Жители юга, где я вырос, казались им развращенными и безнравственными. Может, так оно и было, но если северяне могли нам предложить только Утопию, которую не найдешь на карте, то южане создали Фантазию, куда можно было попасть из любого телевизора, страну грез, где мужчины бесстрашно носили пайетки, а женщины бесстрашно носили… всего ничего. Эти мужчины и женщины танцевали ча-ча-ча, танго и румбу. Они пели классические песни и перепевали западные поп-хиты. Они ставили новые оригинальные номера, которых я раньше не видел. Разыгрывали пошлые комедийные скетчи. Публике особенно нравилось, когда мужчины переодевались женщинами, вечно одергивали юбки, жаловались, что из-за волосатых ног у них все колготки в стрелках, уталкивали в лифчики груди нечеловеческого, американского размера и вертели задами, сделанными из такого количества ваты, что ими хоть сейчас можно было защищать игроков в американский футбол. Ох как мы ржали, глядя на эти сценки! Мы – и публика на пленке, и мы с Боном, теткой и мной. Ох, «Фантазия»!
То был наш Голливуд, но (с голливудскими фильмами такое тоже часто случается) конец шоу подкачал. Во время последнего номера на сцену вышла вся труппа певцов и танцоров – мужчины в респектабельных западных костюмах, женщины в восточных аозаях – и исполнила песню, название которой, «Спасибо тебе, Америка!», говорило само за себя. Были там и другие, тоже не слишком выдающиеся, строки:
Спасибо тебе, Германия!
Спасибо тебе, Австралия!
Спасибо тебе, Канада!
Спасибо тебе, Франция!
Урок географии все продолжался, и я с удивлением думал, что же это за кучка заблудших душ, которая, закружившись в смерче войны, попала, скажем, в Израиль, страну, несомненно, прекрасную, но где таким людям, как мы, будет точно очень невесело. Однако куда бы ни забросила нас судьба, мы явно сумели найти в себе хотя бы каплю признательности за то, что кто-то пустил нас к себе пожить, которая вылилась в сердечную благодарственную балладу, посвященную всем приютившим нас странам.
Для вьетнамца это, конечно, очень странно, но сердечные, благодарственные баллады я на дух не выносил. Моя тетка, будучи интеллектуалкой, тем более французской интеллектуалкой, тоже их терпеть не могла. Бон, убийца, должен был их ненавидеть, ну или, по крайней мере, быть к ним равнодушным, но я с удивлением увидел, что он плачет, ну то есть плачет, как умеет, похлюпывая носом и пустив пару слезинок, что для нормального человека было равносильно нервному срыву.
Но ты ведь считаешь, что Америка нас предала, сказал я, когда поползли титры.
Это не значит, что нас все предали.
Ты считаешь, что Франция разграбила нашу страну.
Ну почему ты всегда все портишь? – крикнул он. Просто послушай хорошую песню, и все!
И тут до меня дошло, что он плачет не из-за вечной слезливой благодарности, которой принимающие страны требовали от беженцев из стран, разбомбленных и разграбленных принимающими же странами. Он плакал из-за сюжета этой песни, которую исполнял симпатичный дуэт, изображавший мужа и жену, разлученных войной: жена с детьми бежала в Америку, муж попал в плен и остался на родине. В конце концов он тоже сумел бежать из страны на лодке – впрочем, нет, не на лодке, а на «корабле», есть для нее благородное имя, ведь его странствия и странствия тысяч беженцев восходят к величайшему морскому странствию всех времен, которое пришлось проделать гомеровскому Одиссею. Пережив эту одиссею, герой добрался до Америки. Здесь он воссоединился с женой, одетой в стильную мини-юбку, и со своими миленькими и одаренными детьми, мальчиком и девочкой, наяривавшими на пианино и на скрипке соответственно, пока родители обнимались. Из-за этого Бон и расчувствовался, он вспомнил покойную жену и сына, моего крестника, с которыми он уже никогда не воссоединится, разве что на небесах.
Мы же с теткой, хоть и были утонченными критиками, но на выступления соотечественников глядели с радостью, и нам было все равно, пляшут ли они в трико или разгуливают в коротких юбках. Впервые с тех самых пор, когда мы еще жили на родине, мы были звездами своего собственного шоу. Несмотря на всю свою фривольность, «Фантазия» была действом политическим, об этом я узнал, когда, перевоспитавшись, приехал в Хошимин – Сайгон, переименованный в честь новой эры. Там выяснилось, что революционные племяши дядюшки Хо считали все эти песни и танцы, и вообще весь этот секс, опасными пережитками прошлого. Приличные коммунисты слушали кроваво-красную музыку, славившую кровавую революцию, а мы, любители желтой музыки[4]4
Желтой в Китае и Вьетнаме называли популярную музыку, считая ее упаднической.
[Закрыть], были жалкими трусами, которые отказывались признавать классовую борьбу и труд в поте лица. Но отчего-то, несмотря на все мое перевоспитание, а может, и благодаря ему, я по-прежнему любил хорошую песню про любовь, а вот от красных славословий массам, маршировавшим навстречу победоносной алой заре, у меня только ноги подкашивались.
Может быть, «Фантазия» и была самой обычной развлекаловкой, но что с того? Как сказала анархистка Эмма Гольдман: «Сдалась мне ваша революция, если на ней и потанцевать нельзя». Так отчего наши очень, очень серьезные революционные лидеры никак не поймут, что умение развлекать народ тоже относится к числу революционных! Что не так с развлечениями-то, ведь если подумать, то в списке человеческих приоритетов они, наверное, на четвертом месте после еды, крыши над головой и секса? Мне не терпелось скорее посмотреть второй выпуск «Фантазии», но едва я открыл рот, как Бон, наконец кончивший утирать слезы, сказал: у меня есть еще одна идея.
Еще одна? – спросила тетка. А другая была какая?
Я думал, что Бон ничего ей не ответит, но он улыбнулся и сказал: продавать гашиш в Союзе и убивать коммунистов.
Тетка вскинула бровь. Интересно, сказала она. А знаешь, во Франции именно коммунисты больше всех поддерживают вьетнамцев.
Не тех вьетнамцев, кого надо поддерживать.
Ты не поверишь, но коммунистом может оказаться кто угодно, сказала тетка, глядя на меня, поэтому Бон посмотрел на меня тоже. Я похолодел.
Я чему хочешь поверю, сказал Бон. Везде одни коммунисты.
Тут ты прав, сказала тетка. А вот чисто теоретически, что будет, если твой друг окажется коммунистом? Например, твой самый лучший друг? Твой кровный брат?
Этот сценарий показался Бону настолько невозможным, что он захохотал, но, будучи хорошим философом, подыграл тетке. Я тогда, конечно, его убью, сказал он, улыбаясь мне. Это же дело принципа.
Я тоже посмеялся абсурдности этой тупой шутки и выключил телевизор. С «Фантазией» на сегодня было покончено.
Глава 5
«Бог умер, Маркс умер, да и мне что-то нездоровится», – сказал какой-то остряк с набрякшими веками во время одного из теткиных салонов. Я только потом узнал, что это был драматург Эжен Ионеско, но пока так и не видел ни одной его пьесы. Это, конечно, надо исправить, хотя я, похоже, уже и так живу в его пьесе, если, конечно, правда все, что о них рассказывают. И вообще, болт, на котором держались два моих сознания, до того разболтался, что и вовсе выкрутился. Интересно, сколько людей разболтались вконец, потому что порастеряли все свои болты? Однако на это можно взглянуть и с другой стороны. Можно еще, например, забить болт на все, только, конечно, не до конца. Ведь если как следует забить болт, то и сам будешь сидеть как прибитый. Да и потом, пройдет время, и все забитые болты, на которых держится твое самочувствие, все равно как-нибудь сами выкрутятся.
Я еще не был настолько капиталистом – точнее, пардон, не продал столько наркотиков, – чтобы позволить себе ключ, который мог бы основательно подтянуть мой выкрутившийся болт, и потому с жалобой на растущую пустоту в голове пришел к единственному терапевту, какого мог себе позволить, – Сони Волкману, еще одному замечательному устройству, изобретенному капитализмом, пока я был в исправительном лагере. Раз я человек о двух сознаниях, то могу признать, что и у капитализма есть свои удачи, ведь признаю же я шарм французской культуры. Свои сознания я склеивал при помощи Волкмана, проигрывавшего кассеты размером с ладонь, на каждой стороне – по сорок пять минут музыки. Надев наушники, я плыл по Парижу на ковре-самолете, сотканном из гашиша, занавесив глаза темными очками. В отличие от подлинных и дорогих «авиаторов» Лё Ков Боя, мои были поддельными, без эмблемы Ray-Ban в уголке линзы. Время от времени они сползали с носа, однако я носил их и днем и ночью, на земле и под землей: на шее камера, на груди рюкзак – любопытный японский турист, у которого всегда наготове заискивающая улыбка экзота-азиата в западном краю. Меня не было слышно, а потому и не видно, и во время доставок товара или в свободное от них время я изучал Париж, место действия мюзикла, который ставили мои наушники. Пройдясь разок по районам, которыми можно было украшать свадебные торты – от Нотр-Дама до Эйфелевой башни, от Лувра до Сакре-Кёр, – я больше туда не возвращался. Мне больше нравились обшарпанные кварталы или маленькие парки, где можно было сидеть на скамеечке с моими не столь отдаленными родственниками, бомжами и алкашами, и разглядывать невинных голубей. Я все думал, кто из нас безумнее, я, тот самый больной ублюдок, или мученик Бон, который снова хотел взойти на костер великой идеи, сжечь последнюю соломинку и подышать на ладан. Мы с Боном обезумели настолько, что теперь раз в две недели ходили на репетиции культурного представления, где благодаря нашим невеликим талантам оказались на подтанцовке, если это вообще можно было назвать танцами. Один из скетчей был посвящен деревенской жизни, и мы только и делали, что изображали, как пашем, копаем, рыхлим и вкалываем в чрезвычайно элегантной и где-то даже лиричной манере, призванной показать всю пасторальность сельского хозяйства, на котором держится наша культура, хотя я более чем уверен, что сельское хозяйство – это жесткий, потогонный способ выжить в изнурительных, адских условиях, где на культуру времени особо и не остается. Ну и пусть! Культурное представление ставило перед собой цель затмить шарм французской жизни шармом жизни вьетнамской, которая теперь казалась живущим во Франции вьетнамцам куда шарманнее, после стольких-то лет разлуки с Родиной. Им нужен был свой, особый тип ностальгии, что, кстати, отлично понимали постановщики «Фантазии». Ну и во время репетиций, как я и думал, мне подвернулась возможность сначала покурить с артистами, потом – хлопнуть с ними по рюмашке, вскользь намекнуть про товар, предложить снять пробу и потихоньку обзавестись новыми клиентами из молодых и модных, студентов и профессионалов, да еще и работяг, которым тоже надо было отдохнуть-расслабиться и которые с приятным удивлением обнаружили, что товар можно достать у вполне похожего на них человека. К молодым и модным втереться в доверие было немного сложнее, потому что почти все они родились во Франции и говорили по-французски быстрее меня, вворачивая в свою речь новые и клевые словечки, которых я не знал.
Что у тебя там был за друг, который преподает французский? – спросил я тетку.
Он тебе понравится, сказала она, продиктовав мне адрес. Он коммунист.
Вот так я начал ходить на утренний языковой интенсив в районе Гар-дю-Нор вместе с другими взрослыми учениками из всех уголков бывших французских колоний, не переставая при этом развозить свой товар по всему Парижу. На вырученные деньги я по совету ППЦ купил отменные оксфорды коричневой кожи от «Бруно Мальи». Они отлично выглядят, сказал ППЦ, и в них можно весь день проходить не снимая. Говоря это, он глядел на мои пыльные, растрескавшиеся туфли из кожзама, которые я купил у уличного торговца, когда ехал в аэропорт Джакарты. Человека всегда судят по его обуви. Осуждение ППЦ меня взбесило, но я никак не мог выбросить его из головы. Я с гордостью носил ботинки от «Бруно Мальи» и каждую неделю начищал их до блеска, попавшись в ту самую капиталистическую ловушку, о которой предупреждал еще Маркс: я полюбил товар, предмет так, будто он был живым существом, а такие романы в лучшем случае недолговечны.
Через несколько месяцев после того, как началась эта новая глава в моей жизни, я выходил из маленького парка на проезде Дюма, и у ворот какой-то молодой человек кивнул мне, вскинул брови и поднес пальцы к губам – универсальный жест братства курильщиков, сплотившихся в своем желании умереть поскорее. Жан-Клод Бриали и Анна Карина пели мою любимую песню «Ne dis rien», и я тихонько подпевал. Я был в хорошем настроении и, улыбнувшись, вытащил из своей пачки сигарету, предварительно убедившись, что сигарета без гашиша. Он что-то сказал, и я стащил с головы наушники, продолжая молча улыбаться – я ведь японский турист, – и очень удивился, когда он, тоже заулыбавшись в ответ, сказал: говорят, у тебя потрясный гашиш?
Домо аригато, сказал я, делая вид, что ничего не понял. Продавать незнакомцам – так себе идея, поэтому я поклонился и попятился, но, сделав два шага, уткнулся в чье-то крепкое, каменное тело. Молодой человек позади меня, так же как и тот, что впереди, был одет в голубые левайсы, расстегнутую куртку и футболку, только у одного на футболке были изображены «Битлз», а у другого – «Роллинг Стоунз». Мы были одни в маленьком парке, чего явно и добивались эти юноши – судя по всему, те самые арабы, о которых меня предупреждал Лё Ков Бой. Они были долговязо, беззаботно молоды, еще счастливо не ведая, как будут выглядеть через двадцать лет, – знание, которым мы, мужчины среднего возраста, к несчастью, уже обладаем. Инертность возраста и доступность таких удовольствий, как французская выпечка, помогли мне вновь обзавестись утраченным за время перевоспитания жирком, и не только – теперь у меня над ремнем брюк нависал небольшой бугорок, и еще один мягкий комочек образовался под подбородком. Я был мягкой, круглой сарделькой, плотно набитой требухой, а они – зазубренными ножами, которые вот-вот покромсают меня на куски.
Не прикидывайся японцем, сказал Битл. Мы знаем, что ты вьетнамец.
Вьетнамец? – спросил Роллинг. А я думал, ты китаеза.
Вообще-то он сказал банальное Chinois, слово, означающее просто «китаец», но если его склонять и в хвост и в гриву и то и дело сплевывать при разговоре, оно превращается в эпитет, который я не раз слышал от наших французских колонизаторов. Мне стало грустно, что я услышал его от людей, находившихся в моей шкуре, однако я решил не отвечать на оскорбление, чтобы не усугублять ситуацию. Спасти ситуацию я решил, выразив искренний интерес к их происхождению и родословной. Я спросил: а вы кто?
Мы алжирцы, жопа ты крысиная, сказал Битл.
Роллинг нахмурился и сказал: мы масло.
Масло? – переспросил я. Если тут кто и масло, так это я – желтый, мягкий, и меня легко размазать. А почему вы масло?
Масло! – проорал Роллинг. Масло!
Битл вздохнул и сказал: хер с тобой, мы французы. А теперь гони гашиш.
Давайте-ка об этом поговорим, сказал я. Мои алжирские братья, неужели вы не читали, что Хо Ши Мин писал о французской колонизации? Нам с вами не надо драться, не надо друг друга грабить, нам надо сплотиться в борьбе с нашей злой мачехой! Забудьте про «Марсельезу», слова которой кажутся мне несколько кровожадными. Давайте споем «Интернационал»! Ну-ка, с чувством! Вставай, проклятьем заклейменный! Nous ne sommes rien, soyons tout![5]5
Кто был ничем, тот станет всем! (фр.)
[Закрыть]
Моя небольшая речь, похоже, сбила их с толку, они замерли, наморщили лбы, и, как знать, если бы хоть один из них сказал тогда, а он, ващет, дело говорит, мы с ними изменили бы ход истории – по крайней мере, моей истории, – но они были вспыльчивыми подростками, поэтому Роллинг покачал головой, отказываясь и от брошенного ему диалектического каната, и от солидарности, и сказал: гони гашиш, ты, тупой ублюдок!
Так, я хотя бы попытался, правда?
Попытался, ага, сказал Сонни.
Ну можно и так сказать, добавил упитанный майор.
Гашиш, значит, пробормотал я, притворяясь, будто расстегиваю рюкзак. Они бросились ко мне, но я успел размахнуться и со всей силы засадить рюкзаком Битлу в челюсть, которая, повстречавшись с двумя лежавшими в рюкзаке кирпичами, громко хрустнула, не заглушив, однако, вырвавшегося у меня из самого нутра боевого клича – УБЛЮДОК! – потому что я всегда был по горло сыт этим словом, и хотя думал, что уже привык к нему, привык я только к тому, что меня зовут больным ублюдком, в чем даже была доля правды, но полная, истинная правда была вот в чем: этой парочке следовало бы назвать меня братом, кузеном, да хоть дядькой каким-нибудь, потому что мы с ними были родней – а что, нет, что ли? – нашими общими предками были галлы, те еще нахалы, назначившие нас своими потомками; алжирцы – это, значит, старшие сыновья, объяснял мой отец нашему классу, а мы, индокитайцы, – умненькие средние братья, из которых должны вырасти клерки, секретари, адъютанты и мелкие бюрократы, не чета каким-нибудь лаосцам, камбоджийцам и так далее, до самого конца этой логической пищевой цепочки, за звенья которой мы цеплялись, устремляя свои взоры наверх, к красным ягодицам обезьян, угнетенных чуть меньше нашего, и мечтая о том, как великодушная белая рука поможет нам вскарабкаться наверх, по головам всех этих недостойных созданий, и взойти на прекрасный броненосец под названием La Mission Civilisatrice, обстрелявший Хайфон и убивший шесть тысяч мирных жителей, но кто там их будет считать? Мы, туземцы, не считаемся.
Ублюдок! – заорал Роллинг и врезал мне по морде, не дав снова взмахнуть рюкзаком. Мудила узкоглазый!
Роллинг врезал мне снова, в голове у меня загудело, но я с некоторой даже ностальгией услышал, что меня назвали un bride, узкоглазым, чего не случалось с самого Сайгона времен французского колониализма, и хоть французский мой заржавел, но память о том, как меня называли косорылым, узкоглазым или китаезой (это все, разумеется, в глазах смотрящего), была столь же крепка, как и знание основ вроде merci и au revoir и того, что никто не станет особо разбираться, узкие у меня глаза или не очень.
Падая, я и сам больше волновался за висевшую у меня на шее дорогую японскую камеру, в которой что-то треснуло, однако тревожнее всего было то, что напрыгнувший на меня Роллинг вцепился мне в глотку, отчего глаза у меня полезли из орбит и здорово улучшилось боковое зрение, поэтому я видел, как Битл поливает кровью и слезами утоптанную землю парка и зажимает руками нос, который я ему, похоже, сломал кирпичами, до этой хитрости я, кстати, сам додумался, хотя за долгие годы тесного общения с Боном я, несомненно, проникся его склонностью жить в предвосхищении конфликта и, в частности, иметь при себе средства самозащиты, обычно более одного, чтобы в случае чего перейти от защиты к нападению, потому что напрыгнувший на меня Роллинг не просто меня душил, отчего моя передавленная гортань заходилась в протестующих рвотных позывах, но еще и ритмично колотил головой об утоптанную землю, обе эти стратегии плохо действовали на мое сознание, мутневшее и пятневшее теперь от ярких вспышек, какие, говорят, видишь, когда влюбляешься или когда вот-вот потеряешь сознание и умрешь, это я уже говорю вам сам, и, поскольку вот этот последний исход надо было во что бы то ни стало предотвратить, я позволил Роллингу и дальше себя убивать, чтобы он не заметил, что я тем временем согнул колени и из-под моих задравшихся штанин показались носки, а в носке у меня был спрятан выкидной нож, этому трюку меня научил Бон, и пока я вытаскивал нож, что-то твердое тыкалось мне в живот – у «Роллинга» был стояк, а это значило, что он точно меня убьет, он теперь скалил зубы не только от злобы и ярости, но еще от ненависти и ненависти к самому себе, и когда я нажал на кнопку, выскочившее лезвие вспороло мне ладонь, чего я почти не почувствовал, потому что мои глаза уже застилало красной пеленой, а в ушах гудел ток крови, гудел громко, но сквозь этот гул все равно прорывались крики Роллинга: мудила желтопузый ублюдок китаеза узкоглазый, – оскорбления, от которых на меня волнами накатывала ностальгия по тем невинным временам, когда колониализм снимали на черно-белую пленку, никаких аудиозаписей еще и в помине не было, и никто не слышал, как слово «аннамит», это схаркнутое презрение и снисхождение, отскакивает от французских языков и вьетнамских барабанных перепонок, и теперь, когда все сцены нашего угнетения остались далеко позади и даже подернулись благородной патиной, так что и повстанцы с торчащими из колодок головами, и крестьяне, несущие белых людей на своих горбах, казались пасторальными, живописными фигурками, моя неминуемая смерть тоже казалась чем-то далеким, все мои чувства затихали, и все конечности немели, не было больше ничего, кроме тяжести чужого тела на моем животе и холодной рукоятки ножа в моей влажной ладони, который мне все-таки удалось развернуть лезвием наружу, и, цепляясь за последние проблески сознания, я воткнул нож в ближайшую часть лежащего на мне тела, после чего раздался крик, одна рука на моем горле разжалась, что побудило меня к новому удару ножом, за которым последовал еще один крик, разжалась и другая рука Роллинга, который стал уворачиваться, пока я снова и снова тыкал в него ножом, ему еще повезло, что мне под руку попались только его ягодицы и тазовая кость, боль вынудила его скатиться с меня, он извивался и колотил меня ногами, а я, высвободившись из его хватки, пнул его в ответ, откатился подальше, пошатываясь, встал и тут чуть было снова не упал, споткнувшись о стоявшего на четвереньках Битла, который мотал головой и вытаращился на меня такими горящими злобой глазами, что я засадил ему коленом в лицо, и если не сломал ему нос раньше, то точно доломал его сейчас, один враг был повержен, но другой восстал, Роллинг, конечно, с воплями держался за кровоточащую жопу, но физически был еще весьма способен мне навредить, правда, психологически он уже отвлекся на боль, и это выдало в нем любителя, потому что, если бы он был профессионалом, как неоднократно говорил мне Бон, он бы знал, что для выживания нужно не только тело, но и разум, о чем я-то как раз прекрасно знал, потому что, превратившись с годами в закоренелого шпиона, а затем окончив школу перевоспитания, я не просто не умер, а стал неубиваемым, как клише, и уж точно был сильнее этого юноши, которому кровожадности хватало, но не хватало ни хитрости, ни опыта, ни обязательного страха смерти, которыми я обзавелся за полную горечи и обиды жизнь ублюдка, в обществе меня со мной, и пока я корчился от боли и хватал ртом воздух, у меня все было схвачено, все под контролем, и он получил от меня еще несколько быстрых ударов ножом в область сердца и жизненно важных органов, это было все равно что бить ножом сырую куриную тушку, только пару раз нож отскочил от ребра и грудины, и боль завибрировала у меня в руке, а я хотел только одного, чтобы он унялся, улегся, отстал от меня и пообещал больше меня не убивать, но моего французского хватило, только чтобы повторять stop, stop, stop, имея в виду, что и ему бы пора остановиться, да и мне тоже, но никто из нас не мог остановиться, пока один не окажется на земле – он, на коленях, на боку, ничком, не видя, как я быстро ухожу из парка, подхватив рюкзак одной рукой, защелкивая нож другой, не оглядываясь, чтобы проверить, умер ли Роллинг, встает ли Битл, радуясь, что пустой парк, который они засчитали себе в плюс, теперь стал для них минусом, радуясь, что по совету Бона одет во все черное, не чтобы казаться модным – в Париже такая мода, – а потому что на черном не так заметна кровь, тогда я сунул окровавленную руку в карман штанов и надвинул на глаза капюшон спортивной кофты, которую Бон тоже посоветовал мне надевать в тех случаях, когда понадобится спрятать мою неприглядную физиономию, что я и сделал, быстро шагая в сторону метро «Насьон», прислушиваясь к крикам и воплям, которые начали доноситься до меня, когда я уже отошел на некоторое расстояние от парка, в растерянности не сообразив, что надо было идти к метро «Рю-де-Буле», которое сразу за углом, однако не ускорил шага, даже заслышав сирены, завывавшие тебе крышка, тебе крышка, но у входа в метро звуки стихли, и я сбежал вниз по ступенькам, на груди у меня снова болтался рюкзак, а на шее – камера с разбитым объективом без крышечки, я прошел через турникет, спустился еще ниже и, пройдя по длинному переходу, вышел к первой попавшейся платформе, мне было плевать, что там за поезд и куда он идет, я радовался, что можно наконец остановиться, привалиться к стене и, незаметно выудив из рюкзака носовой платок, который полагается иметь всякому джентльмену, не только оттереть с одежды чужие или собственные телесные выделения, но и сделать из него нечто вроде жгута или повязки на правую руку, которую я затем снова засунул в карман, моя сердечная мышца разбухала во все стороны от адреналина и страха и колотилась о ребра так громко, что ее барабанный бой заглушил только грохот прибывающего поезда, приближение которого заставило меня встряхнуться, и я сумел, не споткнувшись, войти в вагон, усесться рядом с косматым стариком, не слишком ухоженным и слегка вонючим, мы с ним были как два брата-дегенерата, все лучше, чем быть дегенератом в полном одиночестве, особенно если ты измордованный японский турист на измене, надо пользоваться общим равнодушием народных масс, тем более тех, что населяют метро и подземки, изредка по мне скользили чужие взгляды, но люди быстро отворачивались, только одна маленькая девочка с собранными в хвостики волосами показала на меня пальцем и довольно громко сказала
СМОТРИ,
МАМ,
СМОТРИ!
после чего на меня действительно все посмотрели, и моя чудовищная сущность замерла, будто прилипший к стенке геккон, который понимает, что его заметили, и старается слиться с окружающей средой, а мамаша не сделала своей сладко-гадкой деточке ни единого замечания, и та все пялилась на меня глазами милого маленького жучка, пока я не отцепился от ее взгляда, выйдя из вагона в Бельвиле, и совершенно нормальным шагом не пошел вместе с толпой на пересадку, все мое путешествие заняло полчаса, и за все это время никто не сказал мне ни слова, потому что я всем своим видом давал понять, что не нужно мне ничьих слов, слушая в наушниках Жака Бреля, который снова и снова пел «Ne me quitte pas», пока я наконец не разобрал, что он хочет быть тенью пса, и к этому времени я как раз добрался до ресторана, где Лё Ков Бой спросил, какая такая хуйня со мной случилась, я бы в принципе себе задал тот же вопрос, понимая, это те самые ласковые слова, которые в очень редких случаях один мужик может сказать другому, выражение заботы и участия, намек на скорое возмездие, и, не дав мне усесться за столик, Лё Ков Бой утащил меня на кухню, где Семеро Гномов промыли мне руку в синем пластмассовом тазу, в котором они обычно чистили рыбу, и вода мутнела и краснела от моей крови, пока они умащивали меня йодом и эвкалиптовым маслом, отчего моя ладонь и синяки на лице и шее заполыхали огнем, окружившим жарким нимбом Бона, который мельтешил у меня перед глазами, приговаривая «я этих придурков угандошу» и явно желая таким образом сказать, что он меня любит, но вот от чего я действительно расчувствовался и начал рыдать в три ручья, так это когда он сказал, я им кишки вытащу, они у меня будут свое говно жрать горяченьким, и этот восхитительный гастрономический образ вызвал у Семерых Гномов приступы гомерического смеха, некоторые гномы даже повытаскивали тесаки и вступили друг с другом в шуточную схватку, а Лё Ков Бой экспромтом сочинил в мою честь ужасную оду, рыдающий воин возвращается из своих странствий, нет, это вообще не стоит цитировать, да я и не вспомню оттуда ни слова, такие это были дрянные стихи, но моя вялая реакция совсем не обидела Лё Ков Боя, который, несомненно, списал ее на мое физическое состояние, мужественную боль, понятную Семерым Гномам, и совсем непонятные им постыдные слезы, и, помогая мне скрыть слабость, Лё Ков Бой принес бутылку китайского крепкача, похожего то ли на воду, то ли на водку, и эта прозрачная жидкость выжгла слой нежных розовых клеток у меня в горле, однако помогла на миг унять слезы и забыть о рассеченной руке, торчащей из бинтового пончика, и когда я сказал, налей-ка еще, он сказал, у меня есть кое-что получше, исчез и вернулся с квадратиком фольги, на который он положил беленький кусочек сахара, комочек в роли целого обеда, как оно бывает в мишленовских ресторанах, только это был не сахар, а, как заявил Лё Ков Бой, лекарство, которое, если его проглотить, подействует очень нескоро, хоть разводи его водой, хоть ешь насухую, поэтому он растолок его в ступке, ссыпал обратно на квадратик фольги, одной рукой сунул мне под нос, другой щелкнул под квадратиком зажигалкой, белый порошок растекся в шипящую, дымящуюся лужицу жидкой прозрачности, какой-то гном сунул мне пластмассовую трубочку, остов авторучки, из которой вытащили стержень, и Лё Ков Бой велел мне вдохнуть через трубку, что я и сделал, потому что если уж врачи и ученые такие высокоморальные и смелые, что вечно ставят эксперименты сами на себе, то это можем себе позволить и МЫ, жуткое создание, чья двуликость казалась гротеском всякому, кто видел нас, меня со мной, и может, еще moi о двух лицах – или теперь все-таки о трех, – которого любить могла только мама, наша мама, которая умерла сегодня, а может быть, вчера и которая, вероятнее всего, умрет завтра, наша мама умирает каждый день и каждый день оживает в нашей памяти, не проходит и дня, чтобы МЫ не думали о ней и о том, что МЫ не были с ней рядом, когда она умирала, преступление столь же непростительное, как и наше рождение, когда МЫ вырвались из нашей матери и начали процесс отделения от нее длиною в жизнь, и от одного этого воспоминания МЫ разрыдались снова, но все подумали, что это из-за моих ран или из-за лекарства, и Лё Ков Бой все повторял «потрясающе, правда?», на что МЫ в ответ могли лишь мычать с закрытыми глазами, наши лица сливались в одно, так что МЫ были полностью сфокусированы на себе, снаружи и внутри, на тысячах самых разных наслоений себя, тянувшихся из настоящего в прошлое, сливаясь в слоистый, сладкий, наркотический, калорийный мильфей наших историй и индивидуальностей, существующих разом и единовременно, склеенных в единое целое при помощи липких вечных вопросов вроде «что все это значит?», «кто МЫ такие?», «что МЫ такое?», «откуда МЫ взялись?», «куда МЫ движемся?», «что МЫ наделали?», «что МЫ теперь будем делать?» – вопросов, на которые нет ответов и от которых у нас сперло дыхание, МЫ с такой остротой ощущали наше тело, наше настоящее, наше прошлое и наше будущее, что в какой-то момент совсем перестали это тело чувствовать, граница между ним и миром растворилась без следа, и каждая волна света, звука, касания рябью проходила по нам и утягивала за собой, в водоворот эйфорического, оргазмического даже чувства, которое длилось неизвестно сколько времени, пока водоворот наконец не перестал затягивать нас в свои глубины и, изменив курс, не взвихрился над нами, превратившись в световую лестницу, и сидевший на верхней ступеньке этой лестницы Бон сказал, давай я тогда сразу скажу, что только что узнал, его слова стекали по нашей коже, человек без лица в посольстве, но одно это и могло испортить наше удовольствие от лекарства, ведь существовал только один человек без лица, злая, зловещая фигура, которую Бон вернул к жизни всего лишь усилием мысли, а это значило, что судьба вступает в свои права, и отчего-то МЫ всегда знали, что МЫ с ним скоро встретимся, МЫ, бывшие не только монстрами, не только гротеском, но и чудом, прелестью, и вот мы уже спустились по световой лестнице в соседнюю кондитерскую, отказавшись есть в худшем азиатском ресторане Парижа, чуть взрыдывая при виде завораживающего множества хлебов и пирожных, воплотивших в себе столетия превосходного вкуса, гастрономической изысканности и кулинарных ухищрений, как, например, поцелуйчики негров, которые так любил Шеф, но для которых у нас сейчас было не то настроение, нет, нам подавай что-то посытнее зефира в шоколаде, после всего того, что МЫ пережили, после путешествия, которое еще тихонько в нас отзывалось, пока мы возвращались в будничную реальность, наша кожа – контурная карта эрогенных зон, а руки тряслись, когда МЫ указали пальцем на пухлый овал деревенского хлеба, который МЫ прежде никогда не покупали, но который нас заинтересовал, когда мы узнали, как он называется по-французски, и МЫ на нашем чистейшем французском попросили: мне бастарда, пожалуйста.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?