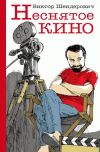Текст книги "Страшный суд. Пять рек жизни. Бог Х (сборник)"

Автор книги: Виктор Ерофеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
– Не четыре? – придирчиво переспросил Сури. – Обычно речь идет о четырех реках, текущих в четыре конца света. Взять, например, калмыкскую космологию…
– Да чего далеко ходить, – перебил я. – В начале Библии из Эдема вытекает река для орошения рая, а после она разделяется на четыре реки!
– Ребята, пить хочется! – облизнулась Габи.
Ей дали попить.
– Ну, это совсем другое, – вдруг обозлился проводник. – Библия ошиблась. Кости Лебе, выблеванные первопредком, превратились в священные предметы культа, цветные камни – дуге. Они обозначили контур души, который делают Номмо при рождении человека. После того, как восьмой первопредок проглотил потомка, их силы смешались, и Лебе – это новое слово, а пять рек суть символ нового слова.
Mon Dieu! Река как речь, как змея в Дого, не составляет пятикнижье. Четыре реки – неполное знание, пропущенная глава. Вот откуда берется человеческая слабость, вот откуда изъян и разрыв между верой и знанием, не хватает одного потока, вот куда стекла человеческая мысль, греческая, мусульманская, где на персидских миниатюрах изображаются четыре течения воды, наконец, библейская, и только в Догоне… Ах, как не хватает пятой реки!
Проводник подтвердил мои мысли. Мне стало не по себе.
У каждого есть своя пятая река. Не спи, соберись, не трать время, ищи, дыши, свирищи, никто тебе не поможет, сам найди – не пожалеешь. Найди ее и разомкни цепь: сон-жизнь-слово-смерть-любовь. Нет более заветной (и более пошлой) цепи.
Нашел. Неужто нашел? Похоже, это и есть тот сангам, на который меня навела Индия. Скважина основного мифа. Если замысел угадан правильно, то вот оно – золотое руно.
Да, но как его, собаку, экспортировать? Украдкой? Чем точнее замысел, тем опаснее приводить его в исполнение. Нечеловеческое это дело. Здесь вторжение в правила, с которыми изволь считаться как с обязательными законами.
Заметив мой испуг, проводник усмехнулся.
Мы выехали из Догона в некотором оцепенении. Сури сосредоточенно молчал, занавесив лицо несвежим тюрбаном. Мы страшно пылили красной пылью. Немка дулась. Путь наш теперь лежал в Томбукту, духовный центр государства Мали.
Посол на хуй
– Дай бинокль, – сказала немка.
Перед отплытием из Мопти в Томбукту мы бродили по вещевому базару, смотрели, как делают пироги, толковали с кузнецами, зашли в кафе. С высокой веранды были видны моющиеся люди. Это были мальчики и мужчины. Немка балдела.
– Ты погляди, – сказала она возбужденно, – когда мужчины выходят на берег, они прячут хуй между ног. Смешно.
– Габи, – сказал я, – неужели тебя это все еще волнует?
– А что меня должно волновать?
Сури быстро вошел в кафе.
– Капитан сердится, – сказал он. – Пора отплывать, а вы чем тут занимаетесь?
Сердце мое учащенно забилось. Мне представилась встреча с капитаном. Яя отвез нас к пироге и распрощался. Он возвращался в Бамако. Мы подошли к моторной пироге, или пинасе. Нам предстояло плыть на ней три дня. По доске прошли и сели. Двое курчавых пацанов в одинаковых белых пальто и черно-белых клетчатых штанах, очень грустные, предложили свои услуги.
– Батюшки! – перепугались они, вглядевшись в меня, с зеленой шапочкой на голове и в черных очках. – Каддафи приехал!!!
В Африке все на кого-то похожи.
– Да вы и сами – вылитые Пушкины! – рассудил я.
– Мы помощники капитана, – отрекомендовались повеселевшие трупные пятна моей культуры. – Добро пожаловать!
– А я Элен – повариха, – сказала застенчиво черная женщина и блеснула зубами.
Капитан сидел в отдалении, ближе к корме, у руля. Это был черный человек в нелепых черных очках за три копейки с какими-то неприятными узорами на дужках и в дешевом спортивном непромокаемом костюме. Он помахал нам рукой, но даже не привстал. Я был несколько разочарован его видом. Впрочем, я уже в Индии заметил, что чем дальше я отрывался от западной цивилизации, тем бледнее становилась личность капитана. Она почти растворялась в окружающей среде: в Индии – по аскетической вертикали, в Африке – по природной горизонтали.
Капитан завел мотор, мы поплыли. Мы плыли по молочно-зеленой воде Нигера в середине января, в середине месяца Рамадан. Нигер – благодушная река. В ней нет истерии. Она река рек. Она река крови, но в мирном смысле, то есть артерия. После Догона только так и хотелось. Река осмысляет пейзаж и делает его бесконечным. Каждый пикник у реки (фотография нарождающегося среднего класса во Франции, тридцатые годы XX столетия, женское белье на женском толстом теле) отличается от пикника без реки. Нигер между Мопти и Томбукту имеет неожиданную внутреннюю дельту, над происхождением которой ломают головы географы. Река распадается на рукава, сливается в молочно-зеленое внутреннее море без берегов, а после вытекает из моря стройным потоком без всяких причуд. Богат и разнообразен мир пернатых. Меня поразили длинношеии аисты, которые, взлетая, складывают шею, как столярную линейку, в несколько раз. Нигер, с другой стороны, дает примеры минимализма. То угостит стаей обезьян, и больше их никогда не покажет, то выставит крокодила (но я не буду врать, крокодилов не видел), то скромно положит на отмель дюжину бегемотов. Они – зорче матросов, с прозрачными фиолетовыми ушами, с большими ноздрями.
– Ноздри, как у тебя, – сказала немка. – В них танк пройдет.
– Редкая женщина долетит до середины Нигера, – незлобно отмахнулся я.
Кстати, Мали – в переводе и есть бегемот. Мясо бегемотов коптят. В таком виде его можно хранить в течение нескольких месяцев. Африканцы – прекрасные охотники. Техника охоты на бегемотов осталась до сих пор такой же, какой ее описал еще Ибн Баттута в 1352 году, путешествуя из Томбукту в Гао, и я не буду повторяться, скажу только, что загарпуненное животное мы с немкой тоже добивали копьями. Но это так – вскользь, а вообще наибольшую ценность представляет нильский окунь (lates niloticus), или иначе капитан.
Капитан – главная рыба Нигера. Он очень приятен на вкус, действительно напоминает нашего окуня и весит 10–20 килограмм, но, бывает, доходит до 100. Мы останавливали встречные пироги рыбаков с длинным шестом (как они ловко им орудуют!) и покупали свежайшего капитана. Элен оказалась классной поварихой и приготовляла капитана во всех видах, под разными соусами, с разными травками, натирала капитана петрушкой, киндзой, сельдереем, ладаном, мариновала, солила, боготворила, жарила на гриле. Мы все ели капитана с утра до вечера и очень хвалили Элен, а она улыбалась.
По берегам Нигера широко распространены разнообразные термиты. Пейзажи сахеля пестрят их постройками, высотой до полутора метров. Отойдя от шока, Габи осторожно раздвинула губы.
– Потрогай! Он вернулся ко мне! Мой петушок вернулся! – от счастья заплакала Габи.
На радость мне, она тонула во всех пяти реках. Мы были чужие друг другу люди, попадавшие в аргонавтные условия вынужденной близости. Каждый по-своему бездомный, несчастный, растерянный. Я люблю ее точные лесбиянские руки, шарящие по утрам мои соски. Она – разложение женской массы, выделение мужского начала, распространение волосяного покрова, щетина на ягодицах, затвердение молочных желез, отказ от деторождения, острый интерес к молоденьким графиням, развивающийся алкоголизм, перенос интереса в анал, тяжелая шишка сфинктера, раздробление принципов, потеря половой идентификации, генетическая катастрофа, гормональный бред, продукт века, его наказание.
Я аккуратно потрогал указательным пальцем. Не хилый, и даже залупается, как детский пенис. Не сразу сообразишь, где кончается большой клитор и начинается маленький хуй. Боюсь ошибиться, но клитор Габи, по-моему, и есть посол на хуй.
Мы с ней панически боялись (ой, просто тряслись), но не мухи цеце, с которой медицина довольно успешно борется, а одного водяного невидимого микроба, который живет в стоячей воде Нигера всего двадцать секунд и за это время ищет, куда бы ему внедриться, и если человек купается или просто стоит как дурак, то микроб в него попадает, как пуля, и после этого у мужчин отпадают все половые органы в буквальном смысле этого слова. У женщин тоже все отпадает. Во всяком случае, у Габи, как теперь всем известно, есть чему отпасть. Солнце заходит здесь ровно в шесть вечера, и начинается тьма. Первую ночь мы ночевали в палатках. Сны в пустыне похожи на медленно разворачивающиеся оперы с длинными ариями, хором, множеством действующих лиц, оркестром и декорациями из реквизита Большого театра.
Лежишь, приложив ухо к пустыне, вслушиваешься в подземные саги земли и содрогаешься. Я такие безумные сны видел только раз, на Тибете, и во время болезней. О чем эти сны? О скоротечности времени, Страшном суде, разлуке с любимой женщиной, человеческой бездомности, мало ли о чем. То в одной одноместной палатке, то в другой в ужасе орут сонные люди. То капитан заорет, то помощники-Пушкины, то верный наш Горький, то повариха Элен. Под утро, часа в четыре, ко мне в палатку с ревом влетела немка, ей приснилось, что она разрушила в Германии всю налаженную систему социального страхования.
Не успела она успокоиться, как до нас донеслись неопределенные звуки воя. Они приближались. Надо сказать, что когда мы выходили на берег, я фонарем осветил какое-то большое скопление белых костей и даже успел пошутить по этому поводу, но тут призадумался. Когда же чьи-то хищные морды стали тыкаться в полупрозрачную, фактически, эфемерную для хищных зубов палатку, то Габи узнала в непрошеных мордах шакалов. Поскольку Догон снабдил ее дополнительной информацией об этих мерзких животных (информацией, которую мы с ней сочли правильным не комментировать), а, кроме этого, она, может быть, даже еще пахла шакалом, сомнений не оставалось. Мы поджали ноги и затаились. В соседних палатках тоже закончились храп и кошмарные крики. Наступила человеческая тишина.
– Сури! – крикнул я на весь сахель по-французски. – Чего делать-то?
– Ш-ш-ш! – был несчастный ответ.
Но вдруг раздался громкий выстрел. Это как-то сразу приободрило меня. Оказывается, капитан захватил с собой огнестрельное оружие. Раздался вой испуганных зверей. Затем топот. Мы выскочили из палатки с фонарями. Капитан гнался за шакалами с палкой наперевес. Враги ретировались. Мы сели у костра.
– У меня просьба, – сказал капитан, который, несмотря на тьму, оставался в солнечных очках за три копейки.
– Не болтать о Догоне? – не выдержал я.
Капитан почесал нос.
– Я тридцать лет, и никогда такого, – сообщил он. – Давайте перейдем спать в пирогу. Там на дне, конечно, не фонтан, но зато безопасно, как в чреве матери.
Кудрявые помощники перенесли Габи на своих тонких руках на судно, храбро бредя по стоячей микробной воде.
– А это верно, что у русского президента обезьянье сердце? – спросил капитан, когда мы расставались с ним навсегда на пристани неподалеку от Томбукту.
– Как обезьянье?
– Да тут все говорят… Вы не обижайтесь, – сказал капитан. – Обезьяны – они нам ближе собак.
Томбукту
Посещение Томбукту есть уже само по себе его похищение, и любой отъезд из Томбукту напоминает бегство. Отсутствие дорог имеет принципиальное значение и не обсуждается. Каждый белый, посетивший Томбукту, достоин смерти. Я увидел себя в Томбукту как запечатанную сургучом бутылку и благодарил Господа за Его милость и покровительство.
– Кто вы? – спросил я стариков на паперти мечети.
– Мудрецы, – сказали они. – Нас здесь триста тридцать три человека.
Теперь я знаю, что в три часа ночи по Томбукту проносится белая лошадь со всадником, приближенным к совершенству.
Мы бежали из Томбукту ранним утром, предприняв дерзко-трусливую переправу через Нигер. Новый шофер Мамаду оказался не слишком разговорчивым. Более того, несговорчивым. Мы пробивались на юг через пустыню с этим новым арабоподобным водителем. Мы вместе с ним вязли и пропадали в песках. Мы меняли ландшафт, как масти карт, нам выпадала то красная, то желтая, то черно-асфальтовая пустыня, она была то сыпучей, то каменной, внезапно выросли наросты диких гор и финиковые пальмы, мы доверяли водителю, не зная, что он и есть наш палач.
Расстрел
Городишко Гао – одно недоразумение. Он разлинован, как Манхэттен, и в нем даже есть ресторан «La Belle Etoile», но это не мешает ему быть захолустьем. В Гао самый рогатый рогатый скот. Он не боится машин. Я потер воспаленные глаза. Ночная Африка – континент беспощадного неонового света. Обложившись керосиновыми лампами, я медленно читал перед сном роман Достоевского «Бесы».
Арабообразный водитель сдал нас полиции на опасном в военном отношении участке дороги Гао – Неомей, возле границы с урановой республикой Нигер без всякого сожаления. В порядке аргументации против нас он привел наши паспорта, в которых не значились въездные и выездные визы не только из Томбукту, но даже из Гао.
– Да вы что? Вопреки всем уставам!
Сержант покачал головой.
– Ведь вы не простые пассажиры! Вы – туристы!!!
Сержант сделал большие глаза и объявил нас врагами малийского народа.
– Се n’est pas serieux, – пробормотал я фразу, оскорбительную для каждого уважающего себя негра.
– Да у вас и паспорта фальшивые! – вдруг выкрикнул он мне в лицо, вращая глазами.
С каждой минутой он накалялся все сильнее. Он говорил, что у него нет никакой возможности держать нас под стражей, поскольку у него нет охраны и что самое разумное дело – нас умертвить и трупы отправить в Бамако на экспертизу. Он предложил мне согласиться с его проектом как наиболее гуманной акцией. До границы оставалось всего-то пять километров, и мне стало обидно погибнуть зазря.
Однако шофер Мамаду не хотел, чтобы я уезжал с тайным знанием, опасным для метафизической безопасности не только сахеля, но и всей Африки. Если Элен и Сури симпатизировали нам, то Мамаду был воплощением ненависти. Когда он отошел пописать, а сержант пошел к проезжавшему грузовику, чтобы украсть дрова на костер, Сури шепнул мне, что с Мамаду нужно поговорить на языке африканского братства.
– У Африки пока нет будущего, – заметил Сури, человек двух миров.
«Отчего шофер плох? Отчего хорош Сури?» – взгрустнул я.
С точки зрения мусульманства, Мамаду писал еретически, потому что он писал стоя, а не сидя на корточках. Пописав, он немедленно совершил омовение члена из пластмассового чайника с веселенькими полосками и повернулся в нашу сторону, цинично застегивая штаны.
– Мамаду, – сказал я, – предложи сержанту деньги.
– Я не твой раб, – ответил араб, – чтобы выполнять твои команды.
Я видел, как сержант, зевая, ушел за рожком автомата, чтобы нас расстрелять.
– Мамаду, – сказал я. – В этой истории есть только два раба: она и я. Вот тебе моя братская рука. Выручи.
– Я спросил небеса и Бога, – сказал Мамаду, – и они мне ответили: нет!
Вернулся сержант с автоматом. Вид его был свиреп и ленив. Скотоводы – равнодушные убийцы.
– Ну что, пошли? – сказал он.
Мы зашли за угол дома. Сержант выстроил нас у стенки. Габи стала презрительно улыбаться. Она схватила меня за руку. Казалось, это ее успокаивало. Я стал тоже кое-как подражать ей в презрительной улыбке, хотя мне не очень хотелось держаться за руки. Женская любовь не боится смерти, не то, что мужская, к тому же сердце мое принадлежало Лоре Павловне.
Сержант поднял дуло автомата. Мамаду с удовольствием встал в стороне, изображая любопытную толпу.
Как всегда, сцена расстрела обросла ненужными жанровыми деталями: блеяли овцы, кукарекали куры, вдалеке прыгали дети, было жарко.
– Подожди! – к нам со всех ног бежал Сури. Вид у него был растрепанный. – Расстреляй лучше меня!
Сержант в недоумении оглянулся.
– Твоя бабушка – сестра моей бабушки, – кричал Сури. – Застрели меня!
– Какую бабушку ты имеешь в виду? – заинтересовался сержант.
Они заговорили о чем-то своем.
– Mon amour, у меня красивые волосы? – спросила Габи.
Никогда в жизни я не встречал более отвратительных волос.
– Шпрахлос! – ясно ответил я.
Мамаду грязно выругался, швырнул ключи от джипа на землю и пошел в сторону своей родной деревни. Я выдержал паузу.
– Сколько? – стараясь держаться хладнокровно, спросил я сержанта.
– Почему ты меня никогда не целуешь? – молвила Габи.
Мы сторговались на сумме, равной примерно пяти долларам США.
Смертельный случай
Когда и где двукрылый флеботом укусил Габи, кто теперь знает, но укусил, и она заболела смертельной формой палюдизма, то есть тропической малярией.
– Ты похожа на трехзвездочный «Гранд отель», в котором поселились непрошеные гости, – печально сказал я, глядя, как она умирает.
– Ты всегда недооценивал меня, – сказала она, стуча зубами от лихорадки.
– Ну хорошо, четырехзвездочный, – согласился я.
Как в самом нежном колониальном романе, ее взялась выхаживать африканская семья, родные и близкие Элен. Они кормили ее с ложечки геркулесом и натирали разными мазями.
Кровать Элен – четырехспальная. Вкус варварский. Голубой дневной свет. Большая бутылка «Джона Уоркера». И какой-то мотоцикл на серванте. Молодой длинноногий французский доктор вошел.
– Ну, раздевайтесь.
Несмотря на малярию, Габи, как всегда, стремительно обнажилась.
– Он залезал мне пальцем в пизду, – божественно шептала Габи.
– Правда, что ли? – не верил я.
– А потом в попу. При чем тут правда?
Мы с Элен млели. В комнате моей гостиницы Элен собрала остатки завтрака, кусок багета и разорванный абрикосовый мармелад, в пластмассовую сумку, затянулась бычком и удалилась.
Тридцать шесть – тридцать девять. И опять через полчаса тридцать шесть. Так сердце долго не выдержит. Умирание Габи чудесным образом воскресило ее в моих глазах. Русское слово – чудесно; русское чудо – словесно.
– Путешествия… Чтение о них… бесконечно… – бредила бедняжка.
– Доктор! – бросился я за ним. – Она не умрет?
– Либидо не умирает, – заверил француз. – Мсье, вы распустили свой фантазм.
– Как? Неужели Габи – нос майора Ковалева? – ужаснулся я своей догадке. – Майор Ковалев в Африке – это я.
– Русский военный атташе? – встрепенулся доктор Ив Бургиньон, не знакомый с литературной историей русских носов. – Хотите виски? – спросил доктор Ив Бургиньон с сильно выраженным сомнением. – А знаете, Африка рванет через три-четыре поколения. У нее лучшее будущее, чем у России… Нет, конечно, французы форсировали модернизацию, нарушая естественные законы движения, кроме того, сами французы ничего не умеют делать, они бюрократы, пользующиеся трудом других людей.
– Это тоже талант, – заметил я.
– А русские товары! – братья Элен заулыбались. – Мы как-то приобрели русский радиоприемник! на лампах! Боже, что это была за вещь! вы не умеете доводить дела до конца! Топорная работа! – братья Элен захохотали, кушая кускус своими чистыми пальцами.
Русский глаз, как орел, схватил эту варварскую привычку.
По ночам я шатался по кабакам Неомея, наверное, самой горючей ночной столицы Африки. Кто был в тех притонах, кто плясал, резко выпив джина без тоника, под тамтам и электрогитары, тот знает запах африканского пота, тот помнит красоту неомейских проституток, их щиколотки цвета болотной воды, их ритуальные шрамы на ягодицах.
От вяжущей страсти дымят и лопаются презервативы, как шины гоночного автомобиля.
Меняя бубу на короткие юбки, Элен зверски плясала, отставив попу.
Габи стала желтым пергаментом.
Африканцы удивительно деликатны. Они скрывают свои туалеты и свои кладбища. Только раз, исколесив Мали, я наехал на мусульманское кладбище с остроугольными, как битое стекло, камнями (их не разрешено показывать не мусульманам). Христианские кладбища как будто напоказ.
В стране уранового рая на столичном христианском кладбище есть могила. На ней написано:
Сербский турист Иван (фамилию не помню).
Мир праху твоему.
Разврат по-неомейски
Элен врубила свои вибраторы.
Транса нет
– Транса нет, – сказал Ромуальд на веранде собственного дома в Порто-Ново с видом на мощный океан. – По крайней мере, в твоем случае.
Они все считают мой случай тяжелым, почему-то их всех трясет от моего случая.
Из военизированного Нигера на такси-брус с курями и с баранами несчетных попутчиков на крыше я прорывался к океану (с прозрачной куколкой Габи на руках) через мягкое государство Бенин, колыбель самой активной из мировых религий.
Я вырвал у Элен три кольца.
Элен меня надула. На базаре я хотел купить серебряный браслет, дал ей деньги, она сказала одну цену, а браслет стоил меньше. Смутилась, но быстро отошла. Она ухаживала за Габи самозабвенно, но каждое утро врала что-то новое. Зачем? Так это и осталось невыясненным.
Немка болела физическими болезнями, а я – метафизическими. Я подумал, пора бы отмыться от контактной метафизики, и обратился к Ромуальду, местной знаменитости, но он меня отшил.
Ромуальд – молодое гниение Западной Африки, авангардистский банк червей. Он делает маски из отбросов: пластмассовых канистр и старых радиоприемников. Его message прост, как правда, и правды там столько же, сколько в медицинском фантазме Габи: нынешний афро-русский народ нафарширован западным мусором. Негр выпрыгивает в этих кощунственных масках как карикатура. Замаливая перед родиной грехи, мы с Ромуальдом рисуем закат над Нигером. Солнце падает за горизонт со скоростью мяча. Упав, оно еще долго испускает жемчужный свет, мягко переходящий в жемчужно-серый, в серебристо-серый, зажигается первая звезда, и небо темно-синеет, сине-чернеет… На двоих пишем минималистские полотна на грунтовке из настоящей красной земли и там выводим разные символы. Это делаем со значением и хмуря брови. Драма не художников, за которыми гоняются с ритуальным криком проклятия ОМА! ОМА! – а авторской искренности. Ломает парней.
Рыбаки на пирогах становятся похожими на вырезанные из картона фигуры. Русские сливают в негров все свои дурные качества: лень, зависть, хитрость. Нет ни одной русской девушки, которая не боялась бы негра как класса. Положа руку на сердце, Россия – самая расистская страна на свете.
Минутное малодушие. Увидев в глухой деревне, посреди ярко-зеленых калебасов вудунский фетиш Чанго, местного Перуна, облитый куриной кровью, я признал веру эманацией страха.
– На четырнадцатое июля, – торжествующе сказал Ромуальд, – в самый разгар сезона дождей, французское посольство в Бенине заказывает вудунского колдуна. Он приезжает из деревни, устраивается в сторонке на табуретке, и – небо расчищено для фейерверков в честь взятия Бастилии! Это повторяется из года в год, внесено в расходную статью посольства, стоит пятьсот долларов.
– А у нас мэр Москвы по-мудацки посыпает тучи солью, – рассказал я. – Познакомь с колдуном!
– Мы – ого-ого! – заликовал Ромуальд, но вдруг сник. – Главные наши вудунские вожди коррумпированы. Деревня еще держится, а эти суки ездят с эскортом мотоциклистов.
Он сплюнул на пол. Океан шел стеной.
– Никуда из Бенина не поеду! Я не ходок по музеям! Я был тридцать семь раз в Германии! Мне нечего делать в Москве!
– Москва сейчас – самый интересный город в мире, – скромно сказал я.
– Ты ешь людей! – злобно развернулся Ромуальд в мою сторону. – Они хрустят у тебя на зубах. Ты выпиваешь их, как устриц!
– Мне кажется, ты для русского не существуешь, – сказала французская жена художника выздоравливающей Габи.
– Я – художник. Я – африканец. Но я не африканский художник!
– У писателя тоже нет прилагательных, – сказал я художнику.
– Он царь, не трожь его, – сказала мне Габи.
За ужином царь сказал, что в любой момент может улететь в Европу бизнес-классом на Сабене, у него виза многократная.
Я посмотрел на Габи.
– Ты не человек, – сказал я ей на ухо. – Ты – феминистский гвоздь.
Транс
Король Побе – самый справедливый король. Он правит мудро в своей провинции, на границе 100-миллионной бандитской Нигерии, которую все в Западной Африке боятся. У него подданные верят в разных богов, одни – в Христа, другие – мусульмане, остальные – вудуны.
– Не понимаю, кто тут у вас Бог, – спросил я короля.
– Бог – един, – гостеприимно сказал король.
Я привез королю большую бутылку шотландского виски и 50 штук шариковых ручек «Бик» для детишек. Король был тронут. Мы сфотографировались.
– Как мне вас называть? – спросил я короля.
– Зовите меня просто кинг, – сказал король.
– Кинг, – сказал я, – путешествия по разным культурам расшатывают нервы и моральные представления. Нормы оказываются чистой условностью. На мне, как на колючей проволоке, висят клочья разных вер. Что хорошо в Африке, в Европе – беда. Нужно почиститься.
Я сидел перед королем на лавочке, а он сидел на троне в королевском дворце, немножко, конечно, похожий на председателя колхоза, но только совсем немножко. Во всяком случае, люди падали перед ним на колени, и посольский шофер – африканец – тоже радостно упал и пополз.
– Кинг, вы смерти боитесь?
– Конечно, нет, – ответил король. – Потому я и король.
Они делают надрезы на ступнях, и змеи их не кусают.
Король быстро собрался в дорогу, и мы вышли из королевского дворца, поехали в деревню на двух машинах (у него вместо номера надпись: Король Побе), но не успели отъехать, как король остановился, и мы купили ему три литровых бутылки бензина.
В Обеле, так зовется деревня, граница между Бенином и Нигерией петляет среди курятников, алтарей и амбаров. Жители этой потревоженной государственности заходятся и заговариваются на смеси английского sit down! и французского asseyez-vous! по приказу кинга, которого поят вместе с нами болотной водой вместо хлеба с солью. Срочно чинят сломавшееся ночное солнце, подвешивают его на дереве, и женщины дико вопят об открытии церемонии.
Шеф деревни, он же главный колдун – Абу. Лицо Абу не устраивает ни один из доступных мне дискурсов. Оно искажает синтаксис до неузнаваемости, похожей на грубую компьютерную ошибку программной несовместимости. Вместо букв экран покрывается неведомыми значками, глумливой иерографикой, о существовании которой в родном компьютере я не догадывался. Ритм трех тамтамов и рисовой супермешалки достигает космической частоты. Наконец, ударили в калибасы, и вся деревня бросилась в танец в позе перегнувшихся в талии ос. Единственная забота колдуна Абу – мое возвращение. Если жители деревни поднимаются-спускаются, как по лестнице, мое «Я» может заплутать в топографии. Приходится проконсультироваться с Атинга, определить с заступником прогноз на ближайшее будущее, что сопровождается подключением еще двух колдунов в тонких женских трансвеститных платьях. Мне проливают на голову прозрачный напиток и всматриваются в судьбу. Сначала идет нижний ряд успехов и неудач. Затемняя мое семейное будущее, они отрывистыми жестами и словами троекратно сообщают мне о готовящемся кинотриумфе. Затем берут мою душу на более тонкий анализ, и я чувствую, как она вздрагивает в их руках. Обменявшись со мной четырехкратным рукопожатием с учащенной перестановкой кистей и пальцев для приведения энергии в адекватное состояние, колдун, наконец, мягко запускает меня.
Транс.
Описание транса.
Я вхожу в транс.
Немка входит в транс.
В красно-белых одеждах и колпаках.
Обильное выделение пота.
Оторванная пуговица.
Жертва французского империализма.
Натрудившийся колдун пьет джин.
Становлюсь очень сильным.
Вот схема полета.
Капитан устроил коктейль по поводу нашего визита.
– Ну, и где виноград? – огляделась Габи.
Зала напоминала советское посольство былых времен. На стенах висели натюрморты второстепенных художников.
– Какие ужасные картины! – прошипела немка, но так, чтобы слышали все.
– Даже здесь, – с любовью сказал я, – ты готова, жертвуя хорошим тоном, бороться за хороший вкус.
После коктейля капитан дал обед.
– Капитан! – закричал я в ответ. – Что вы такое говорите! Вы же высшая инстанция, все видите сверху! Что вы так раскипятились? Уймитесь! Я сам против исключительности России, но к чему эти антирусские настроения?
– Ладно, – вступилась вдруг Лора Павловна, – зато как поют! Русские, турки, болгары, румыны, наконец, украинцы – все эти люди на восток от Европы – у них такие певцы. Возьмите хотя бы Шаляпина!
– Зачем вы, Лора Павловна, нас сравниваете с турками? – не выдержал я. – Дополнительное оскорбление.
– Вот именно, – сказал капитан, – а с кем вас прикажете сравнивать?
– Да ты сама – волжская буфетчица! – закричал я на Лору Павловну. – Родная, не ты ли, вылезая на пристани из моей машины, хотела прикрутить окно с внешней стороны?
Все расхохотались, и Лора Павловна, почему-то довольная, тоже.
– Русские – это фальшивые белые! – закричала на меня Лора Павловна.
– Поганки, – хохотнул капитан. – Помиритесь.
Вокруг нас радостно собрались мертвые люди, много знакомых и дорогих лиц. Одна маленькая женщина, никак не умевшая в жизни стареть, знакомая моих родителей, протиснулась.
– А ты-то как тут очутился?
Она просунула мне в руки свою книгу о Мали, изданную когда-то издательством «Мысль».
– Я знал, что вы придете, – сказал я. – Я чувствовал и общался с вами в пустыне.
Она улыбнулась с легкой грустью. Впрочем, они выглядели празднично. Казалось, сейчас начнется праздник, растворятся двери, и мы все куда-то пойдем. Вместе с тем, я беспокойно сознавал, что мне надо что-то спросить, пока не поздно, что этот фуршет готов закончиться каждую секунду.
– Помните Апокалипсис? – по-светски спросил меня помощник капитана, в котором было действительно нечто пушкинское. – Там говорится об иссякновении рек воды живой.
– Неужели и Пушкин – ваш человек? – тихо спросил я.
– Вы – наш человек, – приблизился капитан, обнимая помощника за талию.
С неожиданным подозрением я взглянул на обоих. Капитан закружился в вихре гостеприимства. Он протанцевал с Лорой Павловной тур вальса, затем хватил водки с шампанским, и они заплясали рок. Помощник с дьявольской галантностью уволок Габи на танец. Габи выглядела польщенной. Она вспомнила юность, когда танцевала topless в ночных кабаках Западного Берлина, и показала такой класс, что гости зашлись в экстазе. Я яростно ей аплодировал. Но и помощник не отставал от нее. Он выдал свою рейнскую чечетку. Затем они слились в танго, и помощник, как истинный соблазнитель, водил ладонью по ее узкой длинной юбке, по чуткому, чуть декадентскому бедру.
– А вы – настоящий поэт, – сказала ему Габи, млея от удовольствия. – Я никогда не забуду вашей кассеты с принцессой.
– Вы – моя принцесса! – признался помощник на весь зал.
Габи таяла в его руках. Сойдясь в восторженных отзывах об инсталяциях Ильи Кабакова, они вместе куда-то исчезли, и мне представилось, как они целуются со стоном, взасос в конце коридора, в мужском загробном сортире.
– В пляшущих богов все-таки легче верится, – флегматично заметил я, столкнувшись с помощником перед баром в очереди за выпивкой.
– Я думал, вы смелее, – усмехнулся он. – Вы почему умолчали о том, как на Миссисипи в ванной вы писали в лицо вашей спутнице?
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.