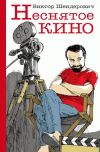Текст книги "Страшный суд. Пять рек жизни. Бог Х (сборник)"

Автор книги: Виктор Ерофеев
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 37 (всего у книги 38 страниц)
В истории литературы XX век останется, скорее всего, как век отчаяния. Писатели наперегонки бежали «на край ночи», подстегнутые целым набором идей, вроде смерти Бога, заката Запада, политическим цинизмом, войнами и идеологическими утопиями. В забеге участвовали сильнейшие: подслеповатый Джойс, совиноглазый Кафка, фашист Селин, антифашист Томас Манн, ряд истеричных русских, возбужденный Генри Миллер, подчеркнуто грязный Буковски, совсем слепой Борхес, всех не упомнишь. Читатель, естественно, развратился. Ему нужно было подавать только «черное на черном» – других квадратов он не признавал. В конце концов, всех стало рвать черной массой блевотины, и это окрестили концом литературы.
На этом черном заднике Владимир Набоков оставил свою подпись спермой.
Его лучший роман «Лолита» имеет слизистый, как у улитки, след скандала, подобный флоберовской «Мадам Бовари». Скандал раскупорил Набокова для широкого читателя. Не будь его, Набокова, возможно, до сих пор дегустировала бы только кучка знатоков. Механизм литературного успеха заводится не столько в издательствах, сколько на небесах. Набоков метил в число избранников, однако попал в него, хоть и заслуженно, но нелепо: через дверь детской порнографии, в которой автора обвинили немедленно по выходе его англоязычной книги, четырежды отвергнутой в США, в Париже, в 1955-м, еще пуританском, году.
До этого Набоков совершил несколько заслуживающих внимания поступков. В ранней юности последыш символизма, он позже снес религиозный чердак символистского романа, тем самым предельно эстетизировав жизненное пространство в театральном действе своей метафизически безнадежной прозы, чем попал в нерв века.
Он в полной мере воспользовался горькими плодами русской революции. Этот барчук, выпавший из райского дворянского гнезда в берлинско-парижско-американскую эмиграцию, разыграл в своих книгах тему изгнания не как национальную катастрофу, что тупо сделали почти все его соотечественники, а как экзистенциальную драму, чем снова попал в нерв века.
Он долго искал формулу предельного эстетического нонконформизма, недовольный всем, что видел везде и вокруг. Для жизненного уединения он выбрал сачок для бабочек, для литературного – вульгарную нимфетку. Если вы все любите грудастых и жопастых так называемых красивых женщин, я люблю криминально юную пизду! – вот слоган любовной истории в «Лолите», продолжение которой можно искать только в тюремной камере.
Эротическая связь зрелого спермозавра космополитической складки, Гумберта Гумберта, с Лолитой получает значение емкой развернутой метафоры, охватившей роман, как огонь хорошо разгоревшихся полений в камине. Здесь и тоска по ювинильным истокам обветшавшей к XX веку культуре, по временам Данте и Петрарки, которые выдвинуты в романе в виде поклонников воспетых ими «нимфеток». Здесь и гораздо более очевидное столкновение европовидного Г. Г. с юной Америкой на фоне мотельной спальни, наполненной шумом канализационных труб. Здесь и признание 50-летним автором подлой работы времени, быстротечность которого неумолимо старит 12-летнюю школьницу, превращая ее в заурядную красавицу. В любом случае у Г. Г. и Лолиты нет другого будущего, кроме будущей катастрофы.
Но главное в «Лолите» – метафора исчерпанности и вырождения любви, то есть закрытие основной темы европейского романа. Иначе говоря, это роман о вырождении романа. Единственным оазисом любви в этом мире оказывается маленькая любительница воскресных журналов с нежным пушком на абрикосовом лобке, преждевременная охотница за дешевыми наслаждениями, в конечном счете сбегающая от пафосного Г. Г. с модным кичевым драматургом Куильти.
Каким бы убогим ни был образ земного рая в «Лолите», он все равно отчуждает от себя набоковского героя, превращая эстета-извращенца в трагического дурака, которого не любят. Сцена убийства Куильти в безвкусных декорациях его американского дома взбесившимся от ревности Г. Г. стала источником и каноном всех последующих постмодернистских сцен ужасов, где кровь перемешана с юмором, смерть – с пьяными соплями и сентенциями о смысле жизни.
Но потери героя – приобретения автора. Утраченный рай своего детства Набоков обрел в самом творческом акте, порождающем чувственную фактуру прозы, где шорох гравия, солнечный луч сквозь листву или детская простуда важнее любых Больших Идей. Лучший Набоков – это заговор пяти чувств. Он больше всех других писателей XX века ненавидел социальное местоимение «мы», противостоя ему и в прозе, и в жизни. Он – хороший учитель совершенно стоического сопротивления. Чтобы не быть раздавленным, он обзавелся писательским мастерством и хвастался им как своим непобедимым оружием. Это была ошибка – железная власть над словом, обошедшаяся ему любовью к сочинительству слабых стихов, дурацких каламбуров, рассыпанных в той же «Лолите», а также угнетающим меня авторским тщеславием сноба. Однако чистая метафора отчаяния, найденная в «Лолите», поймала XX век в свой сачок.
Любовь к родине: летающая тарелка специального назначенияВ петербургском вестнике военного ведомства в начале XX века без тени иронии было написано, что главным врагом русского военно-морского флота является море. С тем же основанием можно сказать, что главным врагом Российского государства была и остается человеческая природа. На всем протяжении русской истории власть ставила перед собой цели, которые входили в противоречие с элементарными принципами человеческой природы. Для выполнения своей миссии она должна была обесценить человеческую жизнь настолько, чтобы уничтожение человека во имя государства не воспринималось как преступление, но имело моральное основание.
Если Европа, начиная с Возрождения, устремилась в будущее, то Россия вечно смотрела в небо. Гоголь видел ее птицей-тройкой, летящей сломя голову вперед. Большего издевательства над неподвижной, застойной страной трудно себе представить. Однако, если не птица-тройка, то что такое Россия?
Россия – это летающая тарелка, которая никак не может оторваться от Земли с тем, чтобы достичь абсолютной благодати. Вы бы видели эту летающую тарелку! Красота! Похожа на Московский Кремль: дворцы, соборы, стрельчатые башни по периметру высоких, с бойницами, стен. Вот сейчас помолимся всем миром и взлетим, вопреки законам гравитации. Мы подражаем – но не Западу, а Иисусу Христу. Максимализм – наш мотор. Наше безмерное топливо – полезные ископаемые Сибири. Наш идеал – суперфаллическая Царь-пушка. На сияющем борту у тарелки триединый лозунг, выведенный министром просвещения Николая Первого, графом Уваровым: «Православие, самодержавие, народность». Сама же идея духовного предназначения страны была сформулирована много раньше, в XV веке, после крушения Византии: Москва – Третий Рим. Москва, иными словами, – центр вселенной. От нее до неба не дальше, чем для индусов в Варанаси.
Откуда взялась идея религиозного отлета?
Земля не рожает – климат плох. Самоуправление с самого начала не задалось. Решились на беспрецедентный мазохистский шаг: пригласили варягов. Те пришли, крестили Русь, навели кое-какой порядок. Дальше триста лет татаро-монгольского ига. Пора моральных и военных компромиссов, которых до сих пор русские немного стесняются, давая им противоречивую оценку, от героической до коллаборационистской. Как бы то ни было, Россия потеряла навсегда свою культурную самоидентификацию, оказалась распятой на оси Восток-Запад. Ей захотелось в небо (отсюда и позднейшее советское стремление в космос, материализовавшееся уже вместе с Гагариным).
Ради того, чтобы взлететь, все средства хороши. Главное требование – единоначалие (самодержавие), подчинение всех одной суперцели, военное положение, беспрекословное послушание, в идеале – рабство. Все остальное (развитие цивилизации) делалось между прочим. Дало ли согласие на взлет русское население? Его не спросили. Усилием идеологической воли каждый российский подданный был наделен русской душой, которая и должна была стать пассажиркой полета. Соединение русского со своей русской душой происходило болезненно из-за несовершенства человеческой натуры. Ее неустанное перевоспитание стало константой русской истории. Частная жизнь была закована в кандалы патриархального «Домостроя». Православие умертвило русское тело бесконечными постами, сексуальными запретами, многочасовыми службами, подавлением личностного начала. Самодержавие превратило крестьян в крепостных холопов. Русская душа родилась и оформилась в государственных пытках: отрезании ушей, языков, отрубании ног, рук, голов. Наказывали фактически даже не государственных, а метафизических преступников, и наказывали так, чтобы страх парализовал волю всех других русских душ, отпечатался генетически. Телесные наказания в России, принимая лишь различные формы, никогда не прекращались.
Средневековая Россия называла себя Святой Русью, то есть самоканонизировалась. Жители святой страны должны были обладать образцовыми христианскими добродетелями, которые воспринимались по-византийски. Главная добродетель – кроткость, смирение – воспета Достоевским и всем лагерем славянофилов XIX века, позднейшими воспитателями русской души. Они же создали еще более удивительное понятие – русский Бог, который, собственно, и был богом русских душ; получалось полное зеркальное соответствие.
Казалось, все было готово для коллективного, или, говоря православным языком, соборного спасения, дана команда взлетать, покидая юдоль земной пошлости – но мы почему-то не взлетаем. Отсюда бешенство отца-командира. Почему не взлетаем? Кто виноват?
Здесь начинаются бесконечные русские разборки. Виноваты грехи наши! Назначьте меня командиром – взлетим. Это один ход мысли– отсюда дворцовые перевороты, смена царей, кровавое месиво конспираций. Второй ход: виноваты некоторые узлы летательного аппарата – поменять! Отсюда вечный зуд русского реформаторства, приведшего по крайней мере дважды к вывиху национального сознания: религиозный раскол XVII века, разделивший народ на два лагеря, и насильственная европеизация Петра Первого, создавшая, по сути дела, до сих пор непреодолимый «железный занавес» между просвещенным классом и народом.
Иногда казалось, что мы все-таки вот-вот взлетим и улетим. Так казалось, наверное, в кровавом бреду Ивану Грозному, пламенному монаху-садисту, но всегда что-то мешало. Мешали, в сущности, пустяки: очередная война с Швецией или Турцией, предательство лучших друзей, стоящих у самого трона, измена собственных детей, которых нужно было казнить. Оттого, что тарелка не летит в небо, возникают извечное русское недовольство собой, раздражение окружающими, поиски врага. Русским царям нельзя отказать в дерзости и масштабе – они не боялись ничего, видя перед собой небесную цель, они готовы были завоевывать Сибирь, строить новую столицу на финских болотах, подавлять крестьянские мятежи, переписываться с Вольтером и по-царски блядовать, как Екатерина Вторая, которая, умирая, выставила напоказ оробевшим окружающим свою голую жопу, победно воевать с Наполеоном – но все эти подвиги только отвлекали их от главной цели, время шло, кровь русских царей благодаря династическим бракам разжижалась немецкой – тарелка не взлетала.
Нужна ли русской летающей тарелке помощь Европы? Да. С этим согласны все цари. Но помощь должна быть с цензурой. Пусть помогут, но не привнесут свою идеологию – ведь они не хотят лететь с нами в небо, у них есть свое антинебо, нам с ними не по дороге. Россия играет с Западом в кошки-мышки. Запад лежит на земле. Демократии не умеют летать. России надо уберечься от скверны, взяв от Запада исключительно технологию (множество технических терминов заимствовано из немецкого языка). Вместе с тем царская Россия – империя всеобщего спасения. Она была не прочь спасти и другие народы. Ее идеологическая щедрость не знала границ. В сферу ее влияния входили не только Финляндия и Аляска, но даже (на короткий период) Гавайские острова. Пусть все полетят с нами, только смените ваши имена на наши имена-отчества, примите православие – и с Богом! Однако многонациональность царской России (около 200 разных народностей), безусловно, мешала взлету. Царизм проводил политику жесткой русификации, создал совершенную систему ссылки и каторги; революционеры, не без основания, называли царскую Россию тюрьмой народов.
Царскую Россию трудно назвать исключительно автократией, как русский коммунизм – ее наследника – только тоталитаризмом. Русское государство было прежде всего инструментом общенационального спасения, мистическим аппаратом, метафизическим телом, поэтому Русского государства фактически и не существовало, была его видимость, потемкинские деревни, строительные леса, от которых осталось много строительного мусора, и недаром Кюстин считал Россию империей фасадов. Но проницательный путешественник не нашел в себе сил заглянуть за фасад и увидеть там летающую тарелку, ослепительное явление, основной национальный фантазм. Вот почему он все понял и ничего не понял в России. Россия искала на Западе физические параметры взлета, но метафизику полета она знала сама наизусть. Вечный страх Европы перед Россией состоит в ощущении ярости этого стремления взлететь.
Но мы не летим – что делать? Ничего не делать. Если взлететь невозможно, все остальное кажется бессмысленным. Отсюда – саботажник Обломов. Именно вокруг неги и праздности возникает скромное обаяние дворянских гнезд: желто-белые, с колоннами, помещичьи усадьбы в духе классицизма на берегу реки, высокие колокольни, звездно-синие купола, обильная вкусная еда, штоф водки, выпитый под соленые рыжики, частные библиотеки с вдумчивым подбором книг, добрые слуги, гостеприимство, лихая охота на медведей и волков, балы. Россию в образе потерянного рая увезли с собой в эмиграцию Бунин, Набоков и тысячи других беглецов. «Потерянный рай» стал политически полезной моделью для многих западных историков эпохи «холодной войны».
Ностальгия эмигрантов забыла о смысле русской революции. Ключевым понятием русской истории был страх. Но нашлись безумцы, которые его перебороли. Если царская Россия – враг здравого смысла, то диссидентство началось как его защита. В сущности, интеллигенция тоже была не против летающей тарелки (вот уж национальная паранойя!). Но она была готова оставить летающую тарелку на Земле, сделав жизнь на ней полной гармонией. Отсюда до революционной концепции русского коммунизма – один шаг. 50 томов ленинских сочинений – это новый проект «тарелочной» утопии.
Открою, наконец, главный секрет России: загнанная в прокрустово ложе святости русская душа скорее всего только прикинулась святой. Религиозный максимализм обернулся демонстративным цинизмом. Удовольствия в России получили запретный и дикий характер, возникли раздвоенность, шизофрения духа, хитрость, изворотливость, склонность к бесчестию, вероломство, неверие в право, идеал саморазрушения как единственно возможное доказательство собственной личности. Тем самым создалось напряжение, необходимое для бурного развития русской культуры, основной темой которой стал смысл жизни. Нет ни одного русского писателя, музыканта, художника, ни одного Чехова, ни одного Толстого и Чайковского, который бы зимними ночами не думал, не спорил с товарищами о смысле жизни.
Царская Россия в конце концов не проявила истинной последовательности. Под давлением Запада, в результате либерализма (Александр Второй), или просто меланхолии (Николай Второй) начались всякие уступки человеческой природе за счет русской души, в результате чего царизм вместо того, чтобы взлететь в небо, разлетелся на миллионы осколков. Несмотря на различие масштабов насилия, между царским и советским режимами не существует значительного разрыва: они насквозь идеологичны. Это сквозная империя слова и образа, которым должна подчиняться жизнь. Сейчас Россия, утратив метафизическое измерение, плохо видное иностранцам, оказалась в ущербном положении, теперь ее мало что внутренне связывает, кроме ностальгии по прошлой метафизике. В 1988 году выпускники средних школ не сдавали экзамена по истории. No past. Но царская Россия присутствует с нами своими осколками – это популярный курс русской истории Ключевского, написанный во славу романовской династии, обручальные кольца на пальцах молодых людей, сделанные из николаевских серебряных полтинников, война в Чечне – наследие царской национальной политики, полубитый синий чайный сервиз в бабушкином буфете, двуглавый орел, заимствованный Ельциным из царской эмблематики, перламутровые пуговицы, срезанные с дореволюционного нижнего белья и валяющиеся в комоде непонятно зачем, наконец, тот же самый комод из красного дерева, с отломанной ножкой, украденный когда-то из барской усадьбы, которая была сожжена в революцию, но от которой, как последний привет от царской России, осталась старая липовая аллея со сладким запахом в разгаре лета.
Наташа Ростова двадцать первого векаМесто действия
Если энергично произносить русское слово «деньги», обнажаются все зубы, появляется волчий оскал. Это я заметил у своей бывшей любовницы в то время, когда она стала бывшей. Мы сидели во французской кофейне на Триумфальной и при большом наплыве воскресной публики, макая жирные круассаны в «кафе о лэ», распилили нашу любовь на вложенные в сожительство средства. Много не показалось. И будь я Львом Толстым компьютерных дней, то написал бы «Войну и мир» не о нашествии Наполеона на Москву, а о захвате ее провинциальными ордами. Москва горит от них, как от пожара. Роман бы вышел с большим количеством испорченной крови, бессовестных образов и моральных подстав. Но я – не коренной столичный фашист, чтобы считать, что Москва принадлежит одним москвичам. К тому же я сам попался: взбесившееся обаяние молодых провинциальных воительниц меня и вдохновило, и перепахало одновременно. Подпитанные выкликом трех сестер, помноженным на старый колбасный миф о том, что в Москве «все есть», они не могли не выдвинуться в город, где миф вдруг вписался в реальность и где есть, в самом деле, всё и все.
Жизнь на этой космической глыбе – космический бред. Светящийся метеор, с диким гулом летящий во тьме, сегодняшняя Москва производит впечатление абсолютно праздничной катастрофичности. Жизнь прет из всех дыр, бьет кровавыми фонтанами Поклонной горы, бурлит денежными потоками, пульсирует FМ-ритмами, забивается автопробками и, вновь прорвавшись, кружит по площадям.
Население – перерожденцы, импровизаторы, мутанты. Кто они? – им самим неизвестно, иностранцам невдомек, Господу Богу неведомо. Москва стоит не на семи холмах, не на былой славе, опирается не на власть, апеллирует не к авторитетам, а связана новой силой. Если в советской трешке открывался лучший вид на Кремль, то теперь сам Кремль – это лучшие виды на деньги. Деньги! деньги! деньги! – слышалось на улицах других городов мира, от Нью-Йорка до Варшавы, я сам слышал, чаще других слов. Красная Москва скупо молчала, лишенная их цены. Москва сегодня – охота за деньгами. Я сам – охотник.
Обмен и измена – однокоренные слова. Это не так очевидно, как смена витрин, автомобильный бум, уличная проституция, рекламные растяжки, но меняет московскую жизнь радикально, а иным разбивает жизнь вдребезги. Идет перераспределение гендерных ролей, половой переполох: нарождается невиданное сословие русских женщин – самостоятельных, самодельных, самоходных установок. Женщина-самоход появилась куда стремительнее, чем была опознана российским мужским сознанием, недогадливым и патриархальным, с откровенно «мачистской» подкоркой.
Короче, возник новый образ Наташи Ростовой.
Тема
Она не носит ни кошелька, ни трусов. Не хочет зависеть ни от белья, ни от денег. На последние сто тридцать долларов она инвестировала в меня свой подарок: телефон «Panasonic» с автоответчиком. Она недолго ждала ответа. Так в моей жизни произошла не только смена вех, но и поколений. Юные женщины отличаются от молодых преимущественно возрастом.
Подмышки Женьки вкусно пахнут воском. Ее любимое слово – «тема». Жизнь Женьки – разноцветная расточка тем. Ее любимая тема – старые советские фотоаппараты. Новые бренды ей «до пизды». Она не боится мата. Сленгом пользуется по обстоятельствам: то густо, то пусто. С «Киевом» образца 1979 года через плечо, с прерывистой геометрией жестов, смешливой мимикой, она идет через лес в Бухте Радости к пляжу. Спотыкаясь о корни, подружки едва поспевают. Купаться! Она – через голову длинное платье без рукавов. Загорелая, в воду. Переглянувшись, подружки не следуют ее примеру.
– Странно, – пристыженно сказала одна из них, киноактриса. – Такое красивое тело, что она не производит впечатление голой женщины.
В свои девятнадцать лет Женька любит делать фотоавтопортреты в разных ракурсах. «Фотографиня» – с иронией окрестили ее газеты. Некоторые считают, что ракурсы слишком рискованны. Ей это тоже «до пизды». Ее не заподозришь в заматерелом эксгибиционизме. Что-то случилось с «культурным» временем, и она его просекла: любая фотография раздевает, но тело живет, как дух, где и как хочет. Ему тесно в сексуальной выгородке. Женька – предвестник постэротического века. Ее суждения не менее откровенны и неожиданны, чем ракурсы:
– Когда моя подружка Руда позвонила и сказала, что ее муж, наркоман, повесился, я испытала страшный подъем сил. Мне захотелось фотографировать.
Морща полудетский лоб:
– Смерть возбуждает.
– Не знаю, как с ней разговаривать, – признался мне известный московский телеведущий. – Она какая-то… – Он задумался, – виртуальная.
Дело было у него на даче. Мы глядели в открытую дверь детской комнаты, откуда неслись гортанные звуки компьютерных войн. Она сидела на одном стуле с 13-лет ним сыном друга, в своем несмываемом загаре, уставившись в монитор. Вдруг вскочила, выбежала к нам и, радостно тараща серо-зеленые глазища, схватила меня за руку:
– Я убила главного дракона!
«Наташа Ростова двадцать первого века», – подумал я.
Молодые друзья зовут ее на английский лад Jenifer, что мне не очень-то нравится, но я смирился: у них всех «кликухи»: один – Вкусный, другой – Неф, третья – Морковка, – компьютерные маски, в которых они включаются в интернетовские чаты, ездят по стране автостопом, ходят на концерты любимых рок-групп. Паспортные имена – на потом, когда начнется, если начнется, «настоящая жизнь». Маскарад имен – защита и от милиции, лениво охотящейся за ними, когда они курят траву, устраивают уличные акции. Юная Россия дурачится. Отправляя меня работать к компьютеру, Женька дует мне на лоб, как на лобовое стекло, и тщательно протирает рукавом свитера, чтобы мне лучше виделось, что писать. И пока я пишу, она на кухне создает египетскую пирамиду, цементируя ее шоколадным соусом, из рафинада, на основание которой подсел сделанный из фольги плоский гитарист, похожий на Элвиса Пресли.
Мы сошлись из разных миров, друг для друга инопланетяне.
«Китайский летчик»
В ту пятницу, идя на невольный рекорд по снобизму, я ужинал в «Китайском летчике» с Гюнтером Грассом, немецким нобелевским лауреатом по литературе. Мы пили водку под грибочки и прочие русские радости и быстро дошли до темы, есть ли Бог. Старомодный адепт «абсурдной» философии Камю, Гюнтер Грасс твердил, что все мы – Сизифы, напрасно прущие камень в гору, но я-то знал, что Бог есть. Он вызверился на мне, разломав отношения с «духовно близкой», как я считал, 34-летней любовницей. Чем азартнее я это доказывал, тем больше Гюнтер утверждался в своем атеизме. Дальнейшее вижу смутно. Помню только, что эта любовница вдруг оказалась напротив меня за столом и стала требовать ключи от нашей квартиры, что было еще абсурднее, чем у Камю, поскольку она не собиралась в ней жить. Вместе с абсурдом нагрянул Стив, переводчик посла США в Москве, и принялся плясать под тамтамы с румяной, кудрявой Ириной Борисовной, распорядительницей заведения. Нобелевский лауреат растворился в воздухе. Я был предоставлен мыслям о непоправимости бытия.
Будь я меньше пьян, я бы отказался: бесконечно молодое существо «сняло» меня, потащило за собой в танцевальные дебри. Она танцевала не то что умело и страстно, как танцевали женщины моей жизни (мне везло на танцующих женщин), она танцевала остраненно и беззаветно, ненароком пародируя танец жизни. Вокруг нас раздвинулось пространство. Она смотрела мне в глаза, будто хотела перекачать в меня свою энергию. Я взмок, я стал трезветь, я не мог остановиться.
Под утро вышли втроем: Стив, я и она. Пока решали, куда ехать, Москва захорошела: встало солнце. У Стива мы съели и выпили все его холостяцкие запасы, потом сбегали в магазин и позавтракали. Я потянулся к ней.
– Не хочу, – с жестяной дружелюбностью сказала Женька и осталась спать на диване в гостиной. В небесной канцелярии мои личные документы передали новому должностному лицу.
Ингредиенты
Ее знакомство с компьютером не ограничено убийством дракона. Когда «заболел» мой ноутбук, Женька взяла его на руки и возилась, как с «маленьким», называя ласковыми словами. Ее голова – «центр сборки» – техномолодежная смесь русско-английских компьютерных терминов, снов о пчеле, укусившей ее в живот, глюков, подрывов, продвинутой техники, стильных автомобилей. Она напевает песенки о чудо-йогуртах и постоянно играет словами, как юные шекспировские герои. Мистический ребенок, ведомый энергиями параллельных миров и рыночной экономики, она зачитывает мне вслух список ингредиентов, из которых состоят продукты: тоник, пельмени, паштеты, супы, а также – фильмы и спектакли, по выбору «Афиши». Ей хочется все сравнивать и выбирать. Длинный ряд бутылок итальянского оливкового масла в «Седьмом континенте» волнует ее не меньше, чем рок-концерт. Она неустанно каталогизирует жизнь, в чем, может быть, смысл ее поколения, которому не по кайфу не оприходованная до сих пор российская действительность.
Женька не делает различия между высокой и низкой литературой, читая вперемежку «Божественную комедию», Бориса Виана, бесплатный «Клиент». Ее библиотечка состоит из разрозненных книг по шаманизму, уходу за ногтями, которые она красит в разные цвета в зависимости от времени года, и «Робинзона Крузо» на французском языке, который она кое-как выучила в школе. Женька считает, что в России много «лишних слов» и сердится, когда я говорю «длинно». Ей претят «депресняк» – положения, из которых нет выхода, то есть именно то, чем славится интеллигенция, и фуршетная халява, услада прожорливых журналистов. Мир начинается внутри нее, а не за дверями частного сознания, как это было заведено у той же интеллигенции. Ее представления о красоте имеют европейские корни, но французский салат с помидорами, не говоря о рисе, она будет есть палочками. На шее сакральное украшение из тибетского серебра. Она не любит милиции как таковой, но считает, что к каждому милиционеру нужно относиться по-человечески.
За ужином или когда мы едем в машине, Женька рассказывает мне анекдоты. Она помнит тысячи анекдотов: детских, о «новых русских» и самых порнографических, – и рассказывает их с тем же актерским выражением, с которым русские поэты читают свои стихи. Что будет с нами, когда у нее закончится анекдотный запас? Она – Шахиризада анекдота, который, как мясорубка, проворачивает русскую действительность, чтобы та стала наконец более удобоваримой.
Когда Женька ругается, она предпочитает «фак!» русскому «блядь!». Но свои и мои гениталии она называет чисто матерными словами. Если моя «бывшая» Агата дергалась от слова «ебля», то Женька предпочитает его удачному эвфемизму «трах», филологической гордости моей генерации. В Женькином поколении мат отомрет как запретная самостоятельная тема.
Хорь и Калиныч
Женька и Агата – провинциалки. Агата– из рыбно-татарской Астрахани. Родители Женьки остались за бортом, в Крыму. Обе звонят родителям редко и говорят коротко, равнодушно изображая свою жизнь в положительных красках. У обеих отцы – безработные пьяницы, у Женькиного – всего четыре зуба. Москва обеим далась нелегко. Они прошли через опыт экстремного выживания, бездомства, безденежья, недоедания, обломов, использования людей, что вынесло их на уровень энергетики, неведомый полуленивым москвичкам. Одноклассники и поныне вспоминают Женьку в молчаливом образе читающей барышни в приморском парке Феодосии с прозрачным лицом. С тех пор у Женьки щечки погрубели. С женским цинизмом обе считают, что «мужчина должен платить по счетам». Так сказала мне Женька, размышляя в начале знакомства, зачем я ей нужен. Мы чуть было не залетели в ситуацию содержанства, но тормознули на любви. «Это я от отчаяния», – позже оправдывалась она.
Агата хотела завоевать мир, но плохо разбиралась в географии. Когда мы с ней очутились в Сан-Франциско, она с подслеповатым недоумением узнала, что мы на берегу Тихого океана. Женька принадлежит точной географии: далекий осколок средиземноморской культуры, Крым ближе ей, чем Нью-Йорк и Берлин, а Греция ближе Византии. Она, как тексты раннего Камю, полна запахов моря, ветра, высохшей в знойной степи травы и легкого «цветочного» пофигизма. Неважно, что Крым оказался за границей. Ее не волнует странное деление бывшей империи.
Деньги схожи для них с красотой – та же «страшная сила». Одна раскладывала мелочь по подоконникам, привораживая деньги в семью; другая показывает их молодому месяцу с той же целью. Обе убеждены, что, если не закрывать крышку унитаза, в доме не будет денег, и равнодушны к классической музыке. Агата никак не могла вспомнить даже приблизительную дату Французской революции; Женька наплевательски предполагает, что Радищев был на содержании царского правительства. Больше того, Женька уверена в том, что Гитлеру все-таки удалось провести парад немецких войск на Красной площади в 1941 году, а дальше случился великий пожар: Наполеон и Гитлер сошлись в ее исторической геометрии. Обе нечасто говорят «спасибо» и «извините». Так русские, объясняясь по-английски, редко употребляют артикли, которых нет в родном языке.
В поколении Агаты покорение Москвы шло через азартное, «с наслаждением», нарушение законов (в этом был свой полет): подделку справок, фиктивные браки. Лихая астраханская Растиньячка разбрасывала сети ума и обмана. Застенчивое аморальное существо, сотканное из убеждений и их нарушений, она расширительно хотела всего: и рыбку, и хуй, и трактор. Я ценил ее за масштаб. Она ежилась, когда я ее называл «верной подругой», темнила, скрытничала, стала червивой от лжи; Женька – распашонка. Женька – первые побеги законопослушания в этой еще почти беззаконной стране. На бензоколонке она требует чек за оплату бензина, ненавидит «пиратские» видеокассеты, переходит улицу на зеленый свет, крепко держа меня за руку (ее первого мальчика сбила машина – он умер в больнице). С ней я испытываю смутное доверие к русскому прогрессу.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.