Читать книгу "Большая жизнь"
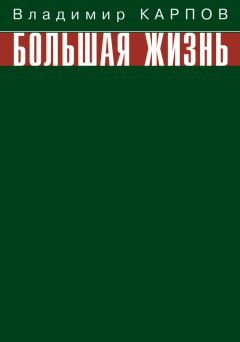
Автор книги: Владимир Карпов
Жанр: Книги о войне, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Юность
В Ташкенте мы жили в старом городе, в узбекской махалле, друзьями моими были ребята-узбеки, и я в эти годы больше говорил, пожалуй, на узбекском, чем на русском. Учились мы в одной школе, в которой были и русские, и узбекские классы, поэтому я говорю на узбекском и хорошо знаю все махаллинские обычаи и законы. Жили мы в районе Шайхан-Тайура, Катор-Терак, Кор-Егды, Джар-Куча.
Махалля Джар-куча называлась по имени небольшой речки, которая протекала здесь в низине широкого оврага. На правом высоком берегу ютились узбекские глинобитные домики с плоскими крышами. В одном из них мои родители сняли комнату с верандой, отгороженной дувалом от хозяйского большого дома. Просторный двор был удобен для подсобного хозяйства, и мама завела кур и поросенка.
Левый берег оврага был пологий. Какой-то чудак в годы модной электрификации решил построить небольшую электростанцию на водопадике речушки Джар. Было возведено здание из жженого кирпича, поставлена турбина. Но на этом все кончилось. Электростанция не заработала. По какой-то причине ее законсервировали. Местные жители растащили оконные рамы, двери. Мальчишки отвинтили и отодрали от оборудования все металлические детали и сдали их за деньги в металлолом. Остался от этой электростанции один скелет. Да еще неподалеку длинный барак, который соорудили для себя строители электростанции.
Барак тоже был раскурочен – без окон и дверей, но его облюбовали уголовники. Они создали здесь воровскую «малину». Бездомные жулики, «работавшие» в старом городе (Ташкент разделился на старый, узбекский, и новый, европейский) приходили сюда отдыхать или переспать ночью. Сюда шли освободившиеся из лагерей воры, еще не нашедшие себе жилья. «Малина» эта была широко известна в уголовном мире. Здесь жуликам всегда было весело и празднично – играли в карты, пьянствовали, отмечая удачные кражи, приводили сюда «шмар», с которыми жили в приспособленных для этого комнатах барака.
Даже устроив себе нормальное жилье в снятой в городе комнате или квартире, воры приходили на эту «малину» развлечься, пообщаться с друзьями, поиграть в карты. Милиция сюда не заглядывала, здесь могли убить, и никто не найдет преступника, ворье умело хранить тайны.
На пологом берегу долины, за бараком, мы, местные мальчишки, играли в волейбол. Когда были маленькие, нас к «малине» не подпускали, а когда подросли, стали нас использовать – посылали покупать папиросы, водку и закуску. Продавать водку малолетним не разрешалось, но продавцы местного магазина на высоком берегу оврага знали нас и то, кому мы покупаем водку, продавали поллитровки без разговоров. Они боялись, что мы подожжем магазин, если нам откажут. Мы на это были способны. Некоторым из нас – в их числе и мне – нравилась «романтика» блатной жизни. Нам уже как «своим» разрешали посмотреть на карточную игру или вечерком у костра послушать рассказы о лихих «делах», кражах.
В общем, блатным душком я здесь заразился основательно. Никогда в последующей жизни я никому не рассказывал об этом, скрывал неприличный зигзаг в своей молодости… Но что было, то было, и я решил ничего не скрывать в своей исповеди.
Профессиональным вором я, слава богу, не стал, не приобрел никакой воровской «квалификации»: ни «ширмача-карманщика», ни «скокаря-домушника» по квартирным кражам, ни тем более «медвежатника» – спеца по взлому сейфов. Я участвовал в нескольких простейших ограблениях на «гоп-стоп» на вечерних улицах. Такая жизнь мне казалась тогда интересной и приятной, у меня появились свои деньги, и я мог позволить себе некоторую роскошь, однако странную для «бандита» – я не покупал, не пил водку (домой нельзя было заявиться в пьяном виде), не заводил «шмар», не попробовал еще этого «удовольствия», мне было всего 14–15 лет. Я покупал и наслаждался сладостями, пирожными, шоколадом, мороженым.
Все это продолжалось недолго и кончилось, естественно, арестом. Однажды мы вечером, в центре города, на одной из темных улиц отобрали у женщины чемоданчик. В те годы еще не было кейсов-дипломатов, она шла с работы с этим небольшим чемоданчиком. Наверное, после трудового дня решила прогуляться. Чемоданчик вырвал у нее из рук Бобыль (наш сверстник по фамилии Бобылев) и побежал в сквер. Мы, Гуля, Сенька и я, несколько минут придерживали женщину и, не причинив ей вреда, отпустили. Она тут же побежала вслед за Бобылем и стала кричать: «Помогите! Помогите!». Мы сторонкой последовали за ней. Бобыль тем временем в кустах пытался открыть чемоданчик, но, услыхав крик женщины, бросил его и выбежал из зарослей на аллею, где его и схватили мужчины, услыхавшие крик женщины. Мы пристроились к толпе и стали наблюдать, что будет дальше.
Женщина взволнованно объясняла скопившимся прохожим, державшим Бобыля за руки:
– Он вырвал у меня чемоданчик с документами и деньгами.
У Бобыля чемоданчика не было. Мы поняли, что он его бросил, и быстро пошли в том направлении, в котором бежал Бобыль. Сенька увидел чемоданчик под кустом, быстро схватил его, и мы побежали из сквера. За нами следом уже шла небольшая толпа с обокраденной женщиной и Бобылем. Они искали чемоданчик.
Отойдя на несколько кварталов, мы с Сенькой и Гулей вскрыли чемоданчик и обнаружили в нем бумаги, печати и деньги. Документы и печати служебные, мы их бросили в почтовый ящик. Деньги поделили на доли. Я взял свою долю и Бобыля. Тут же зашли в гастроном и купили мягкую, сдобную плюшку. Ел я ее с удовольствием, и жизнь мне казалась прекрасной!
Но уголовный розыск раскрутил это дело – женщина оказалась третьим секретарем центрального райкома партии.
Нас, участников ограбления, с помощью задержанного Бобыля вычислили, разыскали и арестовали. Меня арестовывал ночью на квартире майор уголовного розыска Разумный с группой милиционеров. Я спал, майор подошел к моей постели, разбудил и поднял подушку, мама с ужасом увидела под ней деньги и финку.
Просидел я под следствием несколько месяцев. Отсидка эта была веселой, в камере играли в карты, слушали «романы», которые рассказывал опытный вор Володя Козырев. Был он талантливый рассказчик, пересказывал «Трех мушкетеров» и «Пещеру Махтвейсов» буква в букву с пейзажами и переживаниями героев.
Судьбу нашей группы облегчило то, что Бобыль оказался сыном полковника – начальника областного НКВД на Дальнем Востоке. Он приехал в Ташкент и увез сына на Дальний Восток.
Местные ташкентские энкавэдэшники спустили наше дело «на тормоза», чтобы не подвести своего коллегу, незаконно увезшего сына от следствия и суда. Они оформили наше преступление не по статье «ограбление», а как «шалости» несовершеннолетних.
Суд состоялся, дали нам «по году условно», обосновав это тем, чтобы мы при лагерном заключении не стали настоящими уголовниками. Бобылева судили заочно. Нас освободили из-под стражи в зале суда после приговора. И вообще по этой статье с условным сроком нас уже по закону считали несудимыми.
Представьте себе состояние моих родителей, когда я вернулся из тюрьмы домой. Мать в слезах повторяла: «Как ты мог до этого опуститься?!» Отец со мной не разговаривал, он меня презирал.
Для того чтобы оторвать меня от джаркучавской «малины», сняли квартиру в другом конце города, в районе Паркентской улицы (ныне она носит имя генерала Петрова). Из школы им. Чапаева (на Хадыре) меня перевели в местную школу № 61, где с ужасом приняли в шестой класс – такой подарочек педагогам – уголовничек с судимостью (после суда год еще не прошел)!
Но я был нормальный парень, порвал все связи со старыми дружками, сам понял, что пошел по очень опасной дорожке.
В школе, чтобы занять свободное время, записался в драмкружок, которым руководил (подрабатывал) пожилой профессиональный артист Матвей Захарович. Мы ставили под его режиссурой серьезные пьесы, скетчи. В чеховском «Юбилее» я играл Шипучина. Матвей Захарович считал меня талантливым, водил вечерами в драмтеатр на спектакли по контрмаркам.
Стихи, бокс, училище
Любовь к литературе, тяга к писательству появились у меня в четвертом классе, и я начал писать стихи. Меня подбадривала учительница по литературе, подсказывала, как писать стихи. Но все же главным, кто приобщил меня к этому священному делу, я считаю Григория Цуркина, одного из сыновей тех Цуркиных, которые когда-то приютили моего деда-подкидыша. Поколения Карповых и Цуркиных продолжали дружить и считались родственниками. В тридцатые голодные годы приехали в Ташкент, тоже в поисках более сытой жизни, и Цуркины, младшим из которых был двадцатилетний Григорий.
Сам Гриша писал стихи и прозу. Позднее издал хорошую книгу о войне «Други и товарищи» и даже работал редактором в издательстве «Советский писатель».
Он приучил меня читать критические статьи, исследования о жизни и творчестве поэтов. Выписал мне журнал «Литературная учеба» (в тридцатых годах!). Я читал статьи этого журнала с бόльшим упоением, чем Майн Рида, Александра Куприна, Джека Лондона, Дюма, Фенимора Купера, которыми тоже увлекался.
Гриша был поклонник Маяковского, восхищался его новаторством, экспрессией. Ну, вполне естественно, Маяковский стал и моим кумиром. Как результат этого увлечения появлялись мои стихи «под Маяковского»:
Ташкент,
Город красивый весьма,
Центра, над асфальтом улиц
этажится.
Солнце, распахнутое во весь мах,
Оседает на людей —
загара сажицей.
Люди мечутся от тени
к тени,
На физии у них
воды хотенье…
Все выпитое потом стекло,
А в жиже мозгов
копошится вера —
Над городом —
увеличительное стекло,
А не атмосфера.
Гриша подарил мне книгу «Что надо знать начинающему писателю». Стал я сочинять и рассказы. Ходил на литературные вечера в Союз писателей Узбекистана, где впервые увидел «живых», «настоящих» писателей, которые приехали из Москвы и устраивали литературные вечера, – Мстиславский, Юрий Арбат.
Я даже посылал свои рассказы на конкурс молодых. Но не получил не только премии, но даже и отзыва.
В сороковые годы вопрос «делать жизнь с кого?» ставился в нашей печати широко. Суть его воспринималась молодежью глубоко и серьезно. Ярких личностей, прекрасных образцов для подражания было предостаточно в те времена.

Комбриг Иван Ефимович Петров
Моим кумиром стал генерал Петров. Не из книжки. Не с киноленты. Живой, кого я каждый день видел, и в то же время кажущийся недосягаемым. Он был рядом, ходил, говорил, действовал. Говорил и со мной, не подозревая, кем для меня является.
Я счастлив, что жизнь свела меня с ним. Судьба моя сложилась бы иначе, менее интересно, хотя, возможно, и не так трудно, если бы я не встретился с этим человеком. Он постоянно был в моей душе, хотя многие годы реально находился где-то далеко. Я не был другом, но не был для него и сторонним человеком. Он тепло относился ко мне все двадцать лет знакомства – с 1938 по 1958-й, последний год его жизни. Пишу об этом так смело потому, что причины этой доброжелательности крылись не в моих личных качествах, а в его чуткости, отзывчивости, в его прекрасной душе. Нет, он не был ангелом во плоти. Бывал крутым, порой беспощадным. Знал вспышки ослепляющего, но справедливого гнева. Благодарю судьбу, что я ни разу не был повинен в таких вспышках.
Кто же он, Иван Ефимович Петров?
Я увидел его впервые в 1938 году и тут же полюбил навсегда и бесповоротно. Он ходил в военной форме, носил ромб на петлицах гимнастерки, что в те годы соответствовало званию комбрига. Загорелый, перетянут широким командирским ремнем, с крупной звездой на пряжке, через правое плечо портупея, до блеска начищенные сапоги. Очень неожиданное пенсне на переносице. За долгие годы службы в армии я не видел ни одного командира, носившего пенсне. Очки носили многие, а военных в пенсне – не встречал.
Комбриг Петров был начальником Ташкентского военного пехотного училища имени В.И. Ленина, которое размещалось в здании бывшего кадетского корпуса недалеко от реки Салар, там, где начиналась Паркентская улица. Ближайшей к училищу была 61-я средняя школа, в которой я учился, и в ней же учились дети многих командиров, работавших в училище. Среди этих ребят был Юра Петров, сын комбрига. Юра и привел меня однажды к себе домой, где я увидел его отца Ивана Ефимовича и мать Зою Павловну.
Юра был единственным сыном Петровых. Это был очень веселый и общительный мальчик. Худой и подвижный, он был заводилой многих озорных проделок одноклассников, но никогда не скатывался до хулиганства. Учился он легко, с друзьями был открыт, простодушен.

Сиднею пошел 25-й год – лучший возраст для боксера
В эти же годы я начал заниматься боксом.
Не знаю почему, но бокс у меня всегда вызывал сладостное замирание сердца. Я вырезал из газет и журналов снимки боксеров. Увидев афишу о соревновании по боксу, спешил туда. И, забыв все, с трепетом наблюдал за боями. Боксеры были для меня людьми необыкновенными. Постоять рядом с боксером, послушать, о чем он говорит, было наслаждением. Потом я, конечно же, врал ребятам, что боксер именно около меня остановился и со мной разговаривал. Я читал о боксерах все, что находил. «Мексиканец» Джека Лондона был моим любимым рассказом.
В 1935 году в стране прошла волна открытия дворцов пионеров. Создали такой «дворец» и в Ташкенте. Я шел как-то по центральной улице и увидел об этом объявление. Пионерам предлагалось выбрать любой кружок: авиамодельный, литературный, рисования и лепки. И вдруг, не веря глазам, прочитал: «Бокс – желающие заниматься, обращайтесь к товарищу Сиднею Джексону».
Я не пошел, а побежал искать этого Джексона. Он представлялся мне здоровяком с перебитым носом и бугристыми мышцами. И каково же было разочарование, когда Сидней оказался маленьким седым старичком, но, правда, с перебитым носом. И еще был он настоящий американец. Во время каких-то соревнований, еще до революции приехал с командой в Россию, но в первом же бою в Москве сломал палец и не мог выходить на ринг. «Мухач» (боксер легчайшего веса) большой привлекательности для публики не представляет, без него можно обойтись, и антрепренер, чтобы не тратиться на гостиницу и обратный билет, просто выгнал Сиднея, сказав: «Заработай на возвращение сам. Ты и так мне дорого стоил. Я привез тебя работать, а ты стал балластом».

Диплом чемпиона Средней Азии по боксу

Заметка о чемпионе Средней Азии по боксу В. Карпове от 7 ноября 1940 года
Сидней устроился тренером на работу в «Российскую лигу бокса», его знания там оценили не только профессионально, но и материально. Хорошо зарабатывая, Сидней подумал: «Зачем уезжать – дома мне так платить не будут. Поработаю и вернусь с хорошими деньгами». И заработал бы, но вспыхнула революция. Русским стало не до бокса, драки не на рингах, а по всей стране заполыхали. Сидней не остался в стороне. Классовый инстинкт забурлил и в нем. Сидней в Америке работал на заводе, поэтому записался в интернациональную роту, дошел с боями до Ташкента, когда кончилась Гражданская война, осел здесь до лучших времен для возвращения на родину. А потом прижился, завел семью – жену и детей. Работал тренером в «Динамо», а затем вот еще и во Дворце пионеров.

Перед поступлением в училище
Дети пришлись очень по душе Сиднею. Возился он с ребятами с утра до ночи, был им и другом, и добрым наставником. Вырастил Сидней до войны немало хороших боксеров, даже чемпионов разных соревнований. В том числе и я выиграл первенство города среди новичков.
Ни знаменитым поэтом, ни большим чемпионом я не стал – помешала не только война, но и события, выпавшие на мою долю еще до нападения Германии.
Некое отступление
Александр III, сын Александра II, родился 26 февраля 1845 года. Был вторым сыном Александра II, наследником престола стал после смерти старшего брата Николая Александровича 12 апреля 1865 года. У Александра III было несколько сыновей, в том числе и будущий последний император Николай II. Он родился 6 мая 1867 года, рос инертным и ленивым в учебе, «дремал на уроках» наставников. Но, как сообщает энциклопедия Брокгауза и Ефрона, «очень рано втянулся в грубый казарменный разгул и пьянство в компании великих князей», среди которых был и брат Константин Романов.
При Александре III русские войска окончательно завоевали Среднюю Азию, последним был взят Ахалтекинский оазис, город Мерв и маленькая Кушка в 1885 году.
Англичане, господствующие в Афганистане, стали готовиться к большой войне, но русское войско, дойдя до Кушки, остановилось, и англичане смирились с этим.
В Ташкенте было создано Среднеазиатское генерал-губернаторство, которое возглавлял генерал Кауфман.
В эти годы молодые великие князья вели распутную жизнь. Особенно отличался великий князь Константин. Однажды он публично оскандалился своей связью с известной балериной. Терпеть его безобразия батюшка больше не мог и наказал Константина, сослав его в Среднюю Азию наместником.
По пути «в ссылку» великий князь продолжал резвиться и, в пику своим царствующим родителям, в знак протеста против опалы, по пути в Ташкент остановился и загулял в Самаре. Здесь ему приглянулась местная хорошенькая дворяночка, на которой он женился и обвенчался. Это было оскорблением царской фамилии, потому что великие князья должны были жениться на себе подобных королевских или царских дочерях. Вот в княжеском дворце в Ташкенте в 1936 году и открылся Дворец пионеров.
* * *
Однажды в доме Юры Петрова у меня произошел с Иваном Ефимовичем Петровым очень важный в моей жизни разговор. Иван Ефимович сказал:
– Володя, ты здоровый парень, боксер, из тебя получился бы хороший командир.
Мне нравились сильные, загорелые, веселые курсанты и особенно командиры военного училища, я втайне мечтал быть на них похожим. И вдруг Иван Ефимович указывает мне на такой простой и очень реальный путь. Я спросил с некоторым сомнением:
– А примут ли меня, мне ведь еще не исполнилось восемнадцати?
Иван Ефимович посмотрел на меня с улыбкой и сказал:
– Вон какой ты здоровый, иные восемнадцатилетние послабее тебя. К тому же я начальник училища, этот вопрос решать буду я.
Два года учебы промелькнули быстро. Я окреп, загорел под азиатским солнышком. Продолжая тренировки в боксе, достиг высоких результатов: стал чемпионом Среднеазиатского военного округа и Средней Азии в среднем весе. И с поэзией дело продвигалось: стихи мои печатали в окружной газете, редактор ее, опытный журналист, полковой комиссар Федоров советовал не оставлять стихи, даже когда стану командиром.
В училище я был местной знаменитостью: у всех на виду как чемпион и как поэт. Начальник училища генерал Петров награждал меня грамотами, ценными подарками, не раз приглашал к себе в кабинет, расспрашивал о планах, давал добрые советы о будущей службе, даже намекал на то, что может оставить меня после окончания училища командиром курсантского взвода.

Курсант Ташкентского военного училища им. В.И. Ленина
Выпуск намечали приурочить ко Дню Красной Армии – 23 февраля 1941 года. Выпускникам заранее шили комсоставскую форму: гимнастерки и шинели. Я на примерках смотрел на себя в зеркало, и сердце замирало от предвкушения радости мамы и папы, когда они меня увидят в этом блеске. Мелькали самонадеянные мысли и о том, что девушки тоже (особенно Ира!) будут на меня посматривать благосклонно. Да как же им не залюбоваться: здоровый, плечистый, загорелый, два рубиновых «кубаря» на малиновых петлицах с золотой окантовкой, на рукавах малиновые шевроны, опять же с золотыми галунами, ремень комсоставский с латунной пряжкой, на которой сияет, как солнышко, звезда. При малейшем движении ремень поскрипывал с обворожительной солидностью, ну и сапоги хромовые, комсоставские тоже скрипели добротной кожей, правда, сапоги еще были складской бледности, но я знал, как только их получу – начищу до зеркального сияния.
Казалось, все складывалось прекрасно и командирская жизнь с ее трудной, но увлекательной армейской романтикой для меня уже начинается.
Но судьба распорядилась иначе.
Резкий поворот в жизни
В полночь, когда рота спала здоровым богатырским сном после напряженных дневных занятий, в спальную вошли трое. Они подошли к моей тумбочке, вынули из нее тетради и письма, раскрыли вещевой мешок и из него извлекли тетрадь со стихами, которую я там хранил. Затем капитан со шпалой на петлице тронул меня, спящего, за плечо и негромко, чтобы не будить соседей, сказал:
– Карпов, вставайте.
Ничего не понимая, я посмотрел на стоявших передо мной командиров.
– Одевайтесь, Карпов, пойдете с нами.
В канцелярии роты все тот же капитан спросил строгим и официальным голосом:
– Ваша фамилия, имя, отчество?
Я удивился: несколько минут назад капитан называл меня по фамилии… Но ответил:
– Владимир Васильевич Карпов. А в чем дело?
Капитан еще более холодно произнес:
– Владимир Карпов, вы арестованы. Вот ордер на арест. – Капитан показал небольшой бумажный квадратик. – Понятых прошу ознакомиться.
Я посмотрел на тех, кого капитан назвал понятыми, – это были физрук училища, старший лейтенант Ржечицкий и майор из учебного отдела, фамилию его я не знал.
– Понятых прошу засвидетельствовать: все бумаги, изъятые при вас, принадлежат арестованному Карпову. Распишитесь вот здесь.
Я даже не волновался, в оцепенении ждал, что сейчас вся эта фантасмагория кончится и я проснусь.
Но дурной сон продолжался.
Не в «черном вороне», а в обычной легковой «эмке» меня привезли во двор дома в центре Ташкента. Не раз проходил я мимо этого дома и не подозревал, что в подвале его – тюрьма. Здесь меня раздели догола, осмотрели, чтобы не пронес чего… А что пронесешь, например, в заднем проходе? Но заглянули и туда. Сфотографировали в фас и профиль, с номером на дощечке, которую велели держать на уровне груди. Сняли отпечатки не только пальцев, но и всей – ладони. Затем вывели из подвала и направились к какому-то возвышению вроде большой собачьей будки в глубине двора. «Неужели будут держать меня в этом курятнике?» – подумал я и тут же смекнул, что это хорошо – в тюрьме не оставили, значит, в этой будке подержат до выяснения, что все это недоразумение, ошибка, и отпустят.
Но предположение мое тут же разлетелось вдребезги – будка оказалась входом, тамбуром в подземную так называемую внутреннюю тюрьму. Спустившись в сопровождении молчаливых конвоиров под землю, я увидел здесь целое переплетение расходящихся в разных направлениях коридоров. Электрический свет освещал в каждом из них ряды железных дверей.
В подземелье была гробовая тишина. Меня поразило: внутренние охранники ходили в валенках (летом!).
Лязгнула задвижка, щелкнул замок, тяжело отворилась толстая дверь, обитая железом. Я шагнул через порог, и дверь тут же захлопнулась. И опять лязгнула задвижка и клацнул замок. Тут же откинулось окошечко на середине двери, и дежурный сказал:
– Откинь койку. Ложись до утра. Днем спать не положено.
Камера была маленькая, над дверью, за металлической решеткой горела яркая лампочка. Она освещала побеленный квадрат что-то вроде внутренности контейнера – четыре шага в длину, два – в ширину, к стене прикреплена откидная полка, как в железнодорожном вагоне, у двери маленькая параша, накрытая ржавой крышкой. Больше ничего в камере не было. Поскольку все это находилось глубоко под землей, в левом верхнем углу было отверстие с кулак шириной. «Чтоб не задохнулся», – догадался я.
Отстегнул полку, которая ударилась о бетонный пол двумя откинувшимися подпорками. На койке был матрац без простыней, подушка в серой застиранной наволочке и армейское одеяло, такое же, каким накрывался в училище, только старое, потрепанное.
Не раздеваясь, лег. Собрался спокойно все обдумать, прикинуть, что же произошло, за что арестовали. Но сколько я не перебирал в памяти свою жизнь за последние годы, ничего преступного, наказуемого вспомнить не мог.
Мешала думать яркая электрическая лампочка над дверью – она светила прямо в лицо. Я повернулся к стене и натянул одеяло на голову. Тут же клацнуло окошечко в двери, и надзиратель строго сказал:
– Ложись на спину, лицо закрывать не положено.
«Неужели он постоянно наблюдает за мной? – подумал я. – Не может быть, сколько же их надо, чтобы следить за каждой камерой? Ага, вот почему они в валенках! Подходят неслышно к волчку и периодически заглядывают».
Заснуть я так и не смог. О том, что настало утро, я понял по команде:
– Закрыть койку, приготовиться на оправку.
Меня сводили в тюремную вонючую уборную, там же было несколько ржавых, обитых, когда-то эмалированных раковин, над ними такие же старые ржавые краны. Запах застоявшейся мочи тянулся до середины длинного коридора. И даже в камере я чувствовал, что этой вонью пропиталась одежда.
Я ждал допроса, чтобы наконец выяснить, за что меня упекли в это подземелье. Но прошел день, а меня не вызывали. Прошел и второй, и третий день, а допроса все не было. «Куда они подевались? – удивлялся я. – Неужели можно держать так долго невинного человека?»
У меня затекли не только ноги, но и все тело от повседневного стояния или тыканья от стены к стене – четыре шага туда и четыре обратно. Днем лежать не разрешали.
На пятый день постучал в дверь и, когда охранник открыл окошечко, сказал:
– Когда же меня вызовут на допрос? Забыли, что ли?
– Это не наше дело. Вызовут, когда надо будет.
– Так вы скажите им. Надо же разобраться. Мне госэкзамены надо сдавать.
Охранник ухмыльнулся.
– Экзамены для тебя уже начались. Будешь усе и усех сдавать, как положено.
Я возмущался: «Заколдованный круг какой-то. Даже эта рожа что-то знает. А я не могу понять, что происходит». Меня вызвали через неделю. Провели по коридорам подземелья, затем через двор, в то красивое здание, которое выходило фасадом на улицу.
Комната следователя чуть больше камеры, ничего лишнего: письменный стол с настольной лампой, стул для следователя и второй, у двери, для допрашиваемого.
Следователь лет на пять старше меня, чисто выбритый, холеный красивый шатен, волосы лежат своими, не парикмахерскими волнами. Одет в форму политработника: петлицы без золотой окантовки, на рукавах звезды вместо шевронов. На петлицах три кубаря: значит, его звание политрук.
Следователь весело посмотрел на меня и очень приветливо, будто продолжая прерванный разговор, сказал:
– Моя фамилия Иосифов, я буду вести ваше дело, – и сразу же после этого перешел на ты. – Так за что же тебя, Володя, посадили?
Я ожидал всего, чего угодно, только не такого вопроса. С искренним удивлением пожал плечами и ответил:
– Не знаю. Я в полной растерянности. Ничего не могу припомнить предосудительного.
– Значит, плохо вспоминал. Или скрываешь. Ну что же, дам тебе еще недельку, иди, подумай, может быть, вспомнишь.
Я с ужасом представил: еще неделю в этом вонючем, душном подземелье, даже встал со стула от волнения.
– Товарищ политрук, вы что, какая неделя, госэкзамены же скоро в училище.
– Садись! Во-первых, я тебе не товарищ, а гражданин следователь, во-вторых, об училище забудь. Это для тебя этап пройденный. Хотя нет, я не прав, об училище ты должен все хорошенько вспомнить и откровенно рассказать мне о своей преступной антисоветской деятельности.
Я даже улыбнулся: наконец-то проясняется!
– О какой антисоветской деятельности вы говорите, товарищ… гражданин следователь, я что, враг, что ли? Вы меня с кем-то перепутали. Давайте побыстрее разберемся, и отпускайте меня. Надо же такое придумать – антисоветский деятель! Нашли врага. Я же комсомолец. Меня не только наша рота, все училище знает. Генерал несколько раз награждал. Нет, вы что-то путаете!
Следователь добро посмотрел на меня и доверительно молвил:
– Я и так тебе кое-что лишнее сказал. Не я тебе, а ты мне должен говорить о своих преступных делах. Открытое признание облегчит твою участь. Иди, подумай и вспомни все хорошенько. А главное, не запирайся. Ты должен понять – если ты здесь, значит, нам все известно.
Следователь вызвал конвоира и коротко приказал:
– Уведите.
Я от порога обернулся и с надеждой попросил:
– Если вам все известно, так давайте об этом говорить. Что известно? Я не чувствую за собой никакой вины.
– А ты, оказывается, хитрее, чем я думал. Значит, будем говорить о том, что нам известно? А о том, что нам пока не известно, ты будешь помалкивать?
– Да скажите, наконец, в чем моя вина! – не выдержал я, почти крикнул.
Следователь по-прежнему добро улыбался и ответил с укоризной:
– Не шуми, у нас шуметь не принято. Иди и думай. Время на размышление я тебе дам.
И дал. На следующий допрос меня привели через десять дней. Чего только не передумал я за эти казавшиеся годами долгие дни в подземной гробовой тишине. Как ни странно, от тишины стала появляться ломота в ушах. Выхода из камеры на оправку, раздачу баланды и хлеба я теперь ждал как приятного отдохновения. Появлялись охранники, начиналось какое-то движение. Я еще раз перебрал всю жизнь в училище и не мог найти никакого криминала в своем поведении. Мысленно перечитал свои стихи, напечатанные в окружной газете «Фрунзевец». Ни одного предосудительного слова в них нет. В тех, которые не опубликованы, кое-что может не понравиться. Но они записаны в тетради, и читал их только в узком кругу приятелей, в классе во время самоподготовки или вечером перед сном, когда лежали в постели.

Зэк Карпов
Может быть, стихотворение о Ленине они имеют в виду? Но в нем теплая любовь к Владимиру Ильичу и сожаление, что в наши годы забывают о нем. Неужели кто-то из курсантов донес? В стихотворении говорилось только о Ленине, но после прочтения ребятам я добавил: «Зачем Ленина заслонять Сталиным? Он в годы революции не был вторым после Ильича деятелем в партии. Были покрупнее него». Наверное, болтал еще что-нибудь в таком же духе. Значит, были во взводе стукачи. Я перебрал всех друзей, вспоминал их лица, поступки, кто как ко мне относился, какие задавал вопросы. Ни одного похожего на стукача не выявил, все ребята нормальные, настоящие друзья, все уважали меня, даже гордились, что в их взводе чемпион и поэт. Может, из зависти кто-то хотел напакостить? Непохоже. Все парни искренние однокашники, друзья на всю жизнь.
Обнаружив некоторую вину в своих стихах, я на следующем допросе сам высказал это предположение следователю. Тот стал еще добрее.
– Молодец, додумался, наконец, до того, в чем надо признаваться. Значит, говорил о товарище Сталине оскорбительные слова?
– Нет, что вы! Наоборот, я говорил о Сталине уважительно, что он много добрых дел совершил и ему не надо приписывать то, что сделал Ленин.
– Хорошо. А теперь скажи, зачем ты заводил разговоры, порождающие сомнения в деятельности товарища Сталина?
Я честно ответил:
– Не было у меня никаких замыслов.
– Э нет, так не бывает! Вот представь, ребенок берет лопаточку и идет к песочнице. Зачем? Копать. Так это ребенок, а ты курсант, выпускник, почти командир. Не может у тебя быть такого – «не думал». Думал! А теперь признавайся, зачем ты вел пропаганду, оскорбляющую вождя народов?









































