Читать книгу "Перекрестное опыление"
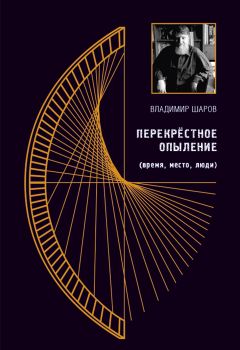
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Александр Горелик

Эссе публикуется впервые
У каждого из нас свой город, а в этом городе свои дома, свои районы и улицы, которые будешь помнить и на смертном одре. Как я имел случай сказать, моя собственная жизнь по большей части прошла по обе стороны Ленинградского проспекта: от метро «Белорусская» до другого метро – «Аэропорт». По правую руку – улица Правды и улица Марины Расковой, Петровский парк и Тимирязевский лес, по левую – стадион ЦСКА и Ходынское поле. Вторая школа, которая тоже поминалась, находилась на Ленинском проспекте, прямо за универмагом «Москва». Ехать до нее было долго и неудобно – час, а то и полтора. И все три года, что я там проучился, я по-черному недосыпал.
А вот друзья, кроме, конечно, дворовой компании (улица Черняховского, дом 4) чуть не поголовно жили в центре Москвы, как сейчас говорят, в пределах Садового кольца. Точнее, так как мы все и всегда тянем за собой один другого, радуясь водим друг друга из дома в дом, ведь все это твоя территория, твои владения, родные тебе люди, в этой радости, а в чем еще? и есть соль жизни – они по большей части кучно заселили приарбатские коммуналки.
Мне и тогда было ясно, а сейчас даже неудивляет, что в тех, кто там жил, было совершенно другое понимание, правильнее сказать, переживание города. Потому что вокруг все было говорящим, не только имена улиц и переулков – Каретный ряд, переулки Денежный, Хлебный, Мытный или, например, Знаменский с Петропавловским. Их жители давно не чинили карет и не пекли хлеб, а храмы, по которым нарекли переулки, сплошь и рядом были разрушены, снесены «под ноль», но память обо всем этом уцелела, её будто прибили сюда гвоздями и так и оставили – когда уходили, даже не попытались отодрать. И дома, что стояли на этих улицах, тоже не были безымянными – дом Нерензее и Дом правительства, Дом полярников, Дом композиторов и дом с перевернутой рюмкой на крыше вместо конька (победная реляция и наглядный урок всем прихожанам Храма Христа Спасителя, который стоит напротив: завязал, бросил пить и вот выстроил себе доходный дом).
Для этих районов города будто изменили правила московской прописки. Из домовых книг не вымарывали ни бежавших из страны в Гражданскую войну, ни увезенных «воронком» на Лубянку, а потом расстрелянных на каком-то безвестном полигоне, ни просто вынесенных ногами вперед. Их помнили будто свою родню, и в этом было что-то хорошее и правильное, оттого и ты гулял всеми этими Кривоколенными и Кривоарбатскими переулками, этими скверами и Собачьими площадками, бульварами и берегами прудов, часами ходя по ним туда-сюда, отмокал от бездарной, безалаберной жизни.
Среди этих законных, я бы сказал, природных членов арбатского сообщества лично для меня самым главным был Саша Горелик. И он сам, и его замечательно хлебосольный дом в Мерзляковском переулке.
С Сашей Гореликом я познакомился на исходе семьдесят восьмого года. Произошло это, в общем, случайно в том смысле, что мы могли сойтись лет на десять раньше – общих друзей было немало, – а могли и лет на десять позже. Свел нас бридж и Юра Плотинский. С Юрой еще за много лет до того мы играли в эту игру в другом доме, тоже незаурядном. Потом та компания распалась, и дальше бриджевая история, если и теплилась, то еле-еле. А тут вдруг Горелик и Шура Ястребов оказались настолько страстными его адептами, что несколько лет игра шла день за днем, с вечера до середины ночи. Выходные у нас, если и случались, то редкие и нерегулярные. Мы не просто играли: записывались результаты каждого роббера, высчитывались и чертились самые разные диаграммы и кривые – кто и как шел по турнирной сетке. А в конце года победителю со всей возможной торжественностью вручался роскошный приз.
Сашка вообще любил и понимал игру – четверть века страстный бриджист (звонившим по телефону он с картами в руках гордо объявлял, что бриджует и говорить не может), а прежде и уже в самом конце жизни не менее страстный шахматист. В шахматах он был кандидатом в мастера еще старого советского розлива, по отзывам, которые я слышал, лучше играл в блиц, был здесь почти профессионалом, так что в эту игру ни ему с нами, ни нам с ним играть было неинтересно. В шахматы он играл на бульварах, в последний год жизни – рядом, на Никитском, а до этого много лет напротив горьковского МХАТа на Тверской, а еще раньше там, где помещался шахматный клуб – на Гоголевском. С развевающейся на ветру, но и в штиль всклокоченной бородой, он был очень импозантен, виден за добрую сотню метров.
На бульвар он всегда приходил со своими шахматами и со своими часами, в последние годы приезжал на машине, хотя от его дома на Мерзляковском до скамейки на Тверском бульваре было три-четыре сотни метров, не больше, и называл эти свои ежедневные выходы под сень дерев – «дачей». В другой природе он не очень нуждался. Его истинной средой обитания был город, но главное, конечно, люди. Без людей он плохо представлял себе мир и ради людей временами был даже готов покинуть Бульварное кольцо – ехал то в Михалево на Пестовское водохранилище, то в Пицунду.
Вечер, который начался с легкой бриджевой рекогносцировки, свел нас сразу и надолго, теперь уже ясно, что навсегда, и так тесно, как я, признаться, не рассчитывал. Мы не просто проводили бок о бок почти каждый вечер, мир, который был выстроен вокруг Сашки, никуда не уходил и потом всякий раз я возвращался от него с несколькими книгами (он в немалых количествах размножал самиздат). Сейчас я склонен считать, что так легла карта, что мы все вместе оказались необходимы друг другу. Дело в том, что тогда сразу трое из нас обзавелись детьми от разных по счету жен и по необходимости были вынуждены сменить аллюр.
Ко времени, что мы сошлись, я уже несколько лет интересовался русскими сектантами, которые держали земную жизнь за море зла и греха. Как и во времена оны, эти изгои спасались на кораблях-ковчегах, ими правили умудренные в вере кормчие, если же речь шла о странниках, бегавших от все того же вездесущего зла – они, вконец ослабев, причаливали к «пристаням» – державшие их были известны между своими как «пристанщики». Я тогда работал в редком по бессмысленности исследовательском институте – три четверти положенной на научную душу печатной продукции у нас выполнялось доносами. Уважая себя, с последними не мелочились, писали сразу в близлежащий ЦК партии на Старую площадь или в КГБ – он и вовсе был прямо за забором.
И вот, печалясь из-за всего этого и не только, я бреду своей обычной дорогой к Горелику – с Мархлевского на Кирова (теперь Мясницкая), потом под Лубянской площадью к Никольской, дальше к ГУМу, где в зависимости от того, сколько у меня в кармане денег, покупаю либо вино, либо водку. Из вин мы почитали хорошие грузинские и херес. Затем через Моховую на Никитскую, оттуда на Суворовский, теперь снова Никитский, бульвар и через арку прямо к Сашиному дому на Мерзляковский. И вот я этак иду и тоскую, и даже как бы не знаю, что делать, как все это расхлебать, и вдруг, уже свернув на Никитскую, понимаю, что, хотя с Господом пока еще ничего твердо не скажешь, такой корабль или такая пристань есть и у меня. В общем, жить можно.
Сашин дом – эта самая пристань или этот самый корабль – был во всех смыслах особой статьей. Горелика, когда он еще жил в одной комнате с женой Линой и недавно рожденными девочками-близняшками Сабиной и Кристиной, я не знал, и соответственно, как он со всеми своими чадами и домочадцами, книгами и картинами, а главное, друзьями, умещался в подобном объеме, сказать не могу, но и отдельная квартира вобрала в себя, стала домом для стольких самых разных людей и вещей, столько всего в ней утрамбовалось, нашло свое место, прижилось, что и у меня, и у других это не вызывало ничего, кроме восторга.
Спустя лет двадцать, не меньше, то есть уже в самом конце 90-х годов, когда немалого числа Сашиных друзей уже не было на этом свете, а добрая половина оставшихся, как и у всех нас, разъехалась по дальним заграницам, я, немного припозднившись, пришел на его день рождения. Хотя за дверью был слышен обычный гомон и суета, мне долго не открывали, а когда все же впустили, я понял, каких трудов это стоило.
Квартира была забита народом не хуже, чем метро в самый отчаянный час пик. Все, кто не добрался до комнат, просто стояли в коридоре, прижатые друг к другу как сельди в бочке. Там нельзя было и пошевелиться, но над головой с ювелирной точностью наливали рюмку за рюмкой, в тарелках передавали нехитрую закуску, и все это обрамлялось веселым трепом и гитарными аккордами, которые слышались из каждой комнаты. Люди были ласковы и нежны друг с другом, пили, пели, даже умудрялись в этой давке флиртовать, и в общем, снова выходило так, что жить на свете можно. Вдобавок здесь был и ответ, как нашему праотцу Ною удалось на своем Ковчеге разместить столько живности, да каждой твари – по паре.
В той квартире его комната помещалась прямо над аркой дома (Сашка временами жаловался на холод) и имела общую стену с Гнесинским училищем, однако, если не считать нас и наших голосов, она была тихой. И размером невелика, метров четырнадцать или шестнадцать, вряд ли больше, а наше число, бывало, доходило и до дюжины. Больших и малых музыкальных ящиков, механических пианино и напольных часов пока не было и вдоль стен до потолка стояли, еще как-то крепились книжные полки. Некоторые вполне обычные, чешские, другие сделаны из спинок кроватей или створок шкафов. Причем некоторые стояли так, что, взяв несколько книг с одной полки, ты за ней обнаруживал другую, потайную, доступную только избранным. Взятые там книги, как в избе-читальне, обязательно записывались в большую коленкоровую тетрадь. В восемьдесят пятом году, найди её чекисты, дело для Сашки могло кончиться весьма печально.
И вот в окружении этих полок – частокол книжных корешков безотказно ритмизировал наш веселый карточный бедлам, а сами они были полной октавой, мы образовывали еще один круг – по периметру стола. В свою очередь, уже над нами висел старый матерчатый абажур с добавочной каймой из ненужных в бридже красивых глянцевых джокеров. Всякий раз, починая новую колоду, мы торжественно крепили их к свисающей бахроме. Все это – и люди, и вещи, – по-видимому, так хорошо смотрелось вместе, что фотографии, сделанные в гореликовской комнате, и общая её панорама на ура были взяты в шведский альбом «Лучшие интерьеры мира», что каждый из нас принял как должное.
В 1985 году с нами произошли важные события, которые всем, но, конечно, в первую очередь, Сашке стоили много нервов. У Сашки был обыск. В связи с этим я до сих пор вспоминаю одну историю. Примерно через неделю Горелик позвонил мне в два часа ночи и попросил, если могу, прямо сейчас, не откладывая, приехать на машине. Город был пуст, и уже через полчаса я был на Мерзляковском. Саша был невесел и сосредоточен. Чекисты очевидно недоработали, потому что в коридоре стояли еще три стопки картонных коробок с книгами. Их мы и стали таскать вниз. Набив багажник и задние сидения «Жигулей», тут же поехали.
До этого не обменялись и дюжиной слов, все и так было понятно. А тут я ему говорю: «Старик, а ты уверен, что люди, к которым мы везем это добро, нас ждут?» – Горелик: «Да, это мои друзья». – Я: «А ты им хоть позвонил? Ведь ночь. Неровен час, их кондрашка хватит. Или просто дверь не откроют». – Горелик: «Откроют».
И вот, я до сих пор помню идиллическую мизансцену. Голубые полупрозрачные шторы и спальня с большой семейной кроватью по центру, которую, в свою очередь, фланкируют по левую руку хозяин в аккуратной шелковой пижаме, по правую – его супруга в длинной ночной рубашке, розовой и с рюшками. И мы – грязные, мокрые от пота, сначала пихаем коробки под эту их кровать, а когда там уже нет места, на антресоли.
Все это мне приятно вспоминать. Но главное, приятно, что Горелик оказался прав, тем более что сейчас я знаю: его друг, к которому мы так лихо вломились, был человеком чиновным, возможно, даже секретным – представлял наш флот в большом южном портовом городе и, значит, немало рисковал.
В больнице Сашка для всех явно угасал, но сам поначалу верил, что оправится, строил наполеоновские планы. Первым делом собирался поменять в палате электрические розетки, они были поставлены криво, неудобно, что его, как любая худо исполненная работа, удручало и возмущало. Хотя говорил с трудом, дышал тяжело, с присвистом, в нем, в каждой реплике, которую он бросал, была его обычная ирония и сарказм.
Сашу навещало много народу, но, похоже, впервые его это не радовало. Вообще он был из тех, кто от людей не устает. Если большинство из нас чуть не с юности было в этом плане расчетливо, знало, что принять гостей стоит усилий, что надо сделать это и это, так приготовить, так накрыть стол, и на все уйдет немало времени, то Саша был другого поля ягода. Людей он откровенно любил, почитал их разнообразие, их непохожесть друг на друга. Среди прочего и по этой причине, когда при нем и на его территории случались конфликты, в них не вмешивался. Для него было нормально, что люди по-разному смотрят на мир и расходятся очень далеко. Так что он пускал ссору на самотек, считал, что рано или поздно все само собой утрясется, и только, если видел в разговоре злобу, искренне страдал. Мне сейчас кажется, что он вообще относился к жизни до крайности позитивно и оттого злобы не понимал.
Если склок Саша сторонился, то ни о чем другом этого никак не скажешь. В больнице я навещал Горелика с кем-то на пару. Естественно, что и до и после разговор шел о нем. Все соглашались, когда я называл Сашин дом кораблем, но тут же добавляли, что этот корабль был замечательно хорошо организован и устроен. Выше я говорил об общих сборах, какими были его дни рождения, поминальные дни друзей, похороны самого Саши – проводить Горелика пришло огромное количество знавших его и любивших – однако обычным порядком это был весьма разумно спроектированный большой многопалубный лайнер.
Горелик очень внимательно подбирал тех, кому будет хорошо, интересно друг с другом. То есть и на этом уровне пытался привести мироздание в гармонию. Составив из человеческого многообразия правильную композицию, по возможности уберечь нас от анархии и хаоса. Поэтому многие из его друзей знали Сашу в разное время и в совсем разном окружении. По той же причине визит всякого из своих гостей он тщательно готовил.
В последние годы, уже придя в достаток, он на ближайшем Палашевском рынке и в мясном, и в рыбном ряду, и среди зеленщиков завел себе постоянных поставщиков (то же касается и продавцов в винных магазинах), знакомством с которыми гордился не меньше, чем своей известностью в антикварном мире. Ценил, что его знают и как знатоку оставляют лучшие куски. И вот в день, когда мы собирались на бридж, покончив с утренним чаем (надо сказать, отнюдь не ранним), он ехал и закупал то, что каждого из нас могло порадовать. То есть и так обустраивал, приводил все, что было вокруг, в порядок. В больнице, понимая, что сейчас ни для кого и ничего сделать не может, похоже, первый раз в жизни затосковал об одиночестве. Не хотел, огорчался, что его видят в немощи, оттого как мог урезал, сокращал наши посещения.
Надо сказать, что, не знаю про других, а я ту его первую собственную комнату над аркой любил больше. Хотя Горелик откровенно кайфовал от новой квартиры в соседнем подъезде, я далеко не сразу стал понимать, что она для него значила. Конечно, его главные антикварные приобретения связаны именно с ней, и это было видно с первого взгляда. Он будто наконец обрел землю и волю и теперь с энтузиазмом одно и другое осваивал. В старой комнате с трудом помещались лишь книги, об огромных кабинетных часах и еще больших оркестрионах, тем более о механических пианино тогда и речи не шло, все гореликовские планы были связаны с книгами. В начале 80-х годов с помощью прибалтийских друзей он там, на окраине империи, в течение нескольких лет тщетно искал какую-нибудь кириллическую наборную кассу со строчными и прописными буквами разных размеров, шрифтов, всякого рода виньетками.
Но чекисты, помня о том, что газета – коллективный организатор и пропагандист, так боялись подпольных типографий, что и здесь вымели все подчистую. Конечно, в гореликовском случае речь шла не о типографии, но предприятие тоже предполагалось солидное – настоящая переплетная мастерская. Для нее в комнате жены Лины стоял «зайчик» – огромная тяжеловесная бандура, типографский нож, которым можно было ровно обрезать страницы самой толстой книги. Был уже и недюжинной силы пресс, чтобы выдавливать, в том числе и на коже, имя и фамилию автора, название и прочее, благодаря чему книгу приятно взять в руки, приятно её держать. Это обычный Сашкин комплимент для хорошо оформленного, хорошо напечатанного и хорошо переплетенного экземпляра. В новой квартире букинистика не отошла на второй план, но сейчас думаю, что в душе Горелик был именно механиком.
Сашка несомненно был рожден человеком, призванным преобразовать пространство, привести его в должный, разумный и приятный для глаза вид. Никогда с ним сей предмет не обсуждал, но уверен, он бы предпочел (настолько любил работу человеческих рук) регулярный французский парк любому английскому, а тем более первозданным дебрям.
Пустот ни на стенах, ни вообще в объеме комнаты он не терпел, вернее, они были для него вызовом: как паззлы, правильно подобрав – чем, пустоты было необходимо быстро заполнить. Все нужное для этого – книги, картины, вышеупомянутые музыкальные ящики и фоноскопы, карты и геодезические приборы – появлялись в его квартире как бы сами собой. Он был пастух с дудочкой, а вещи стадами, своим ходом и со всех сторон бежали под его защиту, зная, что в любом другом месте этого не слишком доброго города сгинут, пропадут без остатка, здесь же сохранятся, уцелеют.
Незаполненное пространство было для него целиной, той залежью, пустошью, которую, не теряя времени, следовало поднять и обработать. То есть, оно должно было как можно скорее и для всех зримо стать манифестом человеческого труда. Думаю, по своей генетике он был из породы средневековых цеховых ремесленников, любил и почитал хорошо, умно сработанные вещи, понимал, как их делают и как они работают сами, чем и как красивы.
И вещи отвечали ему взаимностью. Они легко договаривались, потому что он не просто собирал их, коллекционировал, а сначала чинил, возвращал к жизни. Большинство музыкальных шкатулок, других приборов и механизмов, когда они оказывались в его доме, были уже напрочь поломаны, часто он и вовсе находил их на свалке, то есть, они попадали к нему в руки уже обреченными, и он несчетными часами тонкой, мелкой работы (колки, винтики и зубцы гребенок, с которыми он имел дело, часто можно было разглядеть только под лупой) каждую из них приводил в порядок. А потом всякой вещи находил свое место. Свою полочку или свою нишу, где бы ей было удобно и где бы она со всех сторон смотрелась самым выигрышным образом. Думаю, именно молитвами этих вещей его жилье впрямь делалось безразмерным, и стоило Саше любую из них признать красивой, изящной, редкой, это значило, что прописка под его крышей ей обеспечена.
Ярко выраженный технарь по своим детским пристрастиям, он буквально наощупь чувствовал, как живут и понимают жизнь всякого рода механизмы. Думаю, что в музыкальных шкатулках его не меньше меня поражала возможность, будто осел при колодце, безнадежно, вечно ходить по кругу, в то же время легко, игриво и на разные голоса исполнять весьма затейливые пьески. Сам этот переход движения в звук, причем, по мнению профессиональных музыкантов, лучший, чем дают современные магнитофоны, настоящего концертного исполнения.
По-видимому, здесь была одна из самых коротких дорог, соединяющих физику и математику с искусством, оттого он так кайфовал, когда, приводя шкатулку в порядок, убирал на этом пути неровности – они вызывали шуршание и скрипы – срезал кочки и засыпал ямы. Во всем этом было естественное соединение двух гармоний: строгой, математически выверенной, и другой, человеческой, по общему мнению, прихотливой, неверной, случайной, наотмашь отрицающей любые жесткие законы и правила. И вот вдруг оказывалось, что, стоило одно и другое наладить, мир делается един, и это, вне всяких сомнений, соответствовало гореликовским понятиям о правильности и справедливости.
Его удовлетворение, что это именно так, что никто ни с кем не в контрах, наоборот, все заодно и понимают друг друга с полуслова, было и в педантичности, с какой он, чиня, ремонтируя, корпел над своими шкатулками, но еще больше – в радости, с какой нам и нашим детям, когда мы их приводили, Горелик показывал свои сокровища. Он не просто каждую вещь давал подержать в руках, рассмотреть самое её нутро, увидеть все эти винтики и шарниры, втулки и колесики, слаженно, разумно двигающие один другой, не просто рассказывал, в какой стране, где и когда сделали шкатулку, как она действует, он нас во все это посвящал.
Кстати, для его многочисленного, даже по меркам патриархов, потомства, но и не только, расскажу, что знали не все. Среди своих бессчетных музыкальных шкатулок Горелик особенно почитал золотые клетки с маленькими райскими птичками. Как и другое, эти барышни попали в его дом в весьма непрезентабельном виде. И вот, понимая, что певчая птица – та еще штучка: облезлая, будто трепанная кошкой, она петь не станет, он прежде, чем начать вновь ставить ей голос, долго подбирал, во что бедолагу одеть; чтобы «упаковать» её со вкусом, а отчасти и с блеском, были нужны самой лучшей выделки пух и перья.
Про пух точно сказать не могу, а для остального он предпочитал шикарное, сверху донизу переливчатое павлинье перо. Из него Сашина напарница – мастерица кукольных дел – и шила для будущей примадонны новую шубку. И вот, когда все оперенье от хвоста до хохолка на головке было готово, он ночью, едва закрыв за последним гостем дверь, эту и другие клетки ставил друг напротив друга на большом квадратном столе в гостиной. Потом заводил и подтягивал для точности хода гири в напольных часах, по периметру окружавших стол, и снова возвращался к клеткам. Другими, совсем маленькими и тоже золотыми ключиками заводил их механизмы, а дальше его птички, будто живые канарейки, пока он спал, всю ночь напролет, не жалея сил, состязались и учились друг у друга. Прекрасные трели сменялись не менее изысканными руладами, а то вдруг они выкидывали такие коленца, так свистели и щелкали, будто были самыми взаправдашними соловьями.
Недели за полторы до кончины Сашина дочь Бина забрала его из больницы и привезла домой. Он был худ, взъерошен и сам похож на птенца. Скрестив руки замком, мы, будто на детском стульчике, понесли его наверх. Горелик был слаб и совсем легок, но едва переступив через порог, будто очнулся. Захотел пить, есть, даже попросил полрюмки коньяка, было видно, как он рад дому. Наконец его уложили в уже не больничную, а собственную постель и он закемарил.
Теперь по плану Коле Шередеке и мне надо было прикрепить в ванной комнате всякого рода ручки и поручни, чтобы Горелик мог управляться там сам. Накануне Таня Савицкая все это закупила и привезла на Мерзляковский. В принципе дрель у Коли была, но из-за кафеля нужны были другие сверла и пробойники, а возможно, и другая, более мощная дрель, я во всем этом разбираюсь плохо. В любом случае дело шло медленно, мы больше суетились, чем работали.
Очевидно, это, то, что в его доме что-то идет не так, разбудило хозяина, он сам встал, сам перебрался в коляску и сам приехал сюда, чтобы нам помочь. Из дверного проема, как из рамки, он, сидя в коляске, скептически, но, в общем, благожелательно осмотрел те несколько дырок, что мы просверлили, подергал единственную ручку, что мы присобачили, – она выдержала. И Горелик, отпустив пару снисходительных реплик, стал нас консультировать.
Голос был слаб, глаза почти не открывались, но он без единой запинки говорил, что нам нужно и где это взять. Комната, стол, тумба слева и тумба справа, ящик, в нем пластмассовые коробочки – тоже слева направо и, наконец, как выглядит и каким номером лежит, например, нужное нам сверло или отвертка. Слушая все это, я тогда вдруг подумал, что, может, и вправду обойдется. И еще понял, что если для нас его квартира была кораблем, то для самого Горелика все эти книги и картины, карты, геодезические приборы и фотоаппараты, музыкальные шкатулки и часы, точно так же, как сверла с пробойниками и любых видов, размеров винты с гайками, были частью его самого, тем строительным материалом, из которого он год за годом и со всем возможным тщанием возводил, строил свою раковину. Единственное место в мире, где ему ничего не жало и нигде не давило, то пространство, всякий сантиметр которого он подогнал под свое тело и под свое нутро, оттого и мог в нем жить.
Через несколько дней мы с Колей опять пошли его проведать. Встретились на Пушкинской и по бульвару мимо скамейки, на которой он играл в шахматы, спустились к Мерзляковскому. Последние известия были неутешительны, вдобавок я должен был ехать в командировку, так что понимал, что скорее всего увижу его в последний раз. Впрочем, мы застали Сашу довольно бодрым. Незадолго перед нами его навещал Паша Шароев, замечательный врач и добрый друг, при нем он веселел, начинал верить, что пойдет на поправку.
Горелик лежал на диване в гостиной, поприветствовав нас, он почти сразу задремал, дышал тихо, спокойно, без хрипа. Потом снова открыл глаза и захотел перебраться в коляску. Уже устроившись на новом месте, печально сказал, что который день не хочет спиртного. Потом пожаловался на жажду и вдруг, словно проверяя себя, спросил пива, хоть немного хорошего пива, потому что совсем пересохло в горле. Я поднялся, чтобы идти в магазин, но пиво было и в холодильнике. Мы налили ему рюмку, однако соломинки – из-за больной шеи он не мог запрокинуть голову – так и не нашли. Я думал ему помочь, но Горелик отказался, сам взял рюмку и крохотными глотками, то и дело прерываясь, стал пить. Было видно, что он рад, что и с этой частью жизни ему удалось попрощаться как положено.









































