Читать книгу "Перекрестное опыление"
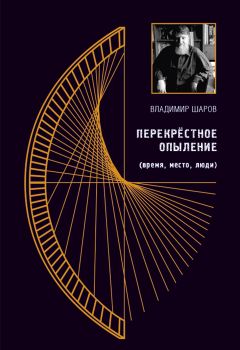
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Оставаясь детьми на троне, они так же, как ребятня, больше другого любят играть в войну. Такие монархи-дети, что понятно, и самые отчаянные реформаторы. Начавшись, как и все остальное, в их малолетство – эти преобразования очень скоро набирают такой ход, что их ничем и никогда не унять. Будто не замечая, что вокруг уже совсем другая, не детская жизнь, проще говоря, кровь, настоящая кровь, они ломают и строят, снова ломают и снова строят и не могут остановиться.
Об этом, думаю, стоит сказать подробнее.
Тоталитарная система по своей природе штука глубоко и непоправимо игровая. В любой момент смешав карты, можно потребовать новой сдачи (единственный запрет – абсолютная власть о нем всегда помнит – смерть её носителя) или еще проще – посреди игры напрочь изменить правила, например, вместо шашек начать играть в «Чапаева».
В этом смысле опричная политика Ивана Грозного, вся его попытка преобразовать устройство российского дворянского сословия на началах военно-монашеского ордена, лежала на стыке государственной реформы, игры и эксперимента, и одно от другого в ней отделить очень трудно. В любом случае, она оказалась куда радикальнее, чем все реформы Петра I.
К этой теме мы скоро вернемся, а пока несколько рассуждений общего свойства. Абсолютная власть неодолимо демократична. В этом её соблазн, перед которым мало кто может устоять. И вправду, считая своих подданных без различия ранга, сословия или богатства, на равных рабами, холопами – за пределы этого круга власть выводит лишь себя – она, что ясно из элементарной математики, абсолютному большинству решительно потрафляет. Возможно, в уравнении даже есть этот паритет – абсолютность власти и общий выигрыш абсолютного большинства.
Чтобы все было проще и без сантиментов, такая власть держит своих подданных за обыкновенных оловянных солдатиков, – так же и играется ими, – смерть которых ни для кого и ничего не значит. По-видимому, и для нас – этих солдатиков – тут есть какая-то странная справедливость: верные ей, мы ни за что, в том числе и за жизнь, не цепляемся, где поставили – там и стоим, объявили убитыми – умираем безропотно и с полным сознанием разумности происходящего. Тот же, кому судьба всех нас вручила, кого сделала распорядителем этого исторического карнавала, не знает ни греха, ни страха – войдя в раж, разгорячившись, играет с упоением, взахлеб и не может угомониться. Так было и с Петром Великим: все равно, преображался ли он в пыточных дел мастера, саардамского плотника или Преображенского солдата, реформировал государственное устройство или растачивал втулки на токарном станке.
Подобно этому и Иван Грозный играется в монастырь, монахи которого – разных степеней опричные дворяне, а сам он – игумен этой кощунственной обители. В игре нет никаких послаблений: игумен из своих рук кормит братию и строго следит за порядком. На кого надо (проспал молитву), накладывает епитимьи, а кого надо – милует и жалует. Себя отец-настоятель тоже не жалеет: ежедневно кладет до тысячи земных поклонов: весь лоб – один большой кровавый синяк. В принципе, тем более для того времени, это немыслимое святотатство – не будучи постриженным, изображать из себя монаха. Это бы и сейчас показалось дикостью, а тогда, когда на Руси еще отродясь не слышали ни о скептиках, ни об агностиках, ни об атеистах, греховность подрбного учреждения даже трудно вообразить.
Д.С. Лихачев в своей статье в «Литературных памятниках» тоже на этом останавливается и пишет о природной театральности натуры Грозного, о его сходстве с римским императором Нероном, который, как известно, славу актера и музыканта ценил выше власти над половиной тогдашнего цивилизованного мира. Пишет он и о любимых ролях царя Ивана: нищий и обездоленный, в этом случае его адресат – крымский хан Девлет-Гирей, недавно сжегший Москву; зависимый, ничтожный князь Московский – в прошениях к царю Симеону Бекбулатовичу; скоморох и тут же – начетник и великий молитвенник.
В этой «игроцкости» верховной власти корень и всеохватной, эшелонированной экспериментальности жизни, которую она порождает. Ты хочешь и без каких бы то ни было ограничений можешь попробовать, посмотреть: как оно – без пострижения жить и быть монахом, как тебе будет в этом обличье и в этом устройстве жизни. А то, что это грех, откровенное святотатство, ты себе легко и кротко прощаешь. Объясняешь тоже и себе, и другим, что, во-первых, все мы человеки, а с другой стороны, не потрафляя время от времени окружающим тебя людям, трудно надеяться на их преданность.
Такая экспериментальность – плоть от плоти жизни, в которой ни на каком её повороте, ни с кем и никогда не надо считаться, находить общий язык. Во всем этом и впрямь есть чарующая простота, столь привлекательная для многих мобильность абсолютной власти. Трудно не быть завороженным скоростью, радикальностью перехода из одного состояния в другое, которое она, будто катализатор, делает возможным. Превращением омерзительной гусеницы, минуя все промежуточные коконы и куколки, в прекрасную бабочку. В этом еще одно её искушение.
Следующая вещь, о которой, читая переписку Грозного с Курбским, полезно помнить. В обряд венчания на царство Ивана IV, кроме коронации, впервые в русской истории было введено и миропомазание, которое, по мнению историков, фактически уподобляло его Христу. В Спасителе, как известно, было две нераздельные и неслиянные ипостаси – Божественная и человеческая, и ни о каких разногласиях между ними церковь не говорит; другое дело – человек, даже когда он облечен в царскую порфиру. Грозный понял свое миропомазание как мандат на абсолютную власть, ничем и никем не ограниченную, по определению непогрешимую, и это и для него самого и для страны имело большие последствия.
Здесь нас интересует, в первую очередь, сам царь, о нем и будем говорить. Русское самодержавие знало очень интересный институт ограничения верховной власти – назывался он «чин». Известно, что малому ребенку одевают на руки рукавички, а на ноги – пинетки, чтобы он сам себя не поцарапал и не поранил. Так и нормы, правила, из которых был соткан «чин» царского двора (в переписке с Курбским Грозный вспоминает их всякий раз, когда говорит о протопопе Сильвестре и Адашеве), вводили царскую власть в некие рамки, не давали ей сделаться разрушительной ни для самой себя, ни для подданных. «Чин» указывал монарху, что для него «лепо», а что нет, какие деяния могут только унизить пресветлый лик царский, послужить ему в поношение. «Чин», будто кокон, ограждал царя от всего низменного и грязного, что есть в жизни, не давая ему, так сказать, этой жизнью замараться.
Ясно, что абсолютной власти «чин», как и любое иное ограничение, понравиться не мог. Чтобы избавиться от его пут, она будет готова на многое. Но «чин» был силен. В пору его расцвета вся жизнь кремлевского дворца подчинялась ему, была выстроена им с начала и до конца. От того, безмерно страдая, задыхаясь во всем этом, цари-тираны и побегут из Москвы. Грозный – в Александровскую слободу и в Вологду, а полутора столетиями позже Петр Великий – в Петербург, то есть, куда угодно, в любое болото, лишь бы на новом месте об этом самом «чине» никто ничего не знал и не хотел знать.
Но, негодуя против таких хитрых «мягких» препон как «чин», куда сильнее абсолютная власть ненавидела самого монарха – того, кому милостью Божьей она досталась. Она презирала его слабую человеческую плоть, его болезнующее тело и тоже болезнующий, мятущийся дух. Главное же, что она никогда не могла ему простить, это то, что он смертен – ведь смерть клала предел и ей самой, то есть как бы отрицала её абсолютность.
И все-таки власть не смирялась, раз за разом пыталась переступить через смерть. Доказать, что и её она сильнее. Смерть монарха обозначалась вступлением на престол его наследника – старшего сына, и это никогда и никак не ставилось под сомнение. И вот, в Иване Грозном абсолютная власть сначала избивает жену старшего сына, тоже Ивана, и та выкидывает, а потом царь в гневе убивает и самого Ивана.
Но и прежде этих событий, которые фактически предопределили конец династии Калиты на русском престоле, то есть показали, что смерть абсолютной власти, в сущности, есть смерть всех и всего, Грозный как мог разрушал принцип престолонаследия. Пытаясь не допустить сына Ивана на царство, он в присутствии иностранных послов заявлял, что решил передать престол датскому принцу Магнусу, а потом – и опять же, чтобы помешать Ивану, – передал (не важно, что формально) царство служилому татарскому царевичу Симеону Бекбулатовичу.
Про Петра и его старшего сына царевича Алексея говорить не будем – все это слишком хорошо известно, а вот то, что Петр, внеся в закон о престолонаследии право монарха самому выбирать себе преемника – власть, воля царя должна была продолжаться и после его смерти, – на смертном одре так и не успел произнести имя нового русского царя, в этом мы видим торжество абсолютной власти – она ушла, но не окончилась.
Еще об Иване Грозном и о его власти, что, кажется, стоит сказать. Время, когда он правил, любую социальную мобильность считало за зло, за безусловный грех. Если ты хотел быть правым перед Богом, ты должен был прожить свою жизнь тем, кем рожден, и по возможности так же, как твой отец и твои деды. Для власти это ограничение, конечно, тоже было неприемлемо. И в жизни, и в переписке с Курбским абсолютная власть что есть силы глумится над «пресветлым ликом царским», будто в комедии дель арте она кружит его и хороводит, заставляя Ивана IV примерять одну личину за другой.
Грозный святотатствует, кощунствует, и тут же он истовый молитвенник и постник. Перед нами царь-скоморох и царь ученый-монах. Он нищий: когда в 1571 году, после сожжения Москвы, крымские гонцы потребовали от него повышенной дани, Грозный нарядился в сермягу, бусырь (цитирует Лихачев «Пискаревский летописец») да в шубу баранью и послам отказал. «Видишь же меня в чем я? Так меня царь Крымский зделал! Все де мое царство выпленил и казну пожег, дать мне нечего царю».
Без того же издевательского самоуничижения немыслима и вся опричная политика Ивана Грозного. В челобитной царю Симеону от 30 октября 1575 года, которому сам же и отдал царство, он писал: «государю великому князю Симеону Бекбулатовичу всея Руси Иванец Васильев со своими детишками с Иванцом и с Федорцом, челом бьют»; «а показал бы ты государь милость»; «окажи милость государь пожалуй нас!» и дальше обычные просьбы о «вотчинишках», «поместьишках», «хлебишке», «деньжонках», «рухлядишке», а последняя, в которой и состояла суть опричной политики – «перебрать людишек».
Но рядом Грозный – преисполненный величия монарх, получивший верховную власть по Божьему соизволению, а не по «многомятежному человеческому хотению» (из письма к Стефану Баторию). Он – палач, самолично пытавший и казнивший сотни людей, и тут же – жертва, гонимый за правду, несчастный, преследуемый беглец, будущий политический эмигрант (в письмах к английской королеве Елизавете I).
Наконец, он и юродивый, и неслыханный блудодей. Эти две личины были в нем, возможно, главные, и поэтому скажем о них подробнее. В третьем послании у Курбского есть такие слова: «…а они (имеются в виду неправедные правители – В.Ш.) говорят, девушек собрав невинных, за собой их в подводах возят и бесстыдно чистоту их растлевают, не удовлетворяясь уже своими пятью или шестью женами».
О том же писал хорошо знавший московский двор и самого Ивана IV Джером Горсей: царь Иван «грешил беспрерывно в течение пятидесяти лет: он сам хвастал тем, что растлил тысячу дев, и тем, что тысячи его детей были лишены им жизни» (незаконнорожденные не угодны Богу, и он, как мог, боролся с этим злом – В.Ш.). (В кн. «Записки Джерома Горсея о России в конце XVI – начале XVII веков». М., 1994.)
Но и это не все. У Дмитрия Сергеевича Лихачева есть отличная статья «Канон и молитва Ангелу Грозному воеводе Парфения Уродивого». Парфений Уродивый – один из любимых псевдонимов Ивана IV. Повторим её важнейшие положения. Канон этот обращен к архангелу Михаилу, который почитался на Руси (да и не только) как ангел смерти. Среди прочего ему посвящен и Архангельский собор в Кремле – царская усыпальница – место, где предстояло лечь и Ивану IV.
В этом каноне Иван IV называет себя «злосмрадный, окаянный», а об архангеле Михаиле говорит, что восхождение его за душой умирающего «грозно», он «смертоносный», он «грозный посланиче» и тут же просит взглянуть на него «весело»… «да не ужаснуся Твоего зрака». В молитве царь просит архангела Михаила: «Запрети всем врагам борющимся со мною. Сотвори их яко овец, и сокруши их яко прах пред лицем ветру». Во всем этом нет ничего необычного – любой человек отчаянно боится смерти – останавливает внимание только псевдоним: «Уродивый» – это понятно: юродивый, а вот Парфений в переводе с греческого – «девственник».
И все же закончим на другой ноте. Скажем, что, как бы трудно ни было соединить одно с другим, переписка Грозного с Курбским вся с начала и до конца рождена временем, когда не важно было, образован ты или неуч, надеешься на вечную жизнь или почти не сомневаешься, что после кончины тебе уготована тоже вечная, но погибель – в любом случае, что Ветхий, что Новый Заветы были частью твоей собственной истории и твоей собственной жизни.
Вне Священного Писания люди даже не пытались себя понять, о себе думать. Потому Грозный, как издевательски замечает Курбский, и цитирует Писание целыми паремиями. Причем Библия была не столько сводом правил и заповедей – то есть не Второзаконием, а именно историей многотысячелетних скитаний человека, первый шаг которых – изгнание Адама из рая. Начавшись как путь греха, путь ухода от Бога, одновременно это был и путь от затерянного посреди пустыни одинокого странника Авраама до избранного Богом народа, многочисленного, как звезды на небе или морской песок. И в этом несомненном чуде было и твое личное спасение.
Вообще путь был в высшей степени не прост и не прям. Совершая грех, ты делал петлю; пытаясь скрыться с глаз Господа, двоил и троил след, но и тогда тебя не оставляла надежда, потому что и в этом случае это был совсем не метафорический, не аллегорический – твой и остальных путь из Египта в Землю Обетованную. Путь, проложенный со всей возможной топографической точностью, с указанием дневных переходов и привалов, ночных стоянок и колодцев, где можно было набрать воды, напоить скот, камней, по которым можно было сверить дорогу.
Бал у Сатаны
(его эстетика и этика)
Первая публикация в журнале «Prime Russian Magazine» № 2 (март-апрель) за 2014 г.
Подобно другим сравнительно консервативным людям, я убежден, что эстетика и этика – одного поля ягоды, оттого с трудом представляю себе красоту без добра, милосердия и справедливости. У М. Булгакова в «Мастере и Маргарите» – как и прочее, безукоризненно – написан бал у сатаны. Насколько я помню, в комментариях отмечается, что прообразом его стало празднование Нового года в Московской резиденции американского посла – Спасо-Хаусе. Должность эту тогда исполнял Уильям Буллит, старый приятель президента Рузвельта, человек богатый, независимый и по своему отношению к жизни вполне богемный. Такое в те годы бывало сплошь и рядом. Дипмиссии редко возглавляли кадровые дипломаты, куда чаще посольства правили друзья президента и главные жертвователи на его предвыборную кампанию. Впрочем, это никому не в укор.
В свое время я не один раз пытался написать понимание мира всякого рода сектантскими учителями и пророками, считал, что без этого не разобраться в том, что происходило в России в ХХ веке. Как и пророки древности, они учили из уст в уста, и, если по Булгакову, рукописи не горят, то слово без бумаги оказалось более непрочным. В тюрьмах и лагерях канули и те, кто учил, и их последователи, не осталось ничего, только отсвет, только странное ощущение, что за совсем новым и единственно верным учением Маркса – Энгельса– Ленина – Сталина, за взявшейся невесть откуда и тут же одержавшей решительную викторию партией большевиков скрывается столь давно и столь безнадежно всеми ожидаемая финальная схватка сил добра и сил зла, Христа и антихриста. Антихрист – вот он уже.
Главное же, как и было предсказано, мы обманулись, приняли его за Спасителя и сейчас время торжества зла. Сама Земля Обетованная, наша земля со всем, что в ней было и есть, отдалась ему, сделалась нечистым царством. И все-таки нас не оставляет надежда, что конечная победа останется за Христом и супостат на веки вечные будет сброшен обратно в адскую бездну. Тогда и наступит, придет время пресветлого райского царства, будет построен научный коммунизм.
Я писал такое понимание мира, будучи убежден, что оно непоправимо утрачено, сгинуло без остатка, писал наугад, неуверенный ни в словах, ни в том порядке, в каком они должны следовать друг за другом, оттого меня так поразило, когда в обществе «Мемориал», куда с середины осени прошлого, тринадцатого года я хожу как на работу, почти каждый день – мой хороший знакомый, Борис Беленкин дал мне прочитать воспоминания Александра Евгеньевича Перепеченых «Трагически ужасная история XX века. Второе пришествие Христа»: записанные и с крайним тактом, я бы сказал, целомудренностью отредактированные (везде слышен живой голос автора) Шурой Буртиным и Сергеем Быковским. Опубликовало их издательство «НЛО».
А.Е. Перепеченых отсидел десять лет при Сталине, причем по большей части на Колыме, но и там месяцами не вылезал из БУРов – бараков усиленного режима, с их неимоверным холодом и убийственно малой пайкой за то, что отказывался работать в дни, на которые падали двунадесятые праздники. Сидел Перепеченых и дальше, при Хрущеве и Брежневе, только тогда религиозные статьи были уже спрятаны за невинным тунеядством, и он, хотя всю жизнь работал с восхода до заката, строил дома для людей и коров, то есть в тогдашнем просторечии шабашил и был известен в окрестных хозяйствах как человек в высшей степени добросовестный и умелый, был нарасхват и все равно получал срок за сроком.
Община, в которую входил Перепеченых, была частью течения истинно-православных христиан и числила себя последователями Федора Рыбалкина (по его имени они так и звались «федоровцами»), родившегося в селе Новый Лиман Богучарского уезда Воронежской области. Этот Федор Рыбалкин был солдатом на Первой мировой войне и на этой войне убит. Но потом – дело было уже после революции – в него воплотился Спаситель, Федор Рыбалкин воскрес и стал ходить по селам и деревням, уча народ истинной вере.
Федоровцы прошли через самые страшные лагеря, и те, кто выжил, окончательно освободились только в конце шестидесятых годов. Мир, в котором им довелось жить, они считали за царство антихриста, хотя сами про себя говорили, что после «Второго Пришествия» Христа на землю живут в состоянии радости, как пишет Шура Буртин, так сказать, Вечной Пасхи.
Советскую власть, все устройство законов и правил, по которым она существовала, они понимали исключительно как власть антихриста, считали, что любые документы – паспорта, профсоюзные книжки, как и пенсии, подписки на займы – все это договоры с сатаной, согласие на то, чтобы он тобой управлял. Грех даже водить детей в школу, не говоря уж о службе в армии – все это признание власти антихриста, участие и соучастие в его делах. По свидетельству Соловецкого сидельца Олега Волкова, истинно-православные христиане в лагере даже отказывались называть свое имя – отвечали: «Бог знает».
Книга А.Е. Перепечных, кроме всего прочего, мартиролог по другим федоровцам, по большей части лежавшим в земле, где-то далеко в Сибири, на кладбищах, где не было ни гробов, ни настоящих могил, в лучшем случае – сбитый из двух плашек крест, но главное, она о торжествующем сатане, о его вечном и нескончаемом бале.
И вот я подумал, что литература по своей природе сказка, жизнь в ней такая, чтобы её можно было выдержать и не сойти с ума. Оттого у Михаила Афанасьевича Булгакова сатана зовет к себе на бал каких-то дантовских или позднеготических персонажей, убийц своих детей и мужей; женихов, продающих невест в публичные дома. На одну ночь он извлекает их из ада, будто дает свиданку с волей, а потом отправляет обратно в бездну, на вечные муки.
Конечно, и с таким балом Булгаков всю жизнь ходил по самому краю и, если сумел в основном дописать роман на свое и наше счастье и сумел умереть в собственной постели, то лишь благодаря редкостному везению. Но если бы сейчас мне при совсем других обстоятельствах довелось инсценировать бал у сатаны, я бы оставил в покое резиденцию американского посла, тем более, что она называется Спасохаусом – почти домом спасения; сказал бы себе, что и для антихриста дипломатический иммунитет есть дипломатический иммунитет, нарушать его просто так он не станет, и потому все, что происходит за высокими посольскими стенами и было и останется изъято из общего порядка вещей. Бал же у сатаны сделал, хотя бы отчасти основываясь, с одной стороны, на «Воспоминаниях» А.Е. Перепеченых, а с другой, на очень любимых народом новогодних праздничных концертах разных ведомств, испокон века охраняющих наш сон и покой. Ритмику, как привычно, задал популярными патриотическими и лирическими песнями, а между шли бы вставные номера. Нет сомнения, что их бы легко набралось на бал, который длится не одну-единственную ночь, а много лет, даже десятилетий, но пока, для затравки, ограничимся двумя.
Первая сцена основана на воспоминаниях, частью опубликованных, Ю.П. Якименко, бывшего профессионального вора, потом, еще в лагере, ушедшего, как он сам пишет, к «умным» мужикам. Называются воспоминания «По тюрьмам и лагерям» (Ф. 2, Оп. 3, Д. 66) и хранятся в архиве общества «Мемориал». Вторая – на воспоминаниях чекиста, потом начальника милиции города Иваново, позже тоже сидельца, М.П. Шрейдера. Заголовок рукописи «Жизнь чекиста-оперативника» (Т. 1–3, Ф. 2, Оп. 2, Д. 100–102). В свою очередь, и они частью опубликованы, а рукопись находится также в архиве «Мемориала».
Итак, первая сцена. Воровской этап в Северные лагеря. Не доезжая Вологды, состав отгоняют на запасные пути и там оставляют. Осень, пожухлая болотистая низина, уже битая ночными заморозками, вдалеке лес. Напротив одного из вагонов, сразу за канавой, стоит цыганский табор. Этих бедолаг тоже куда-то перегоняют. Повозок не видно, только пара хилых изможденных лошадей выковыривают из земли остатки травы, да там, где чуть выше и, значит, суше, вокруг костра сидят несколько пожилых цыган. Не знаю, что находит на воров, но они через оконную решетку начинают просить их сплясать, потешить, развеселить душу. Распаляясь все больше, они уговаривают цыган и уговаривают, но тем не до танцев: мрачные, угрюмые, они и не смотрят на зэков.
Настроение воров – штука переменчивая, они в последний раз кричат старикам: – «Чавэла, чавэла, где ваша цыганская кровь?» – и тут же: – «Раз вам западло танцевать перед нами, мы сами вам спляшем. Слушайте ромы, слушайте!» Двое воров в этом вагоне отличные чечеточники, они даже на этап попали в штиблетах с правильными набойками. Пол тельячего вагона, конечно, нечист, но, отшлифованный бессчетными зэчьими ногами, все равно звонок, как сцена.
Конвоиры молчат и не вмешиваются, им тоже хочется праздника. Пока, красуясь, выделываясь друг перед другом, пляшут, только двое, остальные – кто подпевает, кто отбивает ладонями ритм. Но скоро просто сидеть и остальным делается невмоготу. Всех захватывает бешеная пляска. Естественно, так откаблучивать, как чечеточники, никто больше не умеет и каждый пляшет, как может. Кто лезгинку, кто гопак, кто камаринского или просто вприсядку. В барыне, плавно поводя бедрами, но огибая, никого из танцующих не касаясь, проходит павой недавно запетушенная малолетка. Вслед их вагону подключается соседний, и скоро весь состав вибрирует так, будто машинист разогнал его до какой-то безумной скорости и теперь его раскачивает и на стыках кидает из стороны в сторону.
Надсадность, исступленность этой пляски, её шик, её экстаз, кажется, пронял и цыган, потому что, когда воры, прервавшись, снова обращаются к ним: «чавэла, чавэла», по знаку старого цыгана поднимаются несколько молодых ром. Поначалу совсем вяло прихлопывая по сапогам, они тянут свои «нэ-нэ-нэ», но скоро к ним присоединяются молодки в цветастых юбках, а затем в круг входит старая цыганка, вся увешанная монистами и браслетами. Конечно, плясать на мягкой, переполненной водой земле совсем не то же самое, что на ресторанном паркете, но она с такой страстью трясет вываливающимися из кофты большими, тяжелыми грудями, что заводится весь табор.
Теперь уже воры хлопают, подпевают не себе, а цыганам. Якименко пишет, что это не расскажешь и не опишешь: просто посреди беды, из которой мало кому удастся вырваться, посреди осени, холода и быстро сгущающихся сумерек вдруг сделался такой праздник, что люди забыли про все, что им уже выпало на долю, и про то, что еще только предстояло пережить. Забыли, что их ждет Крайний север, бесконечная работа, голод, пеллагра и смерть.
И, когда эшелон снова тронулся, медленно, не спеша переходя со стрелки на стрелку, начал набирать скорость, цыгане, провожая воров, еще долго махали им руками. А в ответ сотни зэчьих рук, расталкивая друг друга, тянулись к окошку, чтобы поблагодарить цыган за нежданную радость. И эта радость, заключает Якименко, так и осталась с ними, никуда не уходила до Печерской пересылки.
Вторая сцена. У ГПУшников ко всем был свой подход. Конечно, некоторые приемы, например, при отборе валюты и золота считались общеупотребимыми, почти обязательными, в частности, присутствие в зале, куда со всего города повестками сгонялись нэпманы, двух-трех «подсадных уток» (обычно из уже раскулаченных маклеров черного рынка). Эти «засланные казачки» в нужный момент и по соответствующему знаку начинали во всем признаваться и каяться. Но в прочих отношениях уважалась специфика. В частности, вышеупомянутый Шрейдер (чьё отличие от других чекистов только в том, что он оставил подробные и весьма интересные воспоминания, сам обо всем рассказал) больше другого гордился тем, как работал с соплеменниками, даже отметил, что его именем родители пугали своих детей.
Отдельно работали с фабрикантами и торговцами. Между фабрикантами различали тех, кто сделал себе имя еще до революции, и новых людей, так сказать, выдвиженцев НЭПа. Среди торговцев в отдельный подвид выделяли владельцев магазинов тканей и тех, кто специализировался на колониальных товарах. Вместе собирали врачей, в первую очередь, зубных, эти в любом случае имели дело с золотом, гомеопатов и врачей общей практики.
Думаю, смысл был в том, что те, кто сидел рядом, знали друг друга и знали, что, в общем, все они одинаково смотрят на советский режим. И вот, когда в такой гомогенной среде кто-то публично, нередко со слезами и криками, начинал «колоться», удар выдерживали немногие. За подсадными утками открыть душу родной власти, снять с себя грех устремлялись и остальные.
Но вернемся к Шрейдеру, который, как мне представляется, настолько успешно работал, что одна из его операций тоже достойна бала у сатаны. Нэпманы из евреев собраны в клубе работников НКВД. На фронтоне видная издалека надпись: «Добро пожаловать». Все приглашены с женами (это обычная практика): женщины доверчивее, главное же, они истеричнее и податливее, и чекисты это знают. Как и было указано в повестке – с женами – так и явились, не ослушался, кажется, никто.
Начинает Шрейдер вполне благожелательно с чего-то вроде политбеседы. Объясняет нэпманам, что они должны быть благодарны советской власти, при ней и речи нет о погромах, во время которых тысячи евреев были убиты, многие тысячи их жен и дочерей изнасилованы. Уничтожила революция и черту оседлости, так что ждать возвращения прежнего режима у них нет никакого резона. Наоборот, всем, что они имеют, они должны помогать новому строю. Страна сейчас отчаянно нуждается в индустриализации. Необходимо золото и валюта, чтобы закупать оборудование, станки, целые заводы.
Все это, так сказать, типично и не слишком любопытно, но есть и изюминка. Зал клуба радиофицирован, что по тем временам редкость, и вот за стеной перед микрофоном – чекист еще не закончил доклад о текущем моменте – хороший скрипач, тоже приглашенный гэпэушной повесткой, со всем возможным старанием и чувством начинает играть «Кол нидрей», Плач Израиля, другие похоронные молитвы и траурные песнопения.
Чекист и скрипка мастерски разыгрывают партию двух следователей – доброго и злого. Чекист добрый. И вправду, времена, во всяком случае, для нэпманов еще вполне вегетарианские, их редко расстреливают, сплошь и рядом даже не сажают. Если они соглашаются на добровольную сдачу всей валюты, её по официальному курсу обменивают на облигации государственного займа, которые везде принимают наравне с обычными деньгами.
Чекист и склоняет их к этому – все отдать и спокойно идти по домам. Только если они будут упорствовать, только если покажут себя ярыми врагами советской власти, революция и расправится с ними как с врагами. В общем, чекист не хочет им зла – другое дело скрипка. Скрипка безжалостна, она не знает ни милости, ни снисхождения, для скрипки им уже нет места на земле, она приговорила их и теперь хоронит заживо.
Уже при первых её звуках все стихает. Потом начинается какое-то невероятное возбуждение. Временное задержание – почти арест, тревога, страх за будущее, за детей усугубляют напряжение, и скоро в зале делаются слышны всхлипывания. То тут, то там раздаются истеричные возгласы и нечленораздельные выкрики, рыдания. Не прошло и получаса, как плач делается почти всеобщим.
Похоже, женщины в том же состоянии, в каком были в американском городе Салеме во время известных тамошних процессов ведьм. Вцепившись в руки мужей побелевшими от напряжения пальцами, они все пытаются заглянуть им в глаза, увидеть, найти там, что и те согласны все отдать, лишь бы прекратить эти нескончаемые скорбные рыдания скрипки. Скрипки, прощающейся с ними всеми и с каждым из них отдельно, скрипки, которой – это уже ясно – хватит сил каждого из них отпеть, похоронить и помянуть. И вот, когда Шрейдер видит, что сопротивление сломлено, что нэпманы готовы на все, только бы скрипка замолчала, он, будто завершая аккорд, дает знак подсадным уткам. Те, крича на весь зал, что советская власть права, бегут к сцене, где на столике уже лежит аккуратная стопка типовых договоров обмена валюты на облигации государственного займа. Будто боясь опоздать, следом за стукачами бросаются и остальные.









































