Текст книги "Перекрестное опыление"
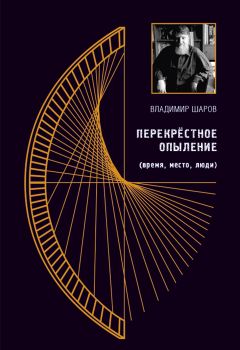
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
Очнулся отец уже на больничной койке, где врачи потом еще две недели с немалым трудом и немалым тщанием промывали их обоих и прочищали, удивляясь, что он и его товарищ из этой истории, кажется, благополучно выпутаются.
* * *
Там же, в Нукусе – где спустя шестьдесят лет я оказался в археологической партии, работал в тех же песках и на тех же берегах, видел почти ту же жизнь – какой-то врач долго уговаривал отца поехать на остров, лежащий в трех километрах ниже по течению, и посмотреть, как живут замечательные люди в замечательном совхозе, как они обрабатывают землю и сеют, растят и собирают урожай. В то же время как-то так выходило, что у этих людей есть серьезные проблемы и только один отец, корреспондент центральной газеты, способен им помочь. В конце концов отец дал себя уговорить, и они то ли на моторной лодке, то ли на простой весельной поехали.
Едва врач и отец сошли на берег, их окружила толпа прокаженных: люди – кто без руки, кто без ноги, c оплывшими, изуродованными болезнью лицами, – их жены с детьми, в большинстве совершенно здоровые. Оказалось, что на острове находится лепрозорий, и у больных, большая часть которых жила семьями в собственных глинобитных домишках и кормилась с собственных же огородов, бездна конфликтов с администрацией лепрозория. В основном по поводу земли под этими самыми огородами и пастбищами. И вот, отец рассказывал, что он стоит в ужасе, не знает, что делать, а к нему тянутся десятки рук со всеми этими жалобами и просьбами, обращенными в Москву, с криками и надеждами, что там, в Москве, разберутся и помогут.
Делать и впрямь было нечего: он стал брать эти жалобы, пожимать руки, которые ему протягивались для пожатия, обниматься с теми, кто хотел с ним обняться, одновременно помня (по образованию он был биолог), что никаких лекарств против лепры нет, а инкубационный период, который у чумы неделя или две, у проказы – то ли полтора, то ли два с половиной года. И все это время он, если не заболеет, будет отчаянно бояться заболеть. Впрочем, отец добавлял, что месяца через два или меньше он, вернувшись в Москву, о лепре и думать забыл. А с жалобами тогда все уладилось, и, по словам написавшего ему врача, прокаженные теперь считают его своим благодетелем.
Ходынка
Первая публикация в кн. «Москва. Место встречи». – М.: АСТ, «Редакция Елены Шубиной», 2016.
Хорошо помню, как дама преклонных лет водила группу из четырех детей (среди них и я) в Петровский парк – веер липовых аллей, обрамляющих путевой дворец Екатерины Великой. В мое время там помещалась Военно– воздушная академия имени Жуковского. Мы четверо обитали вокруг Ленинградки, лично я из Грауэрмановского роддома был привезен в коммуналку между улицей Правды и улицей Марины Расковой, в которой и прожил до своих шести лет. Так что добираться до Петровского парка было всего ничего – две троллейбусных остановки. Дама, кажется, была из немок или учительниц немецкого языка, и немецкий входил в программу нашего воспитания. Но в памяти не осталось ни слова.
Потом вместе с родителями я переехал в дом около метро «Аэропорт» – тоже Ленинградка, только парой километров севернее. Дом стоял рядом с метро, что, конечно, было очень удобно, и нависал над знаменитым на всю Москву Инвалидным рынком. Местом, где чуть ли не круглосуточный торг, штука по самой своей природе веселая, бесшабашная, как глушилка – звуки, забивал все мыслимые человеческие увечья и несчастья. Так следы недавней войны тщательно затирались, но здесь безногие калеки, раскатывая на своих деревянных тележках (вместо колесиков подшипники), расчистили кусок и теперь не давали ему зарасти. Позже Инвалидку переместили на километр в сторону «Сокола» – она стала обычным советским колхозным рынком и даже не без аккуратности – под крышей и с мраморными прилавками.
Из аэропортовского дома я ходил гулять уже не в Петровский парк, а в Тимирязевский лес. Угодья основанной в пореформенную пору – то есть, когда отменили крепостное право – Сельскохозяйственной академии (позже имени Тимирязева). Знаменитый на всю страну питомник лесоводов и лесников, агрономов и землемеров, но и тут же революционеров-народников. Мысль, что корень наших бед не в отсталой агротехнике и столь же отсталом лесном хозяйстве, а в варварском феодально-монархическом устройстве общества, сколько её ни выкорчевывали и ни выпалывали, сама собой возобновлялась в каждом новом поколении студентов. А с ней вместе шло в рост убеждение, что агротехника – штука долгая, муторная, и куда с ней придешь, никому не известно, другое дело революция – её путь ясен и прям. Встав на него, уже не заплутаешь в трех соснах.
А так это был замечательный лес, хотя для удобства обучения и разбитый на ячейки-дачи, каждая в несколько гектаров, на которых произрастали деревья лесной полосы всей тогдашней Российской империи. То есть от Польши и Прибалтики на западе до Охотского моря и Тихого океана на востоке. В итоге Тимирязевка осталась живым памятником и деревьям, и революции.
Здесь грот, в котором народническая группа Сергея Нечаева – личности по умению подчинять своей воле других легендарной – сверху донизу истыкав беднягу ножами, убила студента Академии Иванова, который никого не предавал, просто решил завязать с революцией. Цель убийства была все та же, не сбиться с ясной, короткой дороги, для чего сплотить группу общей кровью, подтвердить колеблющимся, что цель оправдывает средства. И то, и то так блистательно удалось, что общая кровь и общее же убеждение насчет цели и средств стали краеугольными камнями, несущими балками нашей последующей полуторавековой истории, всего того, что мы в конце концов выстроили.
В Тимирязевке начало этой дороги и тут же, под сенью двухсотлетних деревьев, похоже, еще не последний её верстовой столб. В любом случае она настоящий монумент всем нам, то есть, всем, кто её прошел или продолжает по ней идти. Не важно, что одни пропали, сгинули на полпути и теперь покоятся бог знает на каком полигоне или лагерном кладбище, а у других все чин-чином, они здравствуют или умерли в своей постели, даже сподобились официальных похорон с оркестром и множеством венков. Но главное, конечно, Тимирязевский лес, – памятник тем, кто, не зная сомнений и колебаний, водительствовал над нами, вел нас этим путем. Дело в том, что прямо посреди леса с незапамятных времен осталась обыкновенная деревушка, в советское время ставшая поселком художников, которая называется Соломенная Сторожка.
В Сторожке и жили, и творили самые знаменитые советские скульпторы – от Вучетича до Мухиной. Дома как были, так и остались довольно скромными, неказистыми – видно, что не в них суть – но рядом, на приусадебной земле, хозяева ставили огромные, иногда чуть не в пятнадцать метров высотой стеклянные теплицы, в которых растили не огурцы на пару с помидорами, а памятники нашим вождям и их славным победам. Здесь из мрамора и гранита, бронзы и глины (последнее – под будущую отливку) была изваяна чуть не половина наших Лениных-Сталиных.
Здесь, в теплице Веры Мухиной была закончена (уменьшенная всего раза в четыре) грандиозная Родина– мать, которую потом установили на Мамаевом кургане. Сейчас, конечно, от теплиц остались лишь остовы да битое стекло вперемешку с кучами мусора, остальное или упокоилось в запасниках музеев, или выброшено на свалку, но и в девяностые годы метров за сто до крайних домов Соломенной Сторожки все делалось ясно. Умненькая тимирязевская перспектива – визуальная и не только (чего в ней больше – издевательства или иронии – не скажешь) – играла так, что первой тебя встречала трехметровая голова золотого Ильича, будто свившего себе гнездо в ветвях векового дуба.
В юности, то есть годам к четырнадцати, как место прогулок Тимиризяевку сменила для меня Ходынка.
Я родился между улицей Марины Расковой и улицей Правды, потом почти сорок лет жил на «Аэропорте», позже снимал квартиры на Песчаных улицах и улице Куусинена. Все эти районы по большой дуге опоясывают Ходынское поле, место весьма примечательное и для большого города когда-то довольно странное. За последние пять лет Ходынку уже наполовину застроили, остальную часть наверняка ждет та же участь, и тогда от нее, как и от других, издавна известных среди москвичей мест, останется лишь имя да несколько разрозненных, не связанных друг с другом историй.
Лет девяти от роду я – сейчас уже не помню, где – прочитал про трагедию на Ходынском поле во время коронационных торжеств Николая II и, надо сказать, никак не связал её с тем лугом, по которому летом один или с родителями гулял многие годы. Тем более, что никаких могил или памятных знаков на Ходынке никогда не было. Никто не хотел, чтобы эту страшную (во время давки на Ходынском поле погибло почти полторы тысячи человек) и невыносимо бессмысленную трагедию (до полумиллиона людей собрались на Ходынке, привлеченные красивым зрелищем коронации и в не меньшей степени обещанием богатых подарков: а всего-то раздавали сайку, кусок вареной колбасы, пряник и пивную кружку) лишний раз вспоминали.
Мне это вдруг показалось неправильным, и я стал думать, что как раз Ходынкой началась вся наша страшная эпоха, время, когда люди уходили из жизни так легко, будто на земле их ничего не держало. Я думал о том, что вообще было бы справедливо, если бы каждый из нас входил в некое братство (из родных или просто сочувствующих), и эти братства всех помнили и всех поминали. Хотя бы раз в год, в день смерти убитых, собирались для этого.
И тут же мне стало казаться, что те, кто поминают убитых на Гражданской войне и на обеих Мировых, погибших во время коллективизации и замученных в тюрьмах и лагерях, станут говорить, что раздавленные на Ходынке им не пара: они никому не были нужны, поэтому в смерти этих несчастных не было ни смысла, ни оправдания. Другое дело – те, кого оплакивают они сами. Тут каждый отдал Богу душу за какую-то свою или чужую правду, их смерти искали, за ними гнались, когда же наконец настигали – убивали с радостью и торжеством. И напрасно «ходынцы» станут доказывать, что гибель сотен и сотен людей на коронации была предсказанием, пророчеством того, что скоро ждет всю империю, что именно они и проложили путь, по которому пошли и до сих пор идут остальные.
Я думал, что было бы правильно, если бы члены ходынского братства собирались на этом поле еще с вечера 17 мая. В Москве это уже почти лето, тепло даже ночью, и, наверное, они ничем не будут отличаться от других гуляющих здесь целыми семьями, с детьми и собаками. Опознать их можно будет единственным образом: в руке они будут держать аккуратный кулек, а в нем, как и тогда, в 1896 году, сайка, колбаса, пряник, сласти и эмалированная кружка, – да еще по тому, что при встрече они будут церемонно раскланиваться друг с другом, вместо же приветствия – просить прощения у только что коронованного монарха, сокрушаясь, что своим недостойным поведением и своими смертями испортили ему великий праздник – День восшествия на престол. Слова эти не собственного их сочинения – они взяты из покаянного адреса: он от имени всех, мертвых и живых, бывших на Ходынском поле в тот страшный день, был опубликован 20 августа 1896 года в главных российских газетах, – и с тех пор не менялись.
Когда-то, еще задолго до этой истории, на Ходынке располагались артиллерийские стрельбища, и от Сокола дальше на север и запад, вдоль старых дорог, до сих пор среди обычной застройки то и дело попадаются невысокие красного кирпича казармы, склады и конюшни. Мне они в детстве напоминали возвращающиеся с учений маршевые батальоны.
Позже ходынские полигоны позакрывали и официально вся территория была отдана под обычный городской аэродром. Однако использовался он от случая к случаю. Несколько лет на вой самолетных турбин жаловались жители окрестных домов, от них отбивались, в общем, без труда, но затем их поддержали люди в больших погонах, отвечающие за безопасность, а это уже сила. Слышал, что они устали бояться, что однажды какой-нибудь разочаровавшийся в жизни летчик решит спикировать на Кремль – от Ходынки до его башен ровно пять километров; как его называют, «подлетное время» меньше минуты, а за такой срок противовоздушная оборона разве что выматериться успеет. В общем, с конца 60-х годов на Ходынском поле садятся только легкие одномоторные самолеты да вертолеты, вдобавок лишь вечером, когда начальство из Кремля разъезжается по дачам.
С моего балкона на Аэропорте была видна часть поляны. В закатном солнце вертушки летели медленно, без обычной авиационной лихости и, прежде чем сесть на полосу, как стрекозы, зависали. Считалось, что по-настоящему Ходынка оживает лишь два раза в год: за неделю до Дня победы, и снова – за неделю до Октябрьских праздников.
В первые дни мая и ноября именно сюда из подмосковных гарнизонов, из Тучково, Красноармейска и Кубинки перебрасывались части Таманской дивизии и дивизии имени Дзержинского, по необходимости и другие войска. Несколько ночей на Ленинградке перекрывали движение и, разворачиваясь напротив стадиона «Динамо», на Ходынское поле вперемежку с танками шла моторизованная пехота, двигались, стараясь не задеть электрические провода, артиллерийские установки и установки залпового огня, ракеты ближнего и среднего радиуса действия.
В четырнадцать лет я как-то ночью, гуляя по аллее, случайно оказался посреди этого ада. Земля дрожала и ходила ходуном, все вокруг выло и скрежетало. Пожалуй что, именно тогда мне наглядно и на всю жизнь объяснили, до чего же одинокий человек гол, мал и жалок. В общем, перед парадами Ходынка возвращалась на век-два назад и снова делалась полигоном. Солдаты, прибыв на место еще затемно, при свете фар где-нибудь с края поля правильным каре расставляли палатки и уже на рассвете начинали готовиться к параду. День за днем с перерывом на короткий ночной отдых что люди, что техника, как на плацу, на длинных взлетных полосах самозабвенно оттачивали шаг и равнение, чтобы пройти по Красной площади не хуже прошлогоднего.
В сущности, для местных никогда не было секретом, что статус городского аэродрома – прикрытие, а так Ходынка как принадлежала, так и сейчас принадлежит военным и нужна она им отнюдь не из-за двух парадов. Под и вокруг этого огромного, зимой занесенного снегом, а летом цветущего луга, где среди трав и прочих полевых растений гудят пчелы, над ними, кувыркаясь в воздухе, распевают жаворонки, а еще выше, нарезая круг за кругом, парят ястребы, находятся десятка полтора заводов, делающих корпуса, двигатели и прочую оснастку самолетов. Все наши главные авиационные КБ.
С 30-х годов через ангары, что стоят ближе к периметру, но, в общем, разбросаны без какого-либо порядка, они время от времени, но тоже ночью выкатывают на взлетные полосы прототипы, опытные образцы и уже готовые машины, чтобы испытать узлы, которые невозможно проверить в цехах под землей. Когда же государственная комиссия признает самолет нужным стране и пригодным для серии, здесь же, на Ходынском поле, его впервые поднимают в воздух и, если все проходит «штатно», перегоняют для окончательной доводки на номерные военные заводы в Куйбышев, Иркутск или Хабаровск.
Раньше КБ размещались только под аэродромом, но после войны, ища для своих цехов новые пространства и пустоты, они неустанно рыли и рыли, и теперь в округе нет такой улицы, жилого квартала, под которым бы не строили самолетов. Так заводы старались не попадаться на глаза и особо никому не докучали. О них вспоминали, лишь когда на одном из подземных стендов на предельных оборотах гоняли мощные турбины и вместе со станиной так же мелко и певуче начинали дрожать пол и стены в твоей квартире, да случайно оказавшись рядом с обычным подъездом обычного дома, из которого, когда кончалась смена, один за другим нескончаемой цепочкой шли и шли аккуратно одетые усталые люди.
Хотя во времена моего детства аэродром со всех сторон был окружен бетонными в рост человека плитами, охранялся он плохо. Лишь в дни, когда на Ходынке стояли войска или должны были испытывать новый самолет, здесь, и то не часто, можно было встретить солдата с автоматом или овчаркой на поводке, идущего вдоль забора, а так – поломанный, изъеденный дырами забор никому не был помехой. Живущие по соседству – на улицах Куусинена, Зорге и многочисленных Песчаных – изо дня в день, обычно ближе к вечеру, играли тут с детьми или выгуливали своих совсем не бойцовых пород собак.
Особенно хорошо было на Ходынке летом. Вдоль взлетных полос военными инженерами был сделан неплохой дренаж и по обеим сторонам от бетона шли широкие, никак не меньше полукилометра полосы настоящей ковыльной степи. В молодости бывало, будто пьяный, бредешь себе, спотыкаясь, путаясь ногами в этом густом, сбитом в колтуны разнотравье, и не помнишь ни о каком городе.
При мне на Ходынке никто никуда не спешил. Многие приходили сюда целыми семьями, с детьми, которым тут было привольно, будто на даче с бабушками и дедушками, другие прогуливались в одиночестве, то и дело останавливаясь, чтобы полюбоваться полевым цветком или облаком над Курчатовским институтом, окрашенным оранжевым предзакатным солнцем. Все мы гуляли здесь такие мирные и безмятежные, будто в мире отродясь не было никаких войн и никакого зла, никакой крови и смерти.
Школьный учитель

Первая публикация в кн. «Памяти Анатолия Якобсона». – Сб. воспоминаний к 75-летию со дня рождения. – Бостон.: M-Graphics Publishing, 2010.
Со времен Тимирязевки и Ходынки я учился во многих школах, но последние три года провел в замечательной во всех смыслах – Второй математической. Такой, какой была задумана, а её учителя мечтали повторить опыт Царскосельского лицея, Вторая школа продержалась почти полтора десятка лет (до дня увольнения своего создателя и директора Владимира Федоровича Овчинникова), для чего самым разным людям, не только Владимиру Федоровичу, потребовались отчаянные усилия.
Он искал союзников, единомышленников, просто сочувствующих, где только мог, но, безусловно, главную поддержку ему оказывала Академия наук и университет, профессора которого видели во Второй школе питомник, теплицу, где дети, одаренные экстраординарными способностями, могут без ненужных проблем укорениться и пойти в рост. За эти пятнадцать лет через руки наших учителей прошло несколько тысяч подобных подростков (набирали нас на последние три года учебы, зато количество выпускных классов редко было меньше шести), которые до конца своих дней, чем бы они ни занимались и куда бы их ни забросила судьба, так и останутся второшкольниками.
Сейчас я понимаю, что, в сущности, Вторая школа была полноценным заговором сделать мир, в котором мы жили, лучше, и учителя, которых собрал Овчинников, за редким исключением достойно в нем участвовали. Что точные науки стояли у нас выше ординара – ясно. Лекции по высшей математике читали известные университетские профессора, причем шли они во Вторую с радостью, потому что это редкое удовольствие, когда тебя понимают с полуслова, схватывают, что ты говоришь, на лету; а семинары вели их аспиранты: многие прежде, в свою очередь, окончили Вторую школу. Эта преемственность не просто поддерживалась, а всячески утверждалась Овчинниковым. Она жестко соответствовала его убеждению, что долги необходимо отдавать, и другому – что добро рождает добро.
Но Вторая школа была з амечательна не только своей математикой. Учителя, читавшие нам гуманитарные дисциплины, в первую очередь, литературу, были ничуть не менее яркими и талантливыми. Потому что дело отнюдь не сводилось к тому, что мы должны уметь хорошо брать интегралы, идея школы держалась на надежде вырастить нас людьми. По негласному школьному табелю о рангах, самым любимым из второшкольных словесников был замечательный литературовед, переводчик испанской поэзии и издатель диссидентской «Хроники текущих событий» Анатолий Александрович Якобсон.
Сам о себе Анатолий Якобсон писал: «По образованию – историк, но больше занимался литературой». История и литература постоянно переплетались и в школьной работе Анатолия Александровича. Я учился у него, когда власти уже запретили Якобсону вести литературу. Но она не исчезла из его школьной жизни: несколько раз в месяц он читал лекции о русских и советских писателях, на которые ломилась не просто вся Вторая школа, а вся интеллигентская Москва. Лекции блистательные и блистательно свободные. После одной из них – о романтической идеологии – Якобсон спросил своего друга и нашего завуча Германа Фейна: «Тебе понравилось?» – «Понравилось, – ответил тот. – Только школу теперь закроют».
Якобсон всерьез говорил, что мечтает стать «гениальным читателем», он литературу любил по-настоящему, относился к ней с предельной искренностью, и именно в этом, в искренности, власть видела наибольшую для себя опасность. Его любовь к литературе не ограничивалась уровнем школьного преподавания:
он был признанным литературоведом и переводчиком с испанского. Его друг и коллега, один из лучших переводчиков испанской поэзии Анатолий Гелескул писал о нем: «Русскую литературу он любит, как любят родину – то кровное и таинственное, что пожизненно требует разгадки». Самой важной его литературоведческой работой, Якобсон и сам считал её таковой, стала книга о Блоке, творчеством которого Анатолий Александрович занимался многие годы, – «Конец трагедии».
Итак, ему запретили преподавать литературу и в нашем классе он вел историю нового времени. Преподавать её Якобсону было скучно, слишком много запретов и руководящих указаний, но иногда он, что называется, «просыпался». Помню, например, его страстный монолог, когда речь зашла о путче греческих «черных полковников», в конце которого Анатолий Александрович горестно воскликнул: «И это в Греции – на родине демократии!» В ненависти к некоторым чужим диктатурам власть была с ним солидарна, и слова его переставали быть крамолой.
В нем была масса адреналина, оттого он был человеком невероятной страстности, спонтанный, с мгновенной реакцией. Думаю, это помогало ему и в боксе, которым Якобсон когда-то профессионально занимался. Я не участвовал ни в одной истории, когда на наших ребят кто-то нападал или пытался спровоцировать с ними драку, но вся школа знала, как он, худощавый, высокий, сильный, при первом намеке на конфликт вылетал из школы: кудри и рубашка развеваются – это Якобсон, в любой момент готовый встать в стойку, бежит защищать своих учеников. Противник забыт, «второшкольники» повисают у него на руках, каждый знает, что любая такая разборка может стоить Якобсону свободы.
Он любил и ценил школу, его окружали люди, близкие ему по духу и мыслям. Владимир Федорович Овчинников, пожертвовавший ради школы карьерой, Герман Наумович Фейн, Исаак Семенович Збарский, Феликс Александрович Раскольников – все они были вместе с Анатолием Александровичем и обо всем, убежден, думали схоже. Разница была лишь в том, что они хотели что-то сделать в существовавших условиях, пытались «работать в советском поле» или, по крайней мере, быть к нему вплотную. Якобсон же не понимал роли «попутчика», он был полностью свободным человеком, наверное, и ярче, сильнее остальных. А поскольку задачей советской власти, соответственно и советской школы, было везде и на всем протяжении превратить ландшафт в абсолютно ровный, стриженый, будто газон (на этом фоне набранные Овчинниковым учителя, сплошь имеющие «лица необщее выраженье», конечно, и так смотрелись тропической оранжереей), как все – и коллеги, и ученики – ни любили Якобсона, ему приходилось нелегко.
Как уже говорилось, общей идеей наших учителей было создать из Второй школы лицей наподобие Царскосельского. Эта попытка долго казалась мне удавшейся лишь отчасти: время было жесткое и ломало хрупкую конструкцию. Но позже я многое переоценил. Сейчас мне кажется, что боковые ветки в итоге оказались сильнее основного ствола.
Математика, конечно, очень ранняя наука, причем кулуарная, не стадная; форсаж Второй школы советская система не поддержала; ты должен был, как все, поступить в Университет или в Физтех, как все, переходить с курса на курс, и ожидая, пока их нагонят, некоторые мои одноклассники спились или делались профессиональными карточными игроками. Но это математики. Для людей гуманитарных школа, наоборот, сделала главное – она их не только не сломала, но научила расти по своим собственным законам и в своем ритме, а это в пятнадцать-семнадцать лет оказалось неслыханным подарком.
Ощущение свободы и нестандарта начиналось в школе немедленно. Единственно, за чем строго следил директор, обычно не поднимавшийся выше первого этажа, это за опозданиями: ровно в 8:30 двери школы запирались. И вот, группа опоздавших собирается на крыльце, среди них Андрюша Фейн, сын нашего завуча. Квартира Фейнов прямо в здании школы, и мы, посовещавшись, отправляемся к Андрею играть в преферанс. Вскоре возвращается домой Герман Наумович и, проходя к себе, предупреждает, что на следующей перемене нас тоже никто в школу не пустит. При этом ему и в голову не приходит выгнать нас или хотя бы устроить разнос.
Нельзя сказать, чтобы в школе не было самой идеи дисциплины, но то была именно «осознанная необходимость» её, а так принуждение отсутствовало, и уже в этом Вторая была глубоко антисоветской.
Другая история опять связана с опозданиями. Я жил далеко и вечно опаздывал. И терпение у Овчинникова кончилось: в школу вызвали моего отца, чтобы сообщить ему, что меня отчисляют. Отец не надеялся услышать обо мне ничего хорошего и, идя в школу, настроен был мрачно. Наверное, с полчаса он безнадежно слушал список моих грехов и провинностей (я не только опаздывал, но и учился из рук вон плохо), но Овчинникову была нужна обратная связь: человек эмоциональный, он ждал споров и возражений, однако ничего подобного не было, и наш директор не выдержал. Воскликнул: «Но он может хотя бы не опаздывать каждый день?!»
И тут отец будто очнулся, спокойно и с должной твердостью заявил Отвчинникову, что нет, не опаздывать я не могу. Ровно в минуту моего выхода из дома почтальон кидает в наш почтовый ящик газету «Правда», которую я, его, Овчинникова, ученик, читаю примерно лет с семи. Уйти в школу, хотя бы бегло не проглядев газету, я никак не могу. Наверное, с минуту Овчинников молчал, а потом едва не свалился со стула от хохота. По рассказам отца, смеялся Овчинников еще долго: сам бывший инструктор ЦК ВЛКСМ, такой интерес к партийной печати он не мог не оценить. В итоге вопрос о моем отчислении не просто был снят с повестки дня, но и больше никогда не ставился.
В «нестандарте» Второй школы, в её непохожести на обычное советское учебное заведение имя Анатолия Якобсона, известного диссидента, издателя «Хроники текущих событий», играло самоценную роль. Оглядываясь назад, я очень жалею, что не входил в круг близких учеников Анатолия Александровича, тем более, что с родителями его жены Майи Улановской моя семья дружила домами. Мы чуть не каждую неделю наносили визит на Садовоую Черногрязскую к Надежде Марковне Улановской – Толиной теще.
Надежда Марковна и Майя оставили замечательные воспоминания, в которых переплелись революция, многие годы работы старших Улановских разведчиками-нелегалами в Китае, Америке, Дании и лагерь. Отец Майи Александр Петрович до и после революции был анархистом и тут же резидентом ГРУ. Сначала на Дальнем Востоке, а потом в США.
В пятьдесят первом году и сама Майя, неполных девятнадцати лет от роду, была арестована по обвинению в принадлежности к еще школьной организации «Союз борьбы за дело революции». Как и большинство её участников, должна была получить смертный приговор, но единственная среди всех отказалась подписать, как это требовали, признательные показания и два года спустя получила двадцать пять лет лагерей.
Помню, что Надежда Марковна любила рассказывать, что до ареста на Новый год, на приемах, куда были званы чиновники высокого уровня и генералитет, её муж обычно поднимал тост: «А теперь я предлагаю выпить за то, чего хочет моя жена». Все понимающе переглядывались, но вряд ли могли предположить, что жена хотела одного: чтобы Сталин скорее сгинул.
От Улановских у меня всегда было ощущение яркости и трагизма. Подстать им был и Якобсон. Все они смотрелись диковинными растениями на небогатой советской почве.
В школе я устойчиво получал двойки по русскому языку: орфографических ошибок у меня было немного, а вот запятые я по неведомой причине игнорировал. И родители были счастливы, когда Толя согласился заниматься со мной русским. Помню его маленькую квартирку где-то в Теплом Стане, он иногда выходит в соседнюю комнату проведать сына Сашку, которому с двух лет читал на ночь чуть ли не все лучшее, что есть в русской лирике от Пушкина, Тютчева и Блока до Пастернака и Мандельштама. Я пишу диктанты, сочинения, и оба, что я, что Якобсон, отчаянно тоскуем. Однако результат был. Якобсон сделал почти невозможное – вместо прежних тридцати запятых на страницу я стал пропускать лишь пятнадцать.
И все же мне всегда казалось, что людям такого накала, как Анатолий Александрович, не стоит преподавать: то, что тебе дано от природы, можно использовать и с большим толком. Но сейчас думаю, что Якобсон просто родился не в свое время. По взглядам на жизнь, по темпераменту и по человеческому потенциалу он был из народников конца XIX века, когда само собой разумелось, что, если что-то знаешь и умеешь, обязан «идти в народ», нести это людям.
В 1972 году Якобсону, к тому времени главному редактору «Хроники текущих событий» – подневной летописи диссидентского движения, предложили на выбор – 10 лет лагерей или эмиграцию в Израиль. В немалой степени из-за сына, он, поколебавшись, выбрал Израиль. И потом никогда не мог себе простить этого решения. В России он как бы привык вмещать в себя весь объем конфликтов, страстей, проблем огромной страны, и в Израиле ему было безмерно тесно. В Москве он пил, но, в общем, умеренно – там начал пить по-настоящему. Ему предлагали профессуру в Иерусалимском университете, но он не хотел ничем заниматься. Говорил, что проживет, сколько суждено. В итоге же прожил, сколько судил себе сам.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































