Читать книгу "Перекрестное опыление"
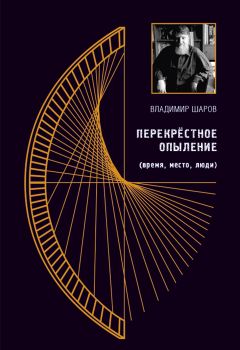
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Федоров считал землю нашим общим домом, единым общинным наделом воинов-земледельцев, а нас, смертных, единой семьей. В этом его всемирном человеческом общежитии мы без труда и на равных различаем как представления русских народников о должном и справедливом устройстве мира будущего, так и знаменитые военные поселения времен Николая I и Аракчеева. Соответственно политическую карту грядущего Федоров представлял единой империей, она же – семья, законный отец которой наместник Царя Небесного на земле – русский царь.
Ответ на вопрос, как мы к этому придем, если война и насилие под запретом, не менее изящен. Русская империя никого к этому единству не принуждает и не собирается принуждать, но её враги настолько неразумны, что один за другим сами на нее нападают, а дальше без каких-либо надежд терпят скорое и решительное поражение. Последний, он же самый злокозненный враг, – Англия. Понимая, что её ждет, Британия все никак не хочет воевать, а открыть огонь первыми мы по-прежнему не можем. Это статус-кво продлится довольно долго. Военные корабли в открытом море, скрежеща железом, будут тереться бортами друг о друга, и в конце концов у подлых англичан сдадут нервы, они все-таки пойдут на абордаж – финал же известен заранее.
То есть верховная власть, по Федорову, должна была быть отдана и остаться навсегда за русским царем, на его прерогативы никто не только не посягает, наоборот, он – царь – основа и фундамент всего земного мироустройства, но сама жизнь его подданных мало чем напоминает времена Александра III. Ни дворянства, ни купечества нет и в помине, мещан тоже нет, потому что города, как «детское место» греха, настоящий инкубатор, питомник любого мыслимого зла и разврата, уничтожены, срыты под ноль, им больше нет места не земле.
Федоров предполагал, что в самом скором будущем все люди добровольно переселятся на кладбища, которые обратятся в кладбища-архивы и кладбища-библиотеки. И мы, смертные, жительствуя там, то есть прямо на могилах предков, из себя, своей памятью шаг за шагом станем возвращать их в жизнь и тем начнем дело воскрешения отцов. Те – своих, и так постепенно восстановим, вернем из небытия весь человеческий род, вплоть до Адама.
Федоров признавал воскресение и в духе, и во плоти, но считал, что та роящаяся, в безмерном множестве кишащая повсюду бессмысленная жизнь, жизнь, которая, едва ты умрешь и тело похоронят, с безумной жадностью набрасывается, начинает поедать твою плоть, на земле не даст этого сделать. Только в холодном и пустынном космосе каждый атом твоего тела вернет себе наконец свободу. И тогда вместо путеводной звезды, помня гармонию, частью которой он в свое время был, найдет дорогу обратно. Воскресит тебя и во плоти. То есть, в сущности, проделает тот же путь, что и мы, ищущие дорогу к Отцу Небесному и спасению.
Верующий человек считает Бога Всеблагим, а созданный Им мир, как и сказано в Бытии, совершенным: «И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма». (Быт.:1;31) То есть обычно он не делит Бога и мир, с величайшей благодарностью принимая и то, и другое. Маркса, как уже говорилось, Бог вообще не интересовал, но Федоров, признавая Бога Всеблагим, в то же время не считал, что сотворенный им мир так уж хорош. Все, что касается самых первых дней творения, то есть космоса, он принимал без особых оговорок, но земная жизнь, которой Господь занимался на исходе семи дней, вызывала у него бездну вопросов.
Я уже говорил, что она казалась ему бессмысленной и бессмысленно жестокой, жадной и плотоядной, источником всех наших болезней и бед – от неурожаев и голода до смерти – главное же, тем, что больше другого мешает нам воскреснуть самим и воскрешать других. Он вообще держал её за отца и мать всего плохого, что знал, в частности, неравенства и несправедливости, угнетения и войн.
Федоров писал, что само наличие в мире высоких и гордых, увенчанных снежными шапками горных пиков и тут же – болотистых, переполненных гнилостными миазмами низин, неизбежно внушает каждому из нас мысль, что и в человеческом обществе не может и никогда не будет настоящего равенства. Оно невозможно по самой своей природе. Оттого Федоров и предлагал в будущем мире так же, как города, подчистую срыть горы и засыпать ими низины, мечтал превратить всю землю в пригодную для земледелия ровную и гладкую равнину, орошаемую не причудливо и прихотливо текущими реками, а правильной, опять же справедливо, на равных орошающей каждый кусок земли сеткой каналов. Если же и этой воды полям не хватит, воины-земледельцы должны палить из пушек в белый свет, но вовсе не чтобы запугать Господа, а потому что еще во времена наполеоновских войн было замечено, что после каждого большого сражения и многочасовой пушечной канонады на иссохшую землю потоком изливается благодатный дождь.
То есть, подводя первые итоги федоровскому фрагменту, скажем, что автор «Общего дела» хотел не просто, как Маркс, остановить историю: предполагалось, что в земледельческих общинах-коммунах деторождения (по своей сути зачатия и нескончаемого воспроизводства первородного греха, голода, болезней, вообще всех бед) не будет, – но и развернуть её вспять. Так, человек, ища путь к Отцу Небесному, все плутает, плутает в потемках, бесцельно бродит туда-сюда по Синаю, а тут словно вдруг понял, что, наступая в собственные следы, он, поколение за поколением, пойдет верной дорогой к Богу. Пойдет обратно самым прямым путем. Главное, дорогой, которой уже один раз прошел и, значит, хорошо её знает.
Прежде чем продолжить, ремарка несколько вбок. У нас до сих пор распространено мнение, что истина рождается в споре, то есть ты можешь быть переубежден оппонентом. Навряд ли это так. Люди разных взглядов – как у Тойнби разные культуры – не способны друг друга понять, ни даже услышать. Но смысл в полемике есть, только адресат другой – не оппонент, а многочисленное племя колеблющихся, еще не определившихся. Уши последних открыты. Они все готовы принять, со всем согласиться и во все поверить, только сумей их убедить.
Такое теоретическое введение необходимо, когда сравниваешь старое русское дворянство с дворянством новым, послереволюционным, то есть с советской партийной и хозяйственной номенклатурой. Пытаясь понять, как и почему вышло так, что второе сменило первое (случай в истории нечастый), начнем с дореволюционного дворянства.
Люди людям рознь, и все-таки несходство двух правящих корпораций бросается в глаза. Старое дворянство несравненно лучше образовано. Тот фантастический расцвет культуры, который пришелся у нас на пореформенную пору и начало XX века, был бы невозможен без классических гимназий и университетов, без свободного владения несколькими иностранными языками (французский вообще шел на равных с русским). Без роялей или на худой конец пианино чуть не в каждой гостиной, без мольбертов и домашних театров. Все это стало не просто агар-агаром, питательным бульоном, а дало двум десяткам выдающихся композиторов, еще большему числу литераторов и философов, художникам, театральным режиссерам и архитекторам самых разных школ и направлений, десятки, а то и сотни тысяч людей, с которыми они могли говорить на равных. Не бояться, что их не поймут и, соответственно, ничего не упрощать.
Не менее важно для автора данной работы, что хоть ничтожеств, подлецов, прочего дерьма всегда и везде в избытке, в среде старого русского дворянства были несравненно тверже укоренены представления о чести (в немалой степени выпестованные дуэльным кодексом) и об обычной человеческой порядочности, – и военные, и гражданские, войдя в конфликт с начальством, сплошь и рядом подавали в отставку, уезжали жить к себе в имение. О чем советская номенклатура, конечно, не могла и помыслить. Матерью всего этого с начала и до конца была «Жалованная грамота» императрицы Екатерины II «на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства».
Большинство дворян и после её утверждения продолжало верой-правдой служить царю и отечеству, но сознание самой возможности быть независимым от государства, корпоративные представления о правах, присущих тебе от рождения, о личной чести и о личном же достоинстве (позже и одно, и второе, и третье было сведено в очень емкую сентенцию, гласящую, что в декабре двадцать пятого года на Сенатскую площадь вышло второе непоротое поколение) произвели серьезную работу в самом нутре русского дворянина.
Повторюсь – результаты этой работы кажутся мне важнее всего остального, но история нашего XX века и революция – среди прочего повсеместное сожжение дворянских усадеб, чтобы хозяевам, как бы ни сложились дальше обстоятельства, некуда было возвращаться, свидетельствовали, что такой взгляд на вещи оказался не единственным.
Вернемся к истории. До начала XX века империя была кошкой, которая хорошо ловила мышей (территория её росла и росла) и, значит, не зря ела свой хлеб. Но военное поражение 1905 года, почти непрерывные неудачи Первой мировой войны стали для народа знаком, что благословение свыше страной утрачено. Господь, который в ушедшие два века с такой щедростью даровал победы Своему новому избранному народу, отвернулся от него. Эта утрата благословения уже сама по себе означала, что власть, которая продолжает править Святой землей, нелегитимна. А нелегитимность в свою очередь делала законными любые попытки её свержения – в их числе революции 1905 и 1917 годов.
Не последнюю роль играло и то, что прежде империя, год за годом расширяя свои пределы, так зримо, так очевидно для всех приближала Второе пришествие Спасителя, а теперь этот долгожданный конец истории снова потонул в тумане.
И одно и другое стало для монархии и её главной опоры – дворянства – приговором, который народ только подтвердил и привел в исполнение, когда новобранцы, поколебавшись между Белой и Красной армиями, в своем большинстве выбрали буденновки.
И тут самое время продолжить сравнение старого дворянства с теми, кого власть начала верстать на службу после Октября семнадцатого года. Мы уже говорили, что прежний контракт монархии с её служилым сословием полтора века базировался на «Жалованной грамоте» Екатерины II. Контракт, который подписывал каждый служилый человек советского времени, покоился на совсем иных принципах.
На каких, речь пойдет ниже, пока же снова вернемся к культуре и к сожженным имениям. И то, и то тесно связано, потому что для большинства народа весь наш пореформенный расцвет литературы, живописи, театра, музыки среди голода, холода и бесконечных смертей на поле боя и в лазаретах начал казаться в лучшем случае неуместным постыдным баловством. Напротив, Октябрьская революция стала своеобразной бритвой Оккама, обрезающей ненужные сущности. То есть те сущности, которые никак не помогают человеку спастись от повсеместного зла, наоборот, только мешают покончить с болью и страданиями. Лишь путают нас и сбивают с толку.
И вправду, кто посмеет утверждать, что умение грамотно объяснить различие театральных эстетик Мейерхольда и Таирова хоть на шаг сократило твой путь из Египта в Землю Обетованную? Потому новая власть привлекла народ не только своей решимостью в самые сжатые сроки построить рай на Земле, тысячелетнее царство добра, справедливости и правды, но и готовностью четко, не вызывающим сомнения образом различать добро и зло. Она, эта готовность, – в знаменитых формулах времен сталинского правления: «Кто не с нами, тот против нас» и «Если враг не сдается, его уничтожают», которые внесли в насущнейший вопрос столь желанную ясность.
Теперь снова о советской номенклатуре. Большевики, два десятилетия только и искавшие путей, как свергнуть романовскую монархию, в конце концов её свергнувшие, лучше других видели слабые стороны империи. Первое, что бросалось в глаза: цари, дав свободу, безвольно и бездарно распустили дворянство, которое по самой своей сути должно было им служить не на живот, а на смерть. Поэтому служба советской номенклатуры сразу была выстроена на других основаниях. Начнем с того, что раз и навсегда была отменена, по мнению большевиков, первопричина всех бед самодержавия – грамота Екатерины Великой.
Новое дворянство, а следом в большей или меньшей части другие сословия Советской России были закрепощены: крестьян прикрепили к земле в совхозах и колхозах, рабочих на время войны (но и дальше сохранялись многие ограничения) – к заводам, фабрикам, шахтам. Там же, где и в этом случае обнаруживалась недостача работников, как грибы росли лагерные зоны и проблему нехватки рабочих рук решало уже НКВД.
Это закрепощение при жизни Сталина только нарастало. Первые послабления начались лишь при Хрущеве, когда заключенные сотен и тысяч лагерных зон вышли на свободу, ссыльным разрешили вернуться домой, а крестьяне впервые после коллективизации получили обычные гражданские паспорта. И надо сказать, что это закрепощение в общем и целом было принято страной с пониманием. Потому что власть, причем доходчиво, сумела объяснить всем и каждому, что грандиозность цели – построить коммунизм в одной отдельно взятой стране – и международная обстановка требуют беспримерного напряжения сил.
Теперь о втором, не менее важном, чем исключение из её контракта любых намеков на вольности и свободы преимуществе новой советской номенклатуры. Дореволюционное русское дворянство отличалось немалой широтой взглядов, но за многие века своей близости к власти так и не сумело найти для России надежных, верных, главное, многочисленных союзников за пределами империи. Православных зарубежных славян вместе с тоже православными греками было явно недостаточно, чтобы сделать русского царя императором всего земного шара.
Конечно, у России было опытное дипломатическое ведомство и ей довольно легко в разное время и с разными государствами удавалось входить в коалицию. Но эти союзы решали ограниченные задачи (чаще другого – победа в войне), а так ни англичане, ни французы, ни немцы, ни окрепшие к XX веку американцы не были готовы пойти под высокую руку русского царя. По-видимому, по этой причине расширение империи и стало пробуксовывать.
Советская номенклатура с блеском решила возникшую проблему. Маркс вкупе с Коминтерном прямо в подоле принесли России более чем щедрое приданое – сотни миллионов, а то и миллиарды восторженных поклонников по всему миру.
Приятель недавно посмотрел документальный фильм о похоронах Брежнева и был ошарашен бесконечной чередой высокопоставленных правительственных делегаций (все страны ООН), партийных, национально-освободительных и прочих, и прочих движений, три четверти которых видели в Москве столицу того мира, о котором мечтали, за который, не жалея ни себя, ни других, были готовы сражаться и умирать.
Даже в «отъявленных» капиталистических странах наши верные друзья, подданные будущего всемирного государства – коммунисты и их родня по Марксу – социалисты на выборах редко когда набирали меньше 30–40 процентов голосов. Так что не случайно всю советскую эпоху империя росла как на дрожжах, территория же её врагов сокращалась, будто шагреневая кожа. В итоге к 1980 году, сферой нашего влияния сделались Восточная Европа, Восточная, Южная и Западная Азия, Африка, то есть прежние колонии Англии, Франции и Португалии, а также Латинская Америка, которую прежде контролировали Соединенные Штаты. Соответственно, каждый, кто во главу угла собственного понимания мира ставил расширение территории новой Земли Обетованной, не мог не признать, что советская номенклатура справляется с этим на «хорошо» и «отлично».
В качестве приварка к вышесказанному еще пара соображений. Люди, находящиеся на вершине власти, редко когда сами пашут землю, стоят у станка или гниют в окопах (власть даже приводить в исполнение высшую меру социальной защиты, то есть расстреливать своих врагов подчас брезгует), оттого ей и необходимы так называемые «приводные ремни». Во времена правления коммунистов главным из них считалась партия, но был и другой, не менее важный – кадровики.
Ясно, что верховная власть любит и всегда будет любить тайну, секретность, но она нуждается и в том, чтобы подчиненные с полуслова понимали, кого в данный момент следует пустить в расход, а кого пришел черед холить, нежить и лелеять. Без этого понимания вся машина госуправления завязнет в болоте. В поздней романовской империи статус тельца без страха и упрека имели православные христиане из русских, а после революции таким тельцом был объявлен пролетариат и его спутник – беднейшее крестьянство. В ранге единственного избранного народа рабочие с крестьянами пребывали примерно лет десять – пятнадцать.
А дальше Сталин напомнил стране слова Ленина, сказанные им еще в революцию 1905 года, о том, что центр мирового революционного движения переместился в Россию. Само соседство в одной фразе России и революции стало высочайшим указом о начале скрещивания двух избранных народов – бывшего (русских) и нынешнего (рабочих и крестьян). На практике новый этногенез был поручен искуснейшим машинистам социальных лифтов – кадровикам. Под их надзором уже к середине Отечественной войны русские – как во времена оны пришлых варягов – поглотили пролетариат, а затем и без следа его ассимилировали.
И другая, не менее известная сентенция Сталина, утверждавшая, что по мере продвижения к социализму классовая борьба лишь обостряется. Эти слова не только стали основанием для бессчетного числа смертных приговоров и огромных лагерных сроков для миллионов других наших сограждан, но и свидетельствовали, что, с точки зрения высшей власти, обещанный прежде и столь давно и мучительно всеми нами ожидаемый конец истории откладывается. Напротив – её ожесточение и дальше будет лишь нарастать.
«Я прожил жизнь…»

Первая публикация в сб. «Большая книга победителей». – М., 2015.
Последнее эссе этой книги посвящено писателю, без и вне которого мы, как мне кажется, никогда не поймем наш ХХ век.
Десять лет назад группой любителей нашей словесности была учреждена премия «Большая книга», с тех пор ставшая самой авторитетной литературной премией страны. Без сомнения, «Большая книга» родилась из понимания литературы, всего её поля как единого пространства, где на равных живут, влияют, прорастая друг в друга, художественная проза и документальная, включая дневники, воспоминания и прочие производные того, что теперь принято называть нон-фикшн. Книги, попавшие в шорт-листы и премированные за эти годы, ясное свидетельство, что такой взгляд на литературу верен.
В юбилейном сборнике «Большой книги» я посчитал себя вправе вернуться к разговору об Андрее Платонове, возможно, самом важном для меня писателе.
Говорить об одной любимой книге трудно, но я могу назвать писателя, который стал для меня в жизни главным. Это Андрей Платонович Платонов (1899–1951). Его роман «Чевенгур» и повести «Котлован» и «Джан» не просто поразили меня. Должен сказать, что на всю первую половину русского ХХ века я давно уже смотрю через Платонова и понимаю её во многом благодаря ему.
Платонов впервые попал мне в руки, кажется, в шестьдесят седьмом году. Отцу на день рождения подарили слепую копию «Котлована», я, пятнадцатилетний, прочитал её и до сих пор помню свое тогдашнее ощущение от повести, тем более что в последствии оно изменилось не сильно. К тому времени через наш дом прошло немало всякого рода самиздата, советскую власть я давно на дух не принимал, и все равно эта вещь показалась мне тем окончательным, не подлежащим обжалованию приговором, которые власть сама так любила.
Я, как и другие, не мог простить советской власти миллионы расстрелянных и погибших в лагерях, в том числе две трети моей собственной семьи, вездесущую фальшь и бездарность. Ко всему прочему эта власть была мне настолько неинтересна, что я даже не понимал, что и кому может быть в ней любопытно. Она казалась мне удивительно холодной, без свойств, без признаков, без эмоций. Некий груз, который давит тебя и давит.
И вдруг я прочитал вещь человека, для которого это было не так, для которого все в этой власти было тепло, все задевало, трогало, заставляло страдать, а её самые малые удачи вызывали восторг. Платонов – это было ясно – очень долго ей верил, еще дольше пытался верить и был готов работать для нее денно и нощно.
То есть, он во всех отношениях был мне не пара, для него эта власть была своей (или он безумно мечтал, чтобы она для него своей стала), – и вот он выносил ей приговор, причем такой, с каким я еще не сталкивался, потому что более страшной, более антисоветской рукописи мне читать не приходилось.
Здесь я попытаюсь свести в некую систему впечатления от прозы Платонова. Вообще мне кажется, что на революцию с самого начала было два легко различимых взгляда, и суть не в том, что одни смотрели на нее с полным сочувствием, а другие – с ненавистью. Просто один взгляд был внешний, сторонний. У хороших писателей он мог быть очень точным, очень жестким, резким: со стороны многое вообще видно яснее и понятнее. Но в стороннем взгляде всегда доминанта силы, яркости: глаз мгновенно ловит и выделяет контрасты. Этот взгляд полон романтики и, в первую очередь, он видит в революции начало одного и конец другого. Вся та сложнейшая паутина цивилизации, все правила, условности, этикет – разом рухнули, и мир вдруг, в одно мгновение стал принадлежать первобытным героям, вернулся в состояние дикости, варварства и удали.
Тех, кто смотрел со стороны, было очень много, потому что большинство пишущих выросли в старой культуре, любили её и ценили. Теперь, когда она была разрушена, они честно пытались понять, что идет ей на смену, но им это было тяжело. Платонов же мне представляется писателем, едва ли не единственным, кто и видел, и знал, и понимал революцию изнутри. Изнутри же все было другим.
Мне кажется, что для Платонова очевидной была связь революционного понимания мира с изначально христианской, но давно уже собственно русской эсхатологической традицией, с самыми разными сектами, которых во второй половине XIX – начале XX веков было в стране великое множество. Члены этих сект тоже со дня на день ожидали конца старого мира, верили в него, как могли его торопили.
Они ждали прихода Христа и начала нового мира. И это начало было связано для них не просто с отказом от прошлой жизни, но с отказом от тела, от плоти – главных хранителей грязи, греха, похоти, главных искусителей, не дающих человеку исправиться и начать жить праведно, в соответствии с Божьими заветами.
Сектанты в зависимости от того учения, которое они исповедовали, старательно умерщвляли свою плоть, чтобы духа, чистоты, святости в них становилось больше, а плоти – этих вериг, которые тянут человека в грех, на дно, в ад, – меньше. И вот герои Платонова, будь то в «Чевенгуре» или «Котловане», как и вся Россия времени революции и Гражданской войны, идут по этому пути. Пока сильные, бесстрашные герои – белые – сражаются с сильными, бесстрашными героями – красными, – не жалея ни своей, ни чужой жизни, в остальной России с каждым днем становится неизмеримо больше духа; он виден сквозь совсем разреженную плоть людей, которые едва-едва не умирают от голода, от тифа или холеры.
Эти люди, если говорить об их плоти, бесконечно слабы, они все время колеблются, томятся и никак не могут решить – жить им или умереть. Их манят два совсем похожих (и от этого так труден выбор) светлых царства: одно привычное – рай, другое – обещанное здесь, на земле, – коммунизм. В общем, им все равно, их даже не очень волнует, воскреснут они только в духе или во плоти тоже, потому что большую часть пути в отказе от плоти, от своего тела они уже прошли и о том времени, когда именно тело правило ими, вспоминают безо всякой нежности.
Мне кажется, что для огромной части России это очищение через страдания, через многолетний жесточайший голод – вынужденный пост – могло казаться и казалось тем, о чем люди веками молились, понимая, что без этого спасение невозможно. Платонов так своих героев и пишет. Когда я его читаю, у меня все время есть чисто физическое ощущение, что он боится их брать, трогать по той же самой причине: плоть их настолько тонка, ветха и они так слабы, что ненароком беря можно их повредить, поранить.
И другое ощущение: какой-то невозможной стеснительности и стыдливости, потому что та самая душа человека, которая в обычное время спрятана за толстым и прочным слоем плоти, здесь почти обнажена и ты стесняешься на это смотреть. Ты никак не можешь понять, имеешь ли вообще право это видеть, потому что привык, что её видит, знает, судит только Высшая Сила, и то – когда человек уже умер и его душа отлетела к Богу, предстала перед Его судом.
Во всем этом есть нарушение естественного хода жизни, её правил, всего её порядка. Человек, пришедший из прошлой жизни, обнаруживает, что все навыки, которые он оттуда принес, здесь не пригодны. Это явно страна людей, которые уже изготовились к смерти и которые её совсем не боятся. И их долго, очень долго надо будет уговаривать жить. Хотя бы попробовать жить.
Про жизнь они знают, что она есть страдание и мука. Смерть же, наоборот, – отдых и избавление. Они голодны, но мало вспоминают еду, потому что успели привыкнуть к тому, что её или нет, или есть неимоверные крохи. Еду в том, что писал Платонов, заменяет тепло. Все-таки тепло они ценят. Это и понятно: плоть редка и прозрачна, и люди все время мерзнут. Но и это тепло чаще не от еды, а от умирающих, сгорающих рядом в тифозной горячке.
Те «пророки», которые агитируют, убеждают эту изготовившуюся к смерти страну жить, полны веры, и за ними в конце концов пойдут. Мы же, родившиеся позже, в свою очередь знаем, что страна будет ими обманута. Здесь, мне кажется, уместно небольшое замечание исторического характера.
Очень многие у нас в стране до сих пор настаивают, что победа большевиков в 1917-м году абсолютно ни из чего не вытекала, что это заговор или безумная случайность, наваждение, мистика, – то есть вещь, никакими здравыми суждениями не объяснимая. Я так не думаю. По-моему, революция стала возможна как раз потому, что огромное число самых разных людей, партий, религиозных групп страстно ждали её.
Эти силы часто ничего друг о друге не знали и друг другом не интересовались, но в самых важных вещах они были близки, и их совместные усилия в феврале 1917 года довольно легко свалили монархию. Всем им тот режим, да и вообще жизнь, которой они жили, представлялась бесконечным злом, царством антихриста, которое должно быть свергнуто, невзирая ни на какие жертвы.
Кто же они были и откуда начались, пошли все эти идеи, настроения? Почему страна так легко и резко свернула с прежней дороги? Начнем с нескольких общих и, в сущности, боковых соображений о людях, которые и составили то, что по справедливости следует назвать «народом Андрея Платонова».
Есть такая замечательная дисциплина «топонимика» – наука о географических названиях – и вот из нее следует, что сплошь и рядом имена городов и рек, гор и даже стран живут многие сотни, даже тысячи лет, а от людей, которые дали эти имена, которые пахали и защищали эту землю, возводили на ней дома и прокладывали дороги, главное – которые в ней любили и рожали детей, думали о мироздании и молились Богу, – от них не остается ничего. Лишь археологи, перелопатив тонны и тонны грунта, находят скудные доказательства, что люди эти не были ни фантомами, ни миражами, а в самом деле здесь некогда обитали. На сей счет есть две мрачные сентенции. Первая: «Поле боя после битвы принадлежит мародерам», и вторая: «Палачи наследуют своим жертвам».
Литературоведение – наука об общем у писателей, и от этого никуда не деться. Как в анатомическом театре, едва врач вскроет труп человека, сразу делается видно, что по своему внутреннему устройству все мы разительно друг на друга похожи, так и в учебниках у всякого из нас – наборы одних и тех же жанров, приемов, методов и стилей. На самом деле каждый, конечно, понимает, что единственное, что в писателе интересно и стоит изучать, это непохожесть мира, который он пишет, на миры его собратьев; соответственно, и читать надо книги, а не учебники. Книги – вещь живая, именно жизнь со всем, что в ней есть, делает нас отличными друг от друга. Настоящий писатель – это «штучный товар» и никаким другим писателем он не может быть заменен. Если его изъять из литературы, как было с Андреем Платоновым: не издавать его рукописей, тем паче посадить в тюрьму или просто убить, место, которое должны были занять его книги (стихи, проза), так и останется пустым.
Все это я веду к тому, что, как показала история, даже люди, по внешности крепко стоящие на ногах, удивительно непрочны. Они легко уходят, покидают землю, на которой выросли, еще легче гибнут, умирают, а в их домах поселяются другие: в романе Андрея Платонова «Чевенгур» – это «прочие», которые о тех, кто жил здесь прежде, ничего и знать не хотят. В итоге ни в чьей памяти не остается ни единого следа. Хороший прозаик спасает от забвения целое племя, Платонов в повести «Джан» – целый народ, десятки, а то и сотни не типов, не персонажей, не каких-то условных и не очень понятных фигур, олицетворений того-то и того-то, а живых душ. Рассказ, повесть, роман – это всегда некий «Синодик опальных»: каждый писатель поминает тех, кого он любил, знал, а следом за ним их поминают его читатели, благодаря этому ушедшие так и останутся живыми, не сгинут в небытии.
В своих повестях и романах Платонов иногда пишет чужих, «прочих», пришлых – тех, кто, как кочевники древности, неведомо откуда пришли и скоро неведомо куда уйдут (в его прозе много бродяг, странников), но куда чаще его герои сплошь здешние. Тут они родились, в этой земле у них все корни, более того – ничего другого они никогда не видели и не знали. И вот однажды что-то происходит в их головах, в их душах, и они начинают видеть мир совсем не так, как прежде. Последнего достаточно, чтобы мир и в самом деле стал иным, чтобы все в нем в одночасье переменилось. Нередко так радикально, что добро вдруг начинает казаться злом и наоборот. Соответственно эти люди и ведут себя на страницах платоновской прозы.
Но суть меньше всего в том, сочувствует им автор или нет, не важно, и сколько в них силы, веры в свою правоту, – Платонов выбирает единственно тех, на чьих лицах есть то, что врачи называют «маской смерти». Писатель будто знает, что их понимание мира и они сами скоро погибнут, в лучшем случае без остатка растворятся в остальном народе, и Платонов плачет, оплакивает и их, и тех, кого они убили во имя своей правды. Он плачет обо всем том горе, которое они принесли и сами претерпели, об их надеждах, их упованиях и их заблуждениях.









































