Текст книги "Перекрестное опыление"
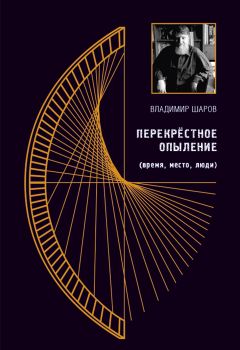
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Как я писал роман «Репетиции»

Первая публикация в альманахе «Текст и традиция» (под ред. Е.Водолазкина). Т.3. – СПб.: Росток, 2015.
С Ленинградом и Петербургом связана и другая выстроившая жизнь история. Мой второй по счету роман «Репетиции» в 1989 году, то есть вскоре после написания, попал в руки Самуила Ароновича Лурье, заведовавшего отделом прозы в журнале «Нева», и для меня огромная честь, что он повторял и всегда гордился, что открыл «Репетиции». Саша Лурье был не только первоклассным редактором, в девяностые и дальше годы он под фамилией матери – Гедройц – урожденной литовской княжны, был в нашей литературе, наверное, самым ярким, остроумным и язвительным критиком.
Его статьи, рецензии и эссе тех лет собраны в полутора десятке книг (часть из них в своем «Пушкинском фонде» издал Гек Комаров, о котором выше шла речь). А уже в последние годы, очень для Лурье нелегкие – у него была тяжелая онкология, которая, в конце концов и свела Сашу в могилу – опубликовал книгу «Сломанный аршин» – блистательное исследование об известном историке и литераторе первой половины XIX века Николае Полевом, о журнале «Московский Телеграф» и о всем том времени, которое мы теперь зовем пушкинским.
«Репетиции», как и другой роман «След в след», я достал с антресолей, пустил гулять по рукам на исходе 80-х годов, но опубликованы они были: «След в след» в Екатеринбурге в журнале «Урал» в девяносто первом году, а «Репетиции» у Лурье в «Неве» в девяносто втором. Эти две публикации, как и работа над романом «До и во время», сами собой так переплелись, что мне и сейчас трудно их разделить.
Начну по порядку. «След в след» были готовы печатать и московские журналы, в частности, «Знамя», но без исторического трактата, который стилистически рвал текст на части. А я упирался, был уверен, что эта нежданная оттепель ненадолго, скоро окошечко захлопнется, значит, возможность печатать все целокупно упускать нельзя. Сразу, как есть, опубликовать «След в след» был согласен только «Урал», и я не колеблясь отдал ему роман.
Кстати, пока пуповина не перерезана, ты, конечно, мало что понимаешь, любому литератору необходим сторонний взгляд и время, чтобы хоть на несколько метров отойти от написанного. Находясь внутри текста, многие вещи и не видишь, и не слышишь. Оттого в издательствах я давно печатаю роман в том виде, который когда-то предлагало мне «Знамя». Но и об уральской публикации совсем не жалею, тем более что телеграмма из Екатеринбурга, где было сказано, что типография доставила третий, заключительный, номер со «Следом в след», пришла как раз 19 августа, и к Белому дому я шел со спокойной душой. Понимал, что мое жизненное предназначение выполнено, на дальнейшее я могу смотреть философски.
Там же, в Екатеринбурге, после «Следа в след» в одном небольшом издательстве – они тогда росли как грибы – люди были убеждены, что, даже если все рухнет, книжное дело будет цвести и пахнуть, набрали и сделали пробные оттиски «Репетиций». Однако с тиражом продолжали кротко ждать – в договоре был пункт, что сначала роман должен выйти в «Неве». Но в Петербурге дело тянулось, тянулось и, кажется, завязло надолго. Как Лурье ни пытался поставить роман в очередной номер, главный редактор Никольский переносил публикацию. Вряд ли он читал роман, но чувствовал, что во всей этой истории может быть какой-то нехороший для него подвох. Ситуация клонилась то в одну сторону, то в другую, и он считал, что пока ветер не установился, спешить не стоит. Тем более что в то время, кроме своего редакторства в Петербурге, Никольский в Москве возглавлял комитет по международным делам Госдумы и, по слухам, метил на пост министра иностранных дел. Ясно, что при таком раскладе делать резких шагов не стоило.
В Москве Никольский жил и занимался государственными делами в одноименной гостинице «Москва» – то есть прямо напротив Госдумы. Огромный, хотя и слегка потрепанный номер – ремонт в этой главной столичной гостинице не делался уже лет двадцать. Он звонил и звал обсудить какой-то ерундовый вопрос, связанный с публикацией. Я ехал. Дальше был чай с печеньем и все крепнущее ощущение, что роман никоим боком его не интересует. Он просто пытается понять, будут от меня неприятности или не будут. А если все же будут, то насколько серьезные. О литературе мы говорили немного, она мало его занимала, разговор обычно вертелся вокруг мировой политики. В итоге роман вышел только в девяносто втором году, когда была уже совсем другая Дума и надежды на министерство растаяли.
Эти встречи с Никольским в гостинице «Москва» и обсуждение мировой политики имели одно странное последствие. В девяносто первом году весной я решил, что раз работа над новой вещью все равно застопорилась, и, похоже, надолго, самое время съездить в Израиль, где к тому времени осели многие старые друзья. Проблема была в билете. Очередь в Международные кассы на Фрунзенской (летали тогда с пересадкой на Кипре) была чуть не на неделю, и отмечаться с обязательным номером на ладони надо было по несколько раз на дню. На такие подвиги я был не готов.
А тут вдруг началась первая иракская война. По образованию я историк и, что бы ни говорил Никольский, понимал, что подобные войны долго не длятся. Но Саддам Хусейн, грозивший химическим, бактериологическим и еще бог знает каким оружием стереть Израиль и Америку с лица земли, всех напугал, и я, случайно проходя по Фрунзенской, обнаружил, что в кассовом зале шаром покати. Никого, кроме одиноких и совсем грустных кассирш за стеклом. Искушение оказалось слишком велико. Я съездил домой, взял давно отложенные на поездку деньги и уже через час расплачивался за билеты. Впрочем, воспользоваться этим своим предвиденьем, помноженным на прохиндейство, мне была не судьба.
Лететь надо было через месяц на майские праздники. В связи с полной изношенностью гардероба экипировался я по моде тех лет. Спортивные штаны с лампасами и для багажа две красные, тоже спортивные, сумки – и то и то куплено в последнем московском магазине, где еще хоть что-то было – Военторге на Новом Арбате. Своих вещей у меня было немного – смена белья и кусок рыночного говяжьего языка с пятью помидорами, чтобы, не расходуя валюту, перекусить на Кипре. А так сумки, по просьбе здешних и тамошних друзей, были под завязку забиты учебниками и задачниками по математике, которые следовало передать по адресу. Тяжесть в итоге получилась такая, что ручки начали рваться, едва мы вышли из дома, но до Шереметьево с помощью трех сопровождающих я все же добрался.
У аэропортовских таможенников мой груз не вызвал никакого интереса, я даже расслабился, но, как скоро выяснилось, радоваться было рано. Проблемы начались на паспортном контроле. Выяснилось, что дипломатические переговоры с Никольским в гостинице «Москва» настолько задурили мне голову, что я даже забыл проверить, когда истекает моя израильская виза. А она, милая, кончила действовать в аккурат неделю назад.
Пограничники сочувствовали мне на полную катушку, они даже попытались разыскать израильского консула, который мог бы её продлить, но фарта не было – консул полчаса как уехал домой. Все-таки я надеялся, что мне дадут сесть на самолет, но киприоты за таких, как я, «беззаконных», штрафовали «Аэрофлот» на две тысячи баксов. По этой причине, хотя и с бездной всеобщих извинений, граница оказалась для меня на замке.
В общем, жульнический билет накрылся медным тазом. Я вернулся домой с теми же провожатыми и с теми же порванными сумками, с говяжьим языком и помидорами. Достал из заначки три бутылки коньяка – неприкосновенный запас, который хранил со времен последней кампании по борьбе с пьянством. Все это мы съели и выпили, а на следующий день вдруг пошла работа. Каждое утро я пробирался к столу, перешагивая через немой укор красных сумок с задачниками и писал свое «До и во время» с удовольствием, о котором уже не мечтал.
Разговор о «Репетициях», мне кажется, правильно продолжить рассказом о том, из чего вообще вылупился этот роман. Материал был написан для «Ежегодника Пушкинского дома» по просьбе очень мной любимого прозаика Евгения Водолазкина, написан совсем недавно, то есть тридцать лет спустя после самого романа.
Речь здесь пойдет не о бессчетное число раз цитированных строках Анны Андреевны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора/Растут стихи, не ведая стыда», а о редкой, во всяком случае в художественной литературе, возможности поблагодарить людей, без которых этого романа или вообще не было, или он был бы совсем другим. В научной литературе такая благодарность в порядке вещей. Чуть не каждая монография начинается и кончается длинным списком тех, кто так или иначе помогал тебе в работе. Когда же речь идет о прозе, у нас в России это не принято и выглядит отчасти экзотически.
Как любой другой работе, «Репетициям» предшествовала цепь важных для меня, хотя и мало связанных событий. Потом так или иначе они, страница за страницей, выстроят, разметят весь путь.
Дело началось еще в 1982 году, когда отец под моим давлением – он не любил частную собственность ни в каком виде – записался на шестисотковый участок, который давали писателям около Истринского водохранилища, рядом с деревней Алехново. Литфонду была отведена пара сотен гектаров обмелевшего болота.
В низине били многочисленные подземные ключи, их любым способом необходимо было забетонировать. Решивший сэкономить, обойтись без этого, скоро понимал, что дом на песке – это еще детские штучки по сравнению с домом на воде. Родники с необыкновенной резвостью вымывали грунт, по большей части глину, из-под фундамента, после чего наши ревнивые, но мелкотравчатые сооружения разом начинали походить на незаконных отпрысков Пизанской башни. Десяток из них завалился на бок, два – так и вовсе утонули.
Получив участок, мы года три ничего не делали. Не было ни денег, ни желания. Наконец впряглись, но и тут без особого успеха. Хотя под нами никакой ключ, к счастью, не обнаружился, дело шло вяло. Бригада, которую мы наняли, халтурила по-черному.
Известно, что в средней полосе грунт зимой промерзает, а летом оттаивает и надо дойти до слоя, до которого мороз уже не достает. Но наш фундамент был вкопан всего на треть нужной глубины. Вдобавок он и по ширине везде «гулял» самым неприличным образом. По этой или по какой другой причине мы разругались, и бригада, чтобы наказать нас, свалила вагонку в лужу и уехала отдыхать на юг.
И сам, и семья с ужасом вспоминаем, что я тогда всё время находился в каком-то неприятном, муторном состоянии, в странном нервном и неровном возбуждении, из которого не мог выйти. Даже не понимал, откуда оно взялось и есть ли вообще этот выход. Приближалась зима, и с нашим загородным имением, или моей собственной «отходной пустынью», был полный швах.
Конечно, мне надоело постоянное место моей дислокации – поворот с Волоколамки на Бужарово (прямо над головой на отвесном холме, весь из белого камня, Новый Иерусалим). Я был там почти каждый день с утра до поздних сумерек, когда под дождем, когда под мокрым снегом. Здесь я ловил самосвалы с песком и гравием: участок необходимо было поднять, иначе весной он весь окажется под водой. Надоело уже второй месяц ждать давно оплаченные три кубометра половой доски и всё яснее понимать, что нет, мне её не привезут: как и других, меня кинули, взяли деньги и – поминай как звали.
И все-таки со мной было что-то другое, если и связанное со строительными неурядицами, то в малой части. Сейчас, отойдя от этой истории на тридцать с лишним лет, я склонен считать, что тогда был, что называется, на сносях, но не рискнул бы утверждать, что сумею, что у меня хватит пороху разродиться.
По-видимому, любой роман любого автора, как бы ни было печально то, что в нем происходит, сам по себе все-таки есть выход – верное свидетельство самой его возможности. Так маешься и маешься, бродишь, бродишь без смысла и толку, а тут тебе вдруг указывают путь и даже подталкивают в нужную сторону, чтобы не усомнился.
Здесь небольшое отступление. По образованию я историк, делал диссертацию по второй половине XVI – началу XVII веков, то есть по опричнине и Смутному времени. Патриархом Никоном, во всяком случае пристально, прежде не интересовался. Двенадцать лет Смуты, когда все, от первого до последнего, бессчетное число раз продавали, предавали друг друга, прошлись по русской истории огнем и мечом, и я понимал, что страна, которая вышла из Смуты, была совсем не той, что в нее вошла. Поэтому, если и был склонен куда-то идти, то уж точно не в романовскую сторону. Но не то чтобы я вовсе ничего не слышал о Никоне.
В местном музее работала и водила экскурсии одна моя знакомая по историко-архивному институту. Несколько раз хорошими летними днями мы с ней гуляли по здешним окрестностям, так что я знал, что во время войны что мы, что немцы через проемы купола корректировали артиллерийский огонь. В итоге к 1943 году лавра была разрушена почти подчистую.
Дальше её начали реставрировать и вот уже сорок лет не умеют остановиться. Работают наобум. Даже не могут решить, в каком виде восстанавливать: в изначальном, как возвел Никон, или же вернуть лавре тот вид, какой она имела с середины XVIII века, когда её перестроили по проекту Растрелли. В любом случае, выбирают самый дешевый вариант, но и его не оканчивают. То ли деньги отпускаются в обрез, то ли их снова опять разворовывают. Так или иначе, проемы в куполе, через которые корректировали огонь, забивают фанерками, после чего на несколько лет о Новом Иерусалиме забывают.
Конечно, я знал и то, что лавра – это далеко зашедшая попытка во всех деталях повторить храм Гроба Господня в Иерусалиме. И сейчас помню – хотя за давностью лет что-то, наверное, и перевираю, – как моя знакомая рассказывала, что иеромонах Арсений Суханов, который по указанию Никона ездил в Иерусалим и снимал план Храма Гроба Господня, скопировал – естественно, не понимая ни их смысла, ни времени, когда они были оставлены, – даже бранные арабские надписи. И всё это сделалось не просто архитектурными изысками: что Никон, что люди, которые его окружали, были убеждены, что Христос явится на землю и спасет Свой Избранный народ, только если будет сохранена и самая маленькая черточка подлинного Храма Гроба Господня, только если Спаситель признает его.
И вот я ловлю злосчастные машины с гравием прямо под холмом, на северную сторону которого, превращая эту землю в Землю Обетованную, а здешний народ в Избранный народ Божий – скептик скажет, что просто ища сходства, или, уж совсем утилитарно, поднимая холм, – месяц за месяцем тысячи крестьян бессчетными возами сваливали песок. Тут же, внизу, другие тысячи рыли канал, выправляя русло реки, и всё это не просто так: прямо здесь, на этой земле и своими руками (обе эти темы наша история потом будет проигрывать раз за разом) возводился Святой град – Небесный Иерусалим. То есть и ты не где-нибудь, а именно на настоящей Святой земле строишь свой хилый садовый домик, строишь там, где кто-то другой тремя веками ранее возводил Град Божий – спасительный город-храм – и, в отличие от тебя, в своих трудах преуспел.
Я вспоминаю, как мне рассказывалось, что и в себе самом Никон прозревал и Христа, и первочеловека Адама, и нового властителя Иерусалимского королевства. Вспоминаю, как водили по примыкающему с тыльной стороны к лавре Гефсиманскому саду, где патриарх поставил себе Отходную пустынь, личный скит. Маленькая церковка, сложенная на искусственном островке посреди специально вырытой протоки. В ней одна-единственная келья, в которой помещается только одно каменное сиденье. По-видимому, именно сюда Никон удалялся помолиться и подумать обо всем вышесказанном, главное же – о том, что нас ждет в недалеком будущем. Голосуя грузовикам, я вспоминаю это, и мне всё труднее избавиться от вещей, которые принять в себя я пока не готов.
Хотя, в общем, у меня нет возражений и я согласен, чтобы Истра, изгибающаяся лукой за моей спиной, была Иорданом, а ручей, бегущий тут же рядом, Хевроном. Готов звать поместившийся между ними и их разделивший холм Сионским, а другой, поменьше и чуть на восток – Елеоном. Дальше, на север, уже за рекой – гора Фавор. Я помню, что на Елеонском холме был установлен поклонный крест как знак места вознесения Христа.
Село Чернево неподалеку от нынешнего Красногорска при Никоне звалось Назаретом, а в селе Сафатове-Воскресенском должен был быть построен женский монастырь Вифания с церковью Входа Господня в Иерусалим. Зиновьевскую пустошь переименовали в Капернаум. Впрочем, некоторые названия менять не стали: например, находящийся к югу от лавры Ильинский погост – самое старое поселение в этих краях – сохранило свое имя, потому что точно так же, на юг от Иерусалима, располагался монастырь пророка Илии.
Я знал, что царь Алексей Михайлович поначалу приезжал на строительство и, казалось, его одобрял. В память об одном из этих посещений на оборотной стороне поклонного креста даже была выбита надпись. Но дальше между царем и патриархом произошел разлад (поругались и подрались их служилые люди), и в 1666 году, когда вся православная Русь готовилась к концу света, Никон был низложен с патриаршего престола. А его любимое детище – Новый Иерусалим – из места, где должно было начаться воскресение праведных, стало главным обличителем патриарха.
В грамоте, подписанной участниками Большого Московского собора и иерархами греческих поместных церквей, говорилось, что Никон виновен в том, что строит новые монастыри, где всё называет «неподобающими словами»: Новым Иерусалимом, Голгофою, Иорданом и другими, тем самым «ругается божественным и глумится святым».
Тут немаловажно и другое обстоятельство: Никон завещал похоронить себя в Воскресенском соборе, в приделе Усекновения главы Иоанна Предтечи, который расположен как раз под Голгофой. По преданию, именно под иерусалимской Голгофой была положена голова первочеловека Адама. В настоящем храме Гроба Господня в этом месте захоронены первосвященник Мельхиседек и Иерусалимские короли.
Возвращаясь к себе, скажу, что состояние, когда я не понимал, как со всем этим быть, длилось довольно долго, а потом две, почти совпавшие во времени, истории, будто сговорившись, завизировали путь, которым в итоге пошло дело.
Уже на исходе октября в дождливый и совсем холодный день я, без толку промаявшись в Алехново почти до ночи, вернулся в Москву и, не заходя домой, поехал, благо это было недалеко, к моему другу Саше Горелику. У него был, что называется, открытый дом. Здесь пили, обменивались книжками и флиртовали, играли в бридж и в шахматы, но усерднее другого трепались обо всём на свете, от политики до квантовой физики. По субботам это разбавлялось футболом и баней.
И вот я, мокрый, грязный, вхожу в дом, раздеваюсь и, сев за стол, хочу пожаловаться, потому что затея со строительством дачи давно кажется безнадежной: скоро зима, вагонка в луже через неделю-другую начнет гнить. В общем, чего ради я в это ввязался – никто не знает. Кухня, в которой сидят, маленькая, тесная; чтобы дать мне место, все долго двигаются. И вот, я просто хочу поплакаться в жилетку, но мне мешают, говорят: «Потом поплачешься, сначала выпей». Я выпиваю. Мы обсуждаем еще Бог знает какие сюжеты, но так всё складывается, что опять делается себя жалко. Но меня и тут стреножат: «Какие вопросы? Конечно, жалуйся. Но сначала еще выпей». И так раз за разом: сначала пей, потом – сыграй с нами пару робберов. В итоге пожаловаться мне дали только под утро, когда и куража не осталось, дело виделось не таким уж загубленным. Скоро мы разъехались.
Компания была разношерстная, но все-таки по большей части состояла из физиков и математиков. Людей с правильными руками, опытных шабашников. Надо сказать, что мы и раньше друг другу помогали. Кого-то перевозили, другому – рыли и бетонировали. Но всё по мелочам. А тут – разговор был в субботу – в понедельник, ни слова не говоря, они всемером, взяв на работе отгулы, приехали в Алехново и за три дня мне этот несчастный дом с начала и до конца сложили. Я даже гвоздя не забил. Отвечал только за выпивку (как сейчас помню, в магазине неподалеку было много хорошего кубинского рома), а жена – за бутерброды.
В общем, дом подвели под крышу – и об этой проблеме можно было забыть. У меня появилось время для других занятий. Надо сказать, что на тот момент я почти год тунеядствовал. Не лучший статус в благословенное андроповское правление. А история этих моих вольных хлебов следующая.
До восемьдесят пятого года я работал в весьма странной конторе, которая называлась ВНИИДАД – Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела. Кто и что там делал, не очень ясно. Но сектор археографии – возглавлял его Олег Федорович Козлов, – в который мне повезло попасть, отличался людьми исключительной порядочности.
У Козлова я был на особом положении. В археографии я понимал немного, и обычно мне давалась работа, которую классические гуманитарии старательно избегают. Я имею в виду всё, связанное с математикой. А математики – как правило, довольно простой – было немало.
Сложилась даже своя такса. Я брал работу, писал необходимые формулы и делал необходимые вычисления, а за это, в зависимости от важности, сложности и, главное, срочности задания – величину всех параметров определял Козлов, – получал отгулы. После чего был волен как ветер. Время, что я отсутствовал, в секторе меня благополучно прикрывали. Такая система существовала несколько лет и всех устраивала. Но, пока я был в аспирантуре, назначили нового директора, который ни от кого не скрывал, что я ему очень не нравлюсь. В общем, по всему было видно, что скоро меня ждет какая-то пакость. Впрочем, я не печалился – сам давно хотел уволиться.
Тут еще надо сказать, что Олег Федорович был человеком умным, очень тонким, но с начальством довольно робким. Причина простая. Если я был готов без раскачки идти на все четыре стороны, то ему податься было некуда. Он привык каждый день ходить на службу и говорил мне, что без этого ему свою жизнь не организовать и не выстроить. Вдобавок, он, известный ученый-археограф, отчаянно боялся, что, если его вынудят уйти из ВНИИДАДа, другой подходящей работы он не найдет.
Между тем, в очередной раз получив вожделенные отгулы, я уехал к семейству, которое жило тогда в Эстонии, в городе Отепя, на озере Пюхаярве (к слову, это как раз то место, где тартуская школа проводила свои первые семинары по структурной лингвистике), и, только вернувшись, узнал, что, пока вояжировал, произошло много всякого разного и теперь меня с треском выгоняют за прогулы. Козлов умыл руки, и получилась заурядная самоволка. История была не слишком красивой. В итоге мы с Олегом Федоровичем так по-настоящему и не попрощались.
Дальше прошел год или даже больше, и вот, когда моя истринская эпопея сама собой вдруг стала рассасываться, звонит Козлов и говорит: «Владимир Александрович, я бы очень хотел с Вами увидеться». – Я, еще помня обиду: «Олег Федорович, а Вы уверены, что в этом есть необходимость?» – Он: «Да, я бы очень Вас просил». Нам обоим удобен «Охотный ряд», мы договариваемся о времени, после чего сюжет делается почти шпионским.
Спускаясь по эскалатору от «Театральной», уже вижу, что он внизу. Я рад, что мы помирились, хочу ему это сказать, но не успеваю. Даже не поздоровавшись, он одним движением сует мне подмышку какую-то папку, стремительно бросается на перрон и, оттолкнув уже закрывающиеся двери, шмыгает в вагон. В некотором изумлении я с этой папкой возвращаюсь на «Театральную» и еду к себе на «Аэропорт». Только дома, развязав тесемочки, вдруг понимаю, что по всему выходит, что выбор пал на меня, и Козлов определился с наследником и правопреемником в своем интересе к расколу.
Олег Федорович давно мечтал написать докторскую диссертацию о расколе, но однажды понял, что сил на эту работу у него не хватит, и вот решил передать мне папку с собранной библиографией. Много сотен библиотечных карточек, иногда даже с краткими аннотациями. Что-то явно прочитанное, другое – нет. Избавившись от строительной нервотрепки, я тогда снова почти каждый день ходил в Историчку, и так получилось, что стал выписывать книги из козловской папки. Читал их одну за другой.
До той поры я не мог в себя вместить ничего, связанного с Новым Иерусалимом и Святой Землей. Понимал, что не сумею это ни принять, ни переварить, оттого при первой возможности всё спускал на тормозах. Объяснял себе, что собор был простым макетом, имитацией, чем-то вроде Выставки достижений народного хозяйства или Диснейленда, в лучшем варианте – рождественскими яслями в каком-нибудь католическом храме. Иногда, совсем уж кощунствуя (всё равно не знаешь, что делать), – что это декорация к заморской оперной постановке с флорентийской виллой на заднике.
Так я успокаивал себя и успокаивал, пока однажды не понял, что зря стараюсь, что всё это уже в меня вошло. И дальше, хочу я этого или не хочу, дело будет идти так, будто ближний человек патриарха Всея Руси не поругался, не подрался самым подлым, самым непотребным образом с ближним человеком царя Всея Руси, и значит, надежда еще не потеряна.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































