Текст книги "Перекрестное опыление"
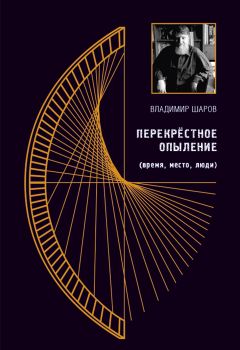
Автор книги: Владимир Шаров
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
Игорь Вулох

Первая публикация в кн. Владимир Шаров. «Рама воды». Стихи. – М.: АрсисБукс, 2016.
Учась в Воронежском университете, я начал писать стихи, и две идущих дальше зарисовки (предисловия, в которых они нуждаются, будут куда объемнее) связаны именно со стихами, правда, не только моими.
С Игорем Вулохом и его женой Наташей Охотой мы познакомились еще в 90-е годы. Игорь тогда уже тяжело пил, но работал с прежней истовостью, иногда по много дней не выходил из мастерской. Вообще в настоящих художниках много от монахов-подвижников, только инструментарий разный. У одних молитва, у других резец, шпатель и кисть, но и здесь и там – вечная борьба с материалом. С его несовершенством. Словно до тебя никого и ничего не было, а теперь отсчет начался. За жизнь – твои семь дней – из безвременья, из бездумной и мертвой глины или столь же мертвых пигментов ты должен сотворить – вдунуть в них душу – людей и мир, который будет выделен человеку в опричнину. Творение и есть твоя повинность, если ты справишься, выполнишь назначенный урок, это станет прощением не только для тебя самого.
Издательство, для которого я делаю эту книгу, пару лет назад захотело опубликовать и мой стихотворный сборник. Когда-то эти стихи печатались в хороших журналах, включая «Новый мир», но с тех пор, как я написал последнее, минуло почти сорок лет, а тут мне вдруг предложили посмотреть на них из времени, которое тогда я и представить себе не мог.
В Музее современного искусства, что на Петровке, как раз проходила огромная ретроспективная выставка Игоря (так уж получилось, что посмертная). Почти десяток залов с его работами от первых, еще фигуративных и вполне реалистических, до картин последних десятилетий, сделавших Вулоха одной из самых уважаемых фигур русского авангарда. Художником, работы которого выставляются в самых престижных галереях мира. Один из залов на этой выставке был отдан иллюстрациям, которые Игорь сделал для книг двух поэтов – Геннадия Айги и знаменитого шведского поэта Туманса Транстремера.
Выйдя из музея, я позвонил Наташе, которая не просто предоставила музею почти половину выставленных там работ, но и вместе с куратором решала все связанное с их развеской, то есть фактически делала эту выставку, чтобы её поблагодарить, в ответ услышал, что Игорю работа со стихами всякий раз доставляла много удовольствия и она была бы очень рада, если бы и мои стихи опубликовали вместе с работами Вулоха. Честно говоря, я всегда считал, что наша жизнь строится подобными совпадениями, подарками, которые сваливаются прямо тебе в руки. В общем, дело сладилось безо всяких усилий, и эссе, которое идет ниже, это как раз то, что я написал об Игоре Вулохе для книжки «Рама воды».
Замечательного художника Игоря Вулоха уже два года как нет на этом свете, и мне придется говорить за нас обоих. Очень надеюсь, что не скажу ничего такого, чего он бы не смог принять.
Без сомнения, есть люди, которым ты – на равных они тебе – назначен в собеседники. И вы только лучше понимаете друг друга от того, что язык, на котором работаете, на котором говорите с миром, разный.
Неровная, шероховатая фактура холста делается матрицей, на которой отпечатывается жизнь. Краски и кисть не просто переносят её на эту основу, не просто хранят наше текучее, по самой своей природе непрочное, изменчивое видение мироздания, – будто соперничая с Создателем, они всякий раз ваяют, творят его наново. И никто не сомневается в этом их праве, потому что жизнь не только такова, какой была, но и какой мы её сохраним, оставим другим.
Язык удивительно не точен, он принципиально условен и абстрактен, оттого небольшое камерное стихотворение, как и многоплановый, многонаселенный, словно город, роман, всегда есть объяснение и толкование одного-единственного слова. Только в таком, не признающем случайных связей и отношений соседстве смысл его делается ясным, прозрачным.
У художника другой инструментарий, но и тут мазки, положенные на холст, интенсивность или скупость их цвета и их игра со светом, их взаимное расположение друг к другу – тот же необходимый комментаий, без которого не сумеешь сказать, как ты видишь и понимаешь этот мир.
То есть художник идет совсем не тем путем, что ты, но эта во всех смыслах другая дорога приводит его туда же, будто искомый смысл находится в центре мироздания; вы оба – каждый из своего угла – к нему идете, оба его находите и тем утверждаете, свидетельствуете правоту друг друга.
Много лет назад я пытался написать в своих стихах бурые, обожженные палящим солнцем такыры Заунгусских Каракумов и бескрайние болота на стыке Тверской и Смоленской областей. Болота, по которым идешь, утопая в мягком, словно перина, мхе и опасливо обходя пятна топей. Предупреждая тебя, они отмечены непристойно яркой зеленью осоки. Болота, как ткань с искрой, испещрены желтой, красной и синей ягодой.
Будто вслед за Игорем Вулохом и его работами 60-х–70-х годов я писал перебегающие, переплетающиеся на оконном стекле струи дождя. И те же струи, ближе к зиме застывшие, сделавшиеся наледью, на композициях художника самозабвенно играются со светом, дают ему течь не только вверх и вниз, но и куда он хочет, в любую сторону. И все это Игорь, одевая работы, примеряя к ним будущие рамы, членит переплетами, двух– и трехчастными створками. Впрочем, они лишь намечены. Вулох и не думает, подстраиваясь под них, резать холст, потому что и Божий мир, каким мы его знаем, не начинается рамой и не кончается ею, а длится и длится. Господь обещал, что больше не будет насылать на нас воды потопа – и вот, держит слово.
О Геке Комарове

Первая публикация в юбилейном сборнике к 70-летию Геннадия Комарова «Танцы за плугом» – СПб.: издание журнала «Звезда», 2014.
Следующая зарисовка – о Геке Комарове. Для меня и она, и то, что написано о Вулохе, по многим причинам тесно связано. Вся эта история поначалу казалась совсем светлой, а потом в одночасье сделалась такой несправедливой и страшной, что и сейчас, почти через сорок лет, принять это не просто.
В конце 70-х годов образовалась большая и очень хорошая московско-питерская компания. При первой возможности (деньги на студенческий билет) мы ездили друг к другу на самом дешевом дневном сидячем поезде. Билеты стоили недорого, туда – обратно можно было доехать за три бутылки водки.
В Питере и в самую отвратительную погоду, то есть поздней осенью, зимой или ранней весной, когда ветер с залива, перемежая ледяной дождь со снегом, чуть не сдувает с тротуара, мы гуляли, трепались и радовались жизни. Чтобы согреться, существовали музеи, их мы чередовали с проспектами и набережными, которые в сущности были теми же музеями, только с экспонатами, которых, как и нас, выгнали из-под крыши на холод. К вечеру же собирались то в одной квартире, то в другой. Часто у Володи Дроздова, очень интересного поэта и токаря-фрезеровщика самого высокого, какой бывает, седьмого разряда, и там уже до середины ночи пили и читали друг другу стихи. Ко времени, когда разводили мосты, обычно оставались вчетвером. Володя Дроздов, Геннадий Федорович Комаров (Гек), замечательный питерский поэт, а потом и издатель поэтический серии «Пушкинский фонд» (которому, единственному, Иосиф Бродский разрешал печатать свои стихи в том порядке и в той связи друг с другом, как Гек считал правильным), физик и поэт Леша Романков и ваш покорный слуга.
Эти читки имели странное продолжение. Сначала меня позвали участвовать в семинаре молодых питерских поэтов, а потом руководительница поэтической студии при Ленинградском Кировском заводе сказала, что, если я пару раз в месяц смогу ездить с их заводской поэтической бригадой по райцентрам Ленинградской области, есть один занятный гамбит.
Дело в том, что через год заводу исполняется ровно сто лет. Советская власть любила юбилеи, дата была более чем круглой, и завод решили завалить подарками. Рабочим – премии, начальству – машины и квартиры, в общем, не забыли никого, даже поэтическую студию. Нам обещали короб или коробку (по-моему, так это и называлось), в которой каждый поэт получал тетрадку со своими стихами в двадцать четыре листка толщиной. То есть, что ни говори, настоящую собственную книжку. Морковка была сладкой, и я легко согласился, вместе с другими стал ездить из райцентра в райцентр.
И вот ближе к концу апреля мы оказались в городке, который назывался Невская Дубровка. Приехали во второй половине дня и, побросав в гостинице вещи, пошли в местный Дом культуры. Странное, все из себя какое-то долговязое здание, но с классическими колоннами и классическим же портиком, который терялся где-то в небесах. Народу в зале было немного, вряд ли сильно больше, чем выступающих, но мы не халтурили, читали стихи с чувством, с толком, с расстановкой, не скупясь вкладывали душу.
Когда закончил последний, ко мне подошел художник, который рисовал афишу для нашего вечера, на вид совсем мальчик, и сказал, что под сценой у него мастерская и есть разбавленный спирт. Идти одному было неудобно, он стал звать и других. Кормила город большая деревообрабатывающая фабрика, и спирта было вволю. Пошло еще человека три, остальные предпочли гостиницу. В мастерской Володя Алексеев поил нас почти до ночи. Я не один раз просил его показать собственные работы, но он отмахивался, говорил, что когда-нибудь в другой раз, и рассказывал о своем друге, тоже Володе, но Иванове, работы которого собирался повести нас смотреть завтра.
Невская Дубровка – страшное место. В войну здесь погибло несколько десятков тысяч солдат. Сама речушка – приток Невы – совсем не широка, форсировать её нетрудно, но дальше упираешься в крутые, почти отвесные, вдобавок скользкие от глины берега. Высота их метров двадцать, местами и больше. На них и так не взберешься, тем паче под плотным огнем.
Однако утром в апреле 1979 года все выглядело мирно и даже идиллически. Мы шли по кромке высокого берега, далеко внизу – щербатые, из нескольких досок, мостки и привязанные к колышкам плоскодонки. Иногда попадались положенные прямо на землю лестницы, по которым можно было спуститься к воде. А так будто стоишь на самой верхотуре, на коньке крыши, и смотришь на обмазанные черной глиной её скаты.
Но в музее было другое время. За стеклом – вырезанный из здешнего берега кубический метр земли, в котором железа было больше, чем глины. Из музея мы вышли часа в два. Ясный, не по-ленинградски солнечный день. Бараки вдоль центральной улицы аккуратно обшиты вагонкой и выкрашены в мягкие пастельные тона – желтый и бежевый, розоватый и сиреневый.
Володю Иванова мы легко опознали в первом же встреченном нами человеке. В протертом, прожженном до дыр пальто, он шел, так выбрасывая ноги, будто был на ходулях. Казалось, его ноги вообще не гнутся в коленях. Потом нам сказали, что это балетная выучка и прежде Иванов был танцором в Донецком театре.
Центральная часть города оборвалась через пару сотен метров. Дальше шел так называемый частный сектор. Старые, через одну покосившиеся избы, а под огороды – все та же черная глина, на которой, похоже, и летом ничего не росло. В одном из этих домишек Иванов снимал комнату, а стоящую по соседству баньку приспособил под мастерскую.
Нас было много, душ десять, не меньше. В мастерской и нам, и картинам сразу сделалось тесно, и Володя стал выносить работы во двор. Где ходили, была непролазная грязь, но через пару метров начинались грядки, с осени подготовленные под картошку. На улице было холодно, вода в канавках еще ночью замерзла. Русла белого сухого льда гляделись, как аккуратные полочки. Володя ставил картины на этот лед и опирал на грядки. Получалось не хуже, чем на мольберте. Он ставил работы и ставил, и мы вдруг начали понимать, что из этой гиблой, безжизненной земли, забыв про мороз и не обращая внимания на ничего не могущее согреть солнце, вдруг с какой-то нечеловеческой мощью распустился Райский сад.
Вряд ли Володя Иванов был самостоятельным мастером. Длинные модильяниевские шеи он на своих портретах перехватывал меховыми горжетками, которые, чтобы добавить им лоску и блеску, покрывал сделанными шпателем завитушками. Никакая растительность его не интересовала, нам были представлены только женские портреты. Но из бюстов и торсов, наполовину закутанных в темный шелк или в столь же темный панбархат эти самые шеи, а следом изящные женские головки в локонах и с огромными раскосыми глазами вырастали столь же естественно, как из земли, и ты ясно понимал, что творение могло быть и таким.
У Володи Иванова мы снова выпили и по дороге на станцию договорились с Алексеевым поехать в сентябре на Волгу. Он был родом из-под Саратова, говорил, что дальше, вниз по течению много длинных вытянутых, как коса, песчаных островов, некоторые поросшие лесом, там удобно разбить палатку, с утра до ночи ловить рыбу и плавать.
До середины июля мы, хоть и не обильно, переписывались, а в конце месяца позвонил Володя Иванов и сказал, что Алексеев погиб. Дом культуры был приработком, а так на жизнь они зарабатывали в пожарной части при фабрике. Техники безопасности никакой, и горела она регулярно. Особенно летом, когда высыхали окрестные леса и, чтобы все занялось, достаточно было окурка. Июльский пожар начался на свалке и уже оттуда перекинулся на склад древесно-стружечных плит. Когда пламя почти сбили, расплавился и оборвался высоковольтный провод, который в довершение всех бед так и не отключили от напряжения. Удар пришелся Алексееву в грудь, и смерть была мгновенной.
Геннадий Федорович Комаров – сильный человек, можно даже сказать, могучий, и я, услышав от одного из его друзей, что их общему приятелю он на проводах в армию из лучших побуждений поломал ребра, не удивился. Эта сила в Геке соединена с самой обыкновенной готовностью всем и каждому споспешествовать, всем помогать и всех спасать. Хотя эти две вещи нечасто сходятся в людях, пока подобное случается, веришь, что еще не конец, что жить все-таки можно. Можно жить в стране, в городе, на этой улице и в этом доме – все это ты отчетливо понимаешь, даже когда давно с Геком не виделся, не выпивал, пусть и по телефону – не разговаривал.
Петербург исключительно красивый город, вдобавок все в нем изваяно из камня, то есть сделано на века. Конечно, лепнина с годами обваливается, ветшают, идут трещинами фасады, да и внутри текут трубы, остальная начинка в такт с ними гниет, но все это в общем и целом можно подновить, подлатать, в крайнем случае, отреставрировать. Только во время большой войны понимаешь, что город тоже хрупок, а так за архитектуру я, пожалуй, спокоен.
Другое дело – люди, которые жили в этих домах и в этих комнатах, здесь работали, ели, спали, здесь музицировали, читали стихи и вели умные разговоры, встречали друзей и ходили к ним в гости. Здесь флиртовали, любили, зачинали детей, на тех же постелях и умирали, когда выходило их время. Тут, если бы было как положено, как велось испокон века, их еще долго, не один десяток лет, должно было помнить всё – даже стены, и всё поминать – так вот с этим как раз полный швах.
Последние сто лет люди умирают или уезжают и с их уходом то, что было им важно, выбрасывается с таким рвением, а потом для стерильности уже голые полы так тщательно протираются тряпкой, что не остается ни следа. Стоит за человеком закрыть дверь, как неприлично быстро исчезает то, как он думал и как говорил, как понимал мир и как к нему относился. Как и какие слова ставил рядом друг с другом, что подчеркивал голосом или жестом, а что, наоборот, пропускал или, будто невзначай, прятал в тень. Уходит его интонация и его ирония, умение слушать другого человека или, напротив, при необходимости умение его не замечать.
В нашей стране, где почти целый век мы, в сущности, были бомжами, перекати-полем, кочующими по городам и весям номадами, которые, если по недоразумению где и пустили корни, приросли к месту, тут же, понимая, что это вопрос жизни и смерти, как Мюнхгаузен, сами себя выдергивали, выпалывали, а затем так ровняли площадку, что никому бы и в голову не пришло, что на этом месте раньше что-то росло. В стране, где со времен Первой мировой войны люди жгли в буржуйках письма и дневники – сначала, чтобы согреться, потом из-за того, что воленс-неволенс приходилось выбирать между уже прошедшей жизнью, памятью о ней и шансом жить дальше. Ты бежал, беря с собой еду, теплые вещи, какие-то ценности, если они у тебя, конечно, были, а остальное без особой жалости отправлял туда же, в буржуйку. Все это были якоря, путы, которые держали, стреножили, в любой момент могли утянуть тебя на дно.
Жизнь, что с таким упорством и с такой скоростью возводилась вокруг, только подтверждала, что прошлое есть жернов на твоей шее. Скольким людям неосторожные высказывания в этих самых дневниках и письмах, записи, сделанные бог знает сколько лет назад, о которых они и думать забыли, отлились смертным приговором или чудовищным сроком в лагерях.
Но и без этого, без данных на самого себя убийственных показаний, если ты хотел жить и не поломать жизнь собственным детям, дать им возможность спокойно окончить школу и поступить в институт, слишком часто единственным выходом было сочинить себе новую биографию. Забыть и по возможности не рассказывать даже самым близким людям, в числе их тем же детям, что ты – следовательно, и они – из семьи закоренелых, потомственных врагов новой власти – дворян, священников, кулаков; наоборот, во всех анкетах писать, что ты или свой, или в худшем случае пролетарий не физического, а умственного труда, безобидный интеллигент, заплутавшийся в трех соснах попутчик.
Насколько помню, обо всем этом я стал думать как раз в Петербурге. У Володи Дроздова, как я уже говорил, Гек Комаров, Леха Романков и я пили и читали друг другу стихи, снова пили и снова читали. Потом, уже глубокой ночью, пошли гулять по городу. Шли от одного дома к другому, и в том же темпе, как шли и как Гек вспоминал и поминал тех, кто в этих домах прежде жил, выметенные, до пустоты продутые жестким ноябрьским ветром улицы снова заполнялись народом. Тесно прижавшиеся друг к другу коробки красивых зданий опять заселялись, обращались в жилье. Стало ощутимо теплее, будто ветер, дувший с Невы, вдруг унялся.
И дело совсем не в том, что всеми этими ушедшими, сгинувшими бог знает когда и где людьми Гек был оставлен здесь на хозяйстве – просто он сам со своей манерой держаться и говорить, с теми словами, которые он для этого брал, со своей благожелательностью и ласковой терпимостью, мягким, нерезким юмором был из немногих осколков этого потонувшего в беспамятстве мира.
Еще одна вещь, которую следует повторить. Геннадий Федорович Комаров не только сам крупный поэт, но и последнюю четверть века издатель. В издательстве «Пушкинский фонд» он не просто хозяин, он делает здесь все – отбирает авторов, редактирует, а затем по всем правилам мозаичного искусства выкладывает их стихи, макетирует уже готовую книгу для типографии. За это время «Пушкинский фонд» издал больше сотни поэтических сборников самых разных авторов. Как я понимаю, в посткоммунистической России больше кого-либо другого. От давно и широко (насколько последнее вообще возможно) известных до вполне камерных и даже герметичных, открытых только самим себе, Геку Комарову и немногим десяткам ценителей. Для поэзии редактура даже важнее, чем для прозы. Слишком часто поэт закупорен в собственных стихах, видит их только изнутри. В сущности, он настоящий аутист и без редактора ему не выйти наружу, не найти, что и как тут делать.
Другая проблема. Конечно, среди поэтов встречаются такие, которые сразу пишут книгами, но их немного. Больше сочиняющих циклами, а еще больше тех, кто все, что в нем сегодня есть, засупонивает в одно стихотворение, а дальше, как после отливки, чтобы никто и помыслить не мог сделать копию, разбивает форму. Стихи таких поэтов ревнивы (в самом деле, в одном – тонкая мысль, другое на редкость изящно, в третьем – ударная строка, у четвертого же мощный финал) и категорически не желают стоять рядом друг с другом. Им кажется, что сосед заслоняет их, забивает, а то и просто глумится.
Эту ревность можно понять: ведь еще вынашивая, тебе твердят, что ты будешь единственным в мире, а оказывается, что ты на улице, вдобавок весьма людной. И это как раз дело редактора – убедить стихи встать в определенном порядке. Сговорить их, объяснить каждому, что сосед ему не враг – что он для того тут и поставлен, чтобы оттенить, подчеркнуть твои достоинства. Штука эта во всех смыслах сложная, но главное, что необходимо помнить, что, не любя стихи, свести их друг с другом невозможно.
В этом и суть. Геку дан дар влюбляться в людей и в то, что они делают. Дар очень редкий. Гек – природной старатель. Среди бесконечных терриконов никому не нужной, в самом деле пустой, отработанной породы он ищет и находит жильное золото. И, совершенно не скрываясь, ликует от удачи. Для него человеческий талант – цель и смысл мироздания, в нем, таланте, его главное назначение. Талант не только нельзя зарывать в землю, наоборот, следует сделать все, что в твоих силах, чтобы вывести его на свет Божий. А дальше, как хлеба, раздавать и раздавать всем и каждому. Делиться им легко, с радостью, и тогда рука твоя не оскудеет.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































