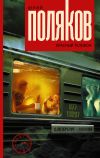Текст книги "Треугольная жизнь"
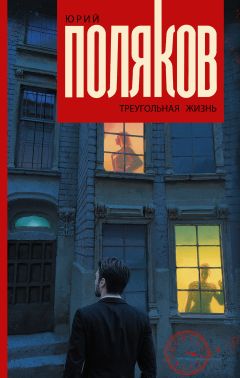
Автор книги: Юрий Поляков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 31 (всего у книги 36 страниц)
– А разве праздник? – удивилась Катя.
– Нет, просто так.
– Спаси-ибо, Тапочкин!
Когда прозрачная коробочка была уже в руках у жены, Олег Трудович вдруг сообразил, что цветок-то действительно «серьезный». Орхидея была страшно похожа на разверстые Ветины ложесна, упруго набухшие рубиновым вожделением…
Но Катя ничего не заметила.
32
Эскейпер вздохнул и посмотрел на часы. «Вета, где ты?.. Если все так нескладно начинается, то что же будет потом?..»
Ему захотелось отрешиться и замереть в сладком безволии, превратиться в недвижного, ужаленного червячка, про которого рассказывал бедный Джедай. Замереть, застыть – и пусть с ним делают что хотят: бьют, ласкают, везут на Кипр, оставляют в Москве…
«И ну вас всех в… орхидею!»
После орхидеи Олег Трудович еще несколько раз просто так, без повода дарил Кате цветы, в основном гвоздики. На всякий случай. Для конспирации. С Ветой он встречался на Плющихе два раза в неделю, и приходилось врать жене, будто у него занятия по деловому английскому или сложная поломка банкомата. Вета оказалась не просто способной ученицей, а… как бы это понаучнее выразиться… самообучающейся системой. Теперь она исследовала себя, обнаруживая в своем собственном теле, знакомом до родинки, до пятнышка, все новые источники радости. Башмаков даже иногда начинал чувствовать себя неким элементарным приспособлением (наподобие патефонной иглы) для исторжения из мечущейся женской плоти звуков восторга.
– Нет, лежи! Я все сделаю сама! Тебе хорошо?
– Хорошо.
– Мне тоже!
И каждое движение, каждое содрогание, каждый спазм отражались – но всякий по-своему – на ее лице: она зажмуривала глаза, закусывала губы, сдвигала к переносице хищные брови или счастливо морщилась, словно запоминая, зазубривая, затверживая, какую именно радость сулит ей то или иное движение. Она уже начинала дурачиться в постели:
– Командуй!
– Да ладно…
– Ну, скомандуй! Что тебе стоит?
– За-чех-лить!
– Есть зачехлить. Ра-аз! Видишь, как я научилась? Ра-аз – и ни морщинки!
– Молодец!
– А почему ты все время предохраняешься? Ты боишься детей?
– Я ничего не боюсь. Но тебе заводить детей рано, а мне поздно. И потом, мы так не договаривались!
– А как мы договаривались? Ты даешь закомплексованной девочке путевку в большую половую жизнь – и до свидания! Иди, детка, рви цветы оргазмов в полях любви. Так мы договаривались? Так?!
– Вета!
– Что – Вета? Ты уходишь домой, к ней. А я остаюсь здесь одна. И думаю о тебе. Думаю, думаю, думаю…
– Я тоже думаю о тебе.
– Но ты хотя бы можешь представить себе, как я здесь без тебя, как я хожу по комнате, как говорю по телефону, как сплю… А я не могу. Я ничего не могу. Я хочу знать, куда ты уходишь от меня. Что делаешь. Что ты делаешь с ней. Я хочу к тебе домой!
– С Катей мы давно уже…
– С ней!
– С ней мы давно уже почти… Вета, тебе трудно это понять… у нас дочь взрослая…
– Почти?
– Не придирайся к словам.
– Ты ее все еще любишь?
– Вета, когда люди столько лет вместе, их отношения уже не называют словом «любовь». Скорее, это послелюбие…
– А вот я ей позвоню, все расскажу, и мы посмотрим, что сильнее – любовь или послелюбие!
– Позвони, – пожал плечами Башмаков, вспомнив почему-то Нину Андреевну и внутренне содрогнувшись. – И что ты ей скажешь?
– Что люблю тебя.
– А если она скажет то же самое?
– Мы бросим жребий.
– Я сейчас оденусь и уйду.
– Не уйдешь, я спрятала твои трусы!
– Если бы я знал, что связываюсь с юной мерзавкой…
– Я обиделась!
Она отвернулась к стене, сжавшись в сердито сопящий калачик. Башмаков вдруг заметил на ее нежных ягодичках два маленьких синячка от усидчивости. У него перехватило дыхание. Но он собрался с силами: в конце концов, должна же когда-то в его жизни появиться женщина, которой управляет он, а не наоборот! Олег Трудович вытянулся на кровати, зачем-то поправил, расположив симметрично, свою ненадобную теперь зачехленность, и стал, чтобы успокоиться, повторять про себя Past Perfect Continuous:
– I had been living for forty four years when she came…
– Что ты там бормочешь? – спросила Вета, поворачиваясь к нему.
– I had been living for forty four years when she came, – повторил Башмаков.
– «To live» в Continuous не употребляется. Запомни!
– Запомню. Умные люди англичане, давно уже поняли, что жизнь слишком коротка, чтобы употребляться в континиусе…
– А вот и неправда. Жизнь очень длинная. Я это поняла в больнице. И до меня ты еще не жил. Не жил! Запомни!
– Запомню…
– А почему ты не спрашиваешь, на что я обиделась?
– На что ты обиделась?
– А ты сам не понял?
– На «юную мерзавку»?
– Нет, как раз «юная мерзавка» мне понравилась. Я действительно «юная мерзавка», потому что хочу отбить тебя у жены, как отбили моего отца… Я обиделась на то, что ты, оказывается, со мной «связался». Я его люблю, а он со мной «связался»! Кстати, почему ты до сих пор ни разу не сказал, что любишь меня?
– Я?
– Ты!
– По рассеянности.
– Говори: я…
– Я.
– Люблю…
– Люблю.
– Вету!
– Вету.
– Страшно?
– Не страшно.
– А у меня для тебя сюрприз! Знаешь, как я буду теперь тебя звать?
– Как?
– Олешек.
– Олежек?
– Не Олежек, а Олешек. Это такой маленький олененок.
– Разве я похож на маленького олененка?
– Конечно. Всякий, кого любят, похож на маленького олененка. Но ты особенно. И ты мне тоже обязательно должен придумать ласкательное имя!
– Он постарается.
– Уж постарайся! А сейчас знаешь что мы будем делать? – спросила Вета деловито.
– Что?
– Искать точку «джи».
– Какую точку? – напрягся Башмаков, смутно припоминая, как в пору своего увлечения сексопоучительными брошюрками что-то об этом читал.
– Эх ты! У каждой женщины есть точка «джи», и мужчина обязан ее найти! – объяснила она, старательно готовя Башмакова к поискам загадочной точки.
– Подожди, я забыл: она снаружи или внутри?
– Конечно, внутри, глупенький! Все, что снаружи, мы с тобой давно уже нашли!
Точку «джи» отыскать не удалось, но Вета так разгорячилась, что укусила Башмакова в плечо. Не сильно, но след остался. Он ехал домой, раздумывая грустно о том, что всю неделю ему придется таиться от Кати, напяливать майки и существовать подлой жизнью миледи, скрывающей позорную «лилию» на плече. Он почувствовал себя измотанным и запутавшимся, даже задремал от отчаяния и был грубо растормошен дежурной в красной шапке, принявшей его за пьяного.
Засыпая рядом с Катей, Олег Трудович вдруг ощутил покой и личную безопасность.
На следующей неделе поиски точки «джи» продолжены не были, потому что у Веты начались месячные – и она повела Башмакова на премьеру нового фильма режиссера Мандрагорова в Дом кино. По пути Вета взволнованно тараторила вперемешку о малобюджетном кино и своем гигиеническом событии. То обстоятельство, что месячные могли вдруг не начаться, переполняло юную женщину взволнованной гордостью:
– Ты знаешь, я все ждала – а вдруг не начнутся!
– Нет, этого не могло быть.
– Олешек…
– Не называй меня Олешек… на людях!
– Хорошо. Олег Трудович, вы, я надеюсь, знаете, что стопроцентных способов предупреждения беременности, кроме воздержания, не существует?
– Знаю.
– Ну и что бы ты сделал, если бы?..
– Не знаю.
– А я знаю. Я бы родила тебе маленького сыночка. Вот такого! – Вета показала почему-то полпальчика. – И ты бы его очень любил. Правда, Олешек?
– Я же просил!
– А ты мне придумал имя?
– Нет еще…
– Я обиделась!
– Не обижайся! – В темнеющем кинозале он нашел мизинцем ее мизинец и подумал: «Мужчине, не умеющему долго и последовательно сердиться на женщину, лучше всего родиться придверным ковриком».
Удивительно, но день ото дня Башмаков все меньше ощущал их разницу в возрасте. Иногда ему казалось, будто они с разных концов времени добираются друг к другу сквозь сладкую слизь плотской любви, сквозь нежные тернии мгновенных обид, сквозь милую пошлость зарождающихся общих секретов, добираются, чтобы встретиться в некой точке «А» (или «джи», черт ее, запропастившуюся, разберет!), в той точке, где они вдруг станут ровесниками, совершеннейшими одногодками.
– Придумал, – шепнул он ей на ухо. – Ветасик…
– Нет. Думай!
Фильм был странный. Назывался он «Умиление» и начинался с того, что бредущий за опохмелкой сельский тракторист Семен встречает почтальона и получает письмо. Родителей своих Семен не помнит, рос в детдоме, потом его усыновила колхозница, потерявшая мужа на войне. Письмо необычное, в большом красивом конверте со странными буквами, напоминающими одновременно арабскую вязь и клинопись. Из письма он узнает, что его настоящие родители, оказывается, евреи, сгинувшие по делу врачей-космополитов. Следовательно, и сам Семен, пропивший на днях тракторный аккумулятор, тоже еврей и может теперь выехать на постоянное место жительства в Израиль. Деньги на дорогу и обустройство (между прочим, немалые) дает какой-то фонд помощи евреям-сиротам имени Михоэлса.
– А кто этот Михоэлс? – спрашивает он у местного интеллигента – киномеханика.
– Вроде как артист был… – отвечает тот.
И вот Семен бродит по своей пьяной, нищей, разграбленной, в труху развалившейся деревне и рассказывает всем о том, что он теперь, выходит, еврей. Рассказывает бригадиру, почтальону, продавщице сельпо (в надежде на водку в кредит), рассказывает собутыльникам, милиционеру, бычку, привязанному к колышку, рассказывает заезжим бандитам, ворующим по церквам иконы… Одни просто отмахиваются, мол, допился, другие слушают сочувственно, даже наливают, третьи смеются. Так, например, полюбовница Семена, доярка Тонька, узнав, что ее хахаль теперь жиденок, так хохочет, мотая ведерными грудями и суча в потолок толстыми голыми ногами, что сталкивает несчастного с печки на пол. Заезжие бандиты тоже сначала издеваются и даже предлагают устроить погром, но потом задумываются…
А растерянный Семен тем временем идет на убогое сельское кладбище и сидит, обхватив голову, на могиле простой русской женщины Натальи Павлиновны, которая вырастила его и которую он всю жизнь считал матерью. Кстати, к материнской оградке он идет мимо других могил: с мутных кладбищенских фотографий таращатся молодые мужики, да и по датам видно, что все это – умершие сверстники Семена. Он идет медленно и, останавливаясь возле каждой фотографии, отплескивает понемногу на холмики из початой бутылки со словами:
– На, Васек, похмелись! На, Серега, похмелись!
И вот, значит, сидит он у могилы приемной матери и советуется с ней, мол, ехать или не ехать…
– Езжай, сынок! – говорит мать.
Конечно же ему это только мерещится, ибо бутылка пуста. Тут-то его и находят бандиты. Оказывается, у них созрел план. Они разузнали, что Семена, как еврейского сироту, находящегося под покровительством фонда Михоэлса, на таможне особенно шмонать не станут – поэтому с ним безопаснее всего переправить за границу краденые иконы. Они везут его на какую-то хазу и, гнусно выхваляясь, показывают награбленное: изящного Георгия, пронзающего змия тонким, как вязальная спица, копьем, рыжекудрую голову Спаса, грустно смотрящего с трепетного платка, и, наконец, Богоматерь, умиляющуюся трогательному Богочеловечку, который по-котеночьи ластится, прижимаясь к ее щеке…
И пьянехонький Семен, любящий весь мир, включая бандитов, вдруг говорит «нет». Ему предлагают деньги – он говорит «нет». Ему угрожают – он говорит «нет». Его бьют – он, харкая кровью, говорит «нет». Бандиты затаптывают его почти до смерти, вывозят в поле и на ходу выбрасывают из машины. Идет первый снег. Семен, окровавленный, лежит на стерне и тихо замерзает. Видно, как тускнеют, словно запотевают изнутри, его глаза. В предсмертном сне он, никогда не выезжавший дальше райцентра, видит себя в желтом городе, стоящем на каменном холме, в городе, окруженном высокими зубчатыми стенами, видит себя прижавшимся щекой к огромному камню странной стены – из щелей между грубо отесанными глыбами торчат сотни, тысячи записок к Богу. Это – Иерусалим, Стена Плача. Идет снег…
Когда зажегся свет, Башмаков заметил, что у Веты глаза покраснели от слез. Перед легким фуршетом режиссер Мандрагоров, жизнерадостный лысый толстячок, одетый в серый обвислый костюм со слоновьими складками, принимал поздравления, со всеми целуясь и пересмеиваясь. Как выяснилось, Ветин отец тоже давал на фильм кое-какие деньги и обещал непременно быть на премьере, но внезапно улетел в Швейцарию на переговоры. Вета отправилась поздравлять режиссера и извиняться за отсутствие спонсора. Олег Трудович ревниво заметил, что Мандрагоров обнимал и целовал ее дольше, чем других.
Потом пили шампанское.
– Тебе понравилось? – спросила Вета.
– Тяжелый фильм…
– Что значит – «тяжелый фильм»?
– Не знаю, так моя бабушка Дуня говорила.
– И какие же фильмы она считала «тяжелыми»?
– Не помню. «Броненосец “Потемкин”», кажется… Когда детская коляска по лестнице скатывается, а черносотенец младенца шашкой пополам…
– А ты знаешь, что Эйзенштейн все это придумал? И лестницу, и расстрел, и коляску – все…
– Никогда ничего нельзя придумывать хуже, чем в жизни! Никогда! Как придумаешь, так потом и будет. Сначала напридумывали, а потом тряслись по ночам…
– А как ты думаешь, неужели в деревне сейчас такой ужас? Или Мандрагоров тоже придумал?
В это время режиссер, обладавший, как многие творческие персоны, почти телепатической мнительностью, словно почуял, что речь зашла о нем, и помахал Вете рукой, послав ей воздушный поцелуй. Она в ответ счастливо улыбнулась.
– Не знаю, как в деревне, но у моей тещи в поселке, – мстительный Башмаков специально сделал ударение на слове «теща», – вроде все нормально. Строятся. В магазине все есть.
– Меня не интересует, что в поселке у твоей тещи. На Кипре у всех бассейны и подъемные кровати. Я – про деревню!
– Не знаю, наверное, паршиво. Если в одном месте много бассейнов и подъемных кроватей, то в другом, по логике вещей, вообще ничего не должно остаться…
В это время в сопровождении двух «шкафандров» мимо прошествовала Принцесса. Олег Трудович был уверен, что она не заметит его, малого и сирого, поэтому даже не стал для безопасности поворачиваться спиной. Но он ошибся. Лея окинула Вету оценивающим взглядом, а потом кивнула Башмакову вроде бы поощрительно, но с каким-то еле уловимым злорадством.
– Ты ее знаешь? – удивилась бдительная Вета.
– Да, мы когда-то вместе работали в «Альдебаране».
– Где-е?
– Ну… в общем, мы «Буран» строили.
– Тот, который в Парке культуры? А ты мне никогда не рассказывал…
– Я тебе многого не рассказывал.
– Расскажи!
– Тебе будет неинтересно.
– Мне про тебя все интересно. И не смей прятать от меня свою жизнь! Я хочу знать про тебя все. И я хочу к тебе домой. Хочу!
Подкрался Новый год. Башмаков заранее попросил Гену, чтобы тот позвонил 31-го утром и вызвал Олега Трудовича для ремонта банкомата. Игнашечкин покачал головой, но просьбу выполнил. Катя Генин голос уже знала и поэтому отнеслась к вызову с раздражением, но без подозрений. Башмаков помчался на Плющиху. Вета обрадовалась, целовала его румяное от мороза лицо и повторяла: «Олешек, Олешек…» Они выпили шампанского и проводили старый год в постели. Когда он собирался домой, Вета заплакала.
К 23 февраля она подарила Башмакову ноутбук, очень дорогой. Он сначала отказывался брать, даже сердился, но понял потом, что сопротивление бесполезно, да и хотелось ему, конечно, иметь свой ноутбук. Кате он наврал, будто «машинку» выдали в банке для работы на дому. В тот же вечер Олег Трудович установил компьютер на столе, подключил и стал осваивать, но его позвала на кухню Катя для вскрытия большой банки с селедкой. Справившись с задачей, Башмаков вернулся в комнату и обомлел – с монитора смотрела грустно улыбающаяся Вета, а внизу были слова:
Олешек, я тебя люблю!
Хорошо хоть Катя оставалась на кухне.
Компьютер был так заряжен, что в режиме ожидания на экране появлялась Вета и ее признание в любви. Избавиться от этой картинки Башмаков не сумел, оттащил ноутбук в банк и попросил Тамару Саидовну запереть в сейфе до лучших времен. Гранатуллина, сразу как-то поблекшая после увольнения Ивана Павловича, посмотрела на Башмакова понимающими глазами.
К Восьмому марта, утаив от Кати премию, он купил Вете очень дорогой парфюмерный набор, но, кажется, не угодил, хотя она и выражала бурный восторг. Черт их разберет, этих молоденьких буржуек!
Речь о том, что она должна обязательно побывать у него дома, велась постоянно. Сначала это были лишь полушутливые девчоночьи хныканья, но потом проявилась угрюмая женская настойчивость. Однажды Вета позвонила Башмакову в конце рабочего дня… В банке, надо заметить, они старались видеться как можно реже, разве иногда за обедом в коллективе. На людях Вета старалась больше общаться с Федей, смеясь его дурацким шуткам и кокетничая. И если в это время случайно рядом оказывался Олег Трудович, она, улучив мгновение, молниеносно показывала любовнику язык – мол, вот я какая! Если же у них было назначено свидание на Плющихе, Башмаков выходил из банка, неторопливо проминался вдоль набережной в противоположную от метро сторону до ближайшего переулка, а там его уже дожидался розовый Ветин джипик. О такой конспирации они договорились почти с самого начала, ведь в банке остались Дашкины подруги, поэтому нежелательная информация могла мгновенно улететь во Владивосток и вернуться в Москву лично к Екатерине Петровне. А тогда…
– Тебе же не нужен скандал? – спрашивал Башмаков.
– Нет, конечно, – отвечала Вета, – мне нужен ты!
Так вот, она позвонила в конце рабочего дня и сказала твердо:
– Сегодня мы не едем на Плющиху!
– Хорошо.
– Почему ты не спрашиваешь – почему?
– Почему?
– Потому что до тех пор, пока я не побываю у тебя дома, на Плющихе мы встречаться не будем!
– Ну что ж, – вздохнул Башмаков и повесил трубку.
Он уже подходил к метро, когда возле него затормозил розовый джипик.
– Прости, – взмолилась Вета, когда он – не сразу, конечно, уселся в машину. – Я дура…
Был конец марта. Москва наполнялась металлическим ароматом дотаивающих сугробов и живой горечью очнувшихся почек. Башмаковское сердце глухо ухало от вожделения. В тот вечер, должно быть, черепица на Ветиной мансарде подпрыгивала и вставала дыбом.
– Устал? – спросила она и рухнула с него, как убитая амазонка со своего скакуна.
– Устал? – участливо спросила Катя, когда он вечером впал в родную квартиру.
– Проклятый английский, – только и смог вымолвить Олег Трудович.
– А что, на стоянке было лучше?
– Я бы не сказал…
Наконец Башмаков решился. Катя на весенние каникулы уехала со старшеклассниками в Карабиху. И он рассудил, что лучше уж один раз пригласить Вету домой, чем всякий раз, в основном после объятий, выслушивать:
– Сейчас ты поедешь домой, а я…
Олег Трудович заранее предупредил Вету о необходимости соблюдать множество предосторожностей, потому что в доме он живет уже двадцать лет и все его знают как облупленного. Оставив машину у мебельного магазина – так неприметнее, – они по-партизански разделились: Башмаков пошел вперед, а Вета следом. По плану он должен был зайти в квартиру, оставить дверь приоткрытой и ждать, когда минут через пять появится его юная любовница. Если же на лестничной площадке она столкнется, не дай бог, с Калей или кем-то еще, тогда просто сделает вид, будто ищет совсем другую квартиру. Веты не было минут двадцать, и Олег Трудович начал уже переживать.
– Я, кажется, перепутала этажи! – созналась она, появившись. – Здравствуй, Олешек, я соскучилась! – и поцеловала его.
Башмаков вздрогнул, ему померещилось, что это постельное прозвище «Олешек» мгновенно и намертво впечаталось в семейные стены – хоть ремонт теперь делай!
– Ой! – Вета всплеснула руками. – Надо же! До того как папа стал заниматься бизнесом, у нас была точно такая же квартира. И гарнитур такой же! Румынский. «Изабель», да? Мама его кому-то отдала, когда папа ей к свадьбе купил новую квартиру. А почему у тебя только диван? У нас еще стенка была с золотыми колечками на дверцах, журнальный столик и два кресла! Я одно колечко отвинтила, отнесла в детский сад и там променяла не помню на что. Папа та-ак ругался! Такое же колечко изготовить было невозможно. Он даже звонил родителям мальчика, с которым я сменялась, просил вернуть, но мальчик его уже потерял. Так мы и остались без колечка…
Вета с интересом прошлась по комнатам и остановилась у аквариума:
– Рыбки! Боже, я в детстве мечтала об аквариуме! Но мама была против, она говорила, что от аквариума в квартире пахнет болотом. А как называется эта, голубенькая?
– Мраморная гурами.
– А вот этот, с черным хвостом?
– Меченосец.
– А вот этот, с усиками?
– Каллихтовый сомик.
– Какой симпатичный сомик! У него такие же глаза, как у тебя…
– Никогда не думал, что у меня рыбьи глаза.
– Ничего не рыбьи. У тебя глаза умные и грустные, как у каллихтового сомика… Я хочу каллихтового сомика!
– Я тебе куплю.
– Я хочу этого!
Вета продолжала изучение квартиры. Диван, как всегда, был разложен и поверх белья застелен леопардовым пледом.
– Ты здесь спишь?
– Да вот, приходится…
– А я думала, вы спите раздельно.
– Как правило… Катя…
– Она!
– Она теперь спит в основном в Дашкиной комнате.
– В целом и в основном… Я хочу кофе!
– Яволь, майн фюрер! – щелкнул каблуками Башмаков и отправился на кухню.
Когда он вернулся с чашками на подносе, Веты в комнате не было. Он нашел ее на балконе.
– Зачем ты вышла? Соседи могут увидеть!
– Красивая церковь! Как игрушечная… Я обязательно буду венчаться. Ты венчаный?
– Нет.
– Это хорошо.
Они сидели в Дашкиной комнате в недавно купленных велюровых креслах, смотрели на однообразное мерцание электрического камина, на рыбок в аквариуме и пили кофе.
– Ты знаешь, я почему-то думала, у тебя очень большая квартира, с красной мебелью, с настоящим камином, с антикварными вазами и бронзовыми фигурками голых женщин – везде, везде…
– Вот видишь, я оказался скромный и бедный.
– Ты – нормальный. Просто женщины всегда воображают своих мужчин особенными. Самыми лучшими. И когда ты раньше уходил, я фантазировала, что ты уходишь к своему камину и бронзовым нимфеткам. Я ревновала. Не только к твоей жене, но и к квартире с антиквариатом. А теперь мне будет хорошо. Ты, оказывается, уходишь всего-навсего сюда… Значит, ты спишь там, на диване?
Она встала и пошла в большую комнату. Башмаков поплелся следом.
– Я думала, у тебя огромная кровать под балдахином. А у тебя такой же диван, какой был у моих родителей. Удивительно! Значит, здесь…
Она еще раз прошла вдоль дивана. Вдруг юбка скользнула с ее ног – и Вета осталась в кружевных красных трусиках. Некоторое время она постояла внутри упавшей на пол юбки, а потом решительно вышагнула из нее, как из магического круга.
– Вета, поедем лучше к тебе!
– Зачем? Здесь тоже хорошо. Знаешь, когда я возвращаюсь домой одна, я гляжу на постель и вижу в ней тебя. Я ложусь в пустую постель и говорю тебе: «Закогти меня!» Ты обнимаешь – и я засыпаю. Теперь, когда ты будешь ложиться, ты тоже будешь видеть меня и обнимать. Только не перепутай, пожалуйста, со своей женой!
Она расстегнула и сбросила кофточку. Лифчика на ней не было.
«Половинки лимона, – мелькнуло в голове у Башмакова. – Но ведь так нельзя! Это же совсем не по-лимонному!»
Вдруг Вета глупо расхохоталась и навзничь упала на диван, так, что содрогнулись и лязгнули бывалые пружины.
– Значит, здесь… Иди ко мне!
Глаза ее остановились, а губы задрожали.
– Одевайся! Мы уезжаем.
– Почему?
– Потому!
– Знаю! Потому что это брачное ложе! Да? И ты не хочешь его осквернять? Да? Мной? Да?! Осквернять мной! Мной! – Она впилась трясущимися пальцами себе в грудь. – Мной?!
– Перестань! Вета! Что с тобой? – испугался Башмаков.
– Мной?! – Глядя на него мертвыми глазами, она одним бешеным движением разорвала в клочья свои ажурные трусики. – Мной?!
– Да что с тобой, Вета! – Он подскочил и сильно встряхнул ее за плечи.
– Мной… – Она схватила его за руки. – Я… Я… Принеси мою сумку, скорее!
Он бросился в прихожую, притащил ее сумку. Вета вытряхнула содержимое – косметику, пропуска, разноцветные пластиковые карточки прямо на диван, разгребла, нашла серебряную пластину, выдавила две таблетки и сжевала. Башмаков принес из Дашкиной комнаты кофе – запить.
– Сейчас пройдет! – Она взяла его руку и положила себе на грудь, туда, где еще не выровнялись красные вмятины от ее сумасшедших пальцев. – Сейчас пройдет. Ляг со мной, – попросила она. – Просто так ляг…
Башмаков лег – ив овальном зеркале увидел на диване голое Ветино тело, а рядом себя, одетого.
– Все равно ты теперь, когда ляжешь с ней, будешь вспоминать обо мне… Все равно! – тихо и бесстрастно повторяла она.
– Я же тебе говорю, мы спим в разных комнатах.
– Поклянись!
– Клянусь…
– А на этом диване кто спит?
– Я.
– Тогда иди ко мне! Не бойся! Мне сегодня все можно. Я теперь по календарику высчитываю…
К Катиному возвращению Башмаков на всякий случай сменил простыню и пододеяльник, объяснив, что смотрел телевизор в постели и облился чаем (он даже специально облил пододеяльник). Олегу Трудовичу казалось, от белья исходит неистребимый запах возбужденного Ветиного тела. Но стирать постельное белье не стал – это было бы слишком подозрительно. Кстати, стаскивая пододеяльник, он вдруг, похолодев, обнаружил закатившийся под подушку золотой тюбик дорогой Ветиной помады.
Катя вернулась веселая, рассказывала про Карабиху, про то, что Некрасов, ко всему прочему, был еще и настоящим «новым русским», умел крутить бизнес и умер миллионером. Так что уж кому-кому, а ему на Руси жить было не кисло. Когда перед сном она накручивала перед зеркалом волосы на бигуди, у Башмакова вдруг мелькнула сумасшедшая мысль: а вдруг зеркало выдаст его и Катя сейчас увидит запечатленную Ветину наготу – и своего мужа при этой наготе.
Но Катя ничего не увидела.
– А знаешь, что я тебе купила? Мы остановились на трассе, а там целый базар. Догадайся!
– Не знаю.
– Та-апочкин, подумай!
– Не знаю, – ответил Башмаков, совершенно отупевший от чувства вины и страха разоблачения.
– Эх ты, Тапочкин, я тебе купила домашние тапочки на настоящем беличьем меху. Дед сказал, до старости не сносишь!
В понедельник, отправляясь на работу, Олег Трудович столкнулся в лифте с пенсионеркой, жившей этажом ниже.
– Вас давеча какая-то девушка спрашивала! Нашла?
– Нашла…
«С этим надо заканчивать!» – мысленно твердил он себе по пути в банк, понимая, что ничего закончить уже невозможно.
Все только начинается. И он когда-нибудь просто разорвется между этими двумя женщинами пополам. И каждая из них с отвращением отшвырнет доставшуюся ей половинку.
– Чтой-то всего пол-ложечки? – сердилась, смеясь, покойница бабушка Дуня. – Аль ты половинкин внук?
– Нет, я не половинкин! – обижался мальчик Башмаков и, давясь, съедал целую ложку манной каши.
А все-таки, выходит, половинкин…
Они снова почему-то стали обедать вчетвером, всей комнатой. Гена, захлебываясь, обычно рассказывал какую-нибудь дурацкую историю. Например, про то, как посреди Лондона умные парни установили хитренький банкомат, который денег не выдавал, зато запоминал все данные засунутых в него карточек, а также секретные «пины», набранные на клавиатуре доверчивыми клиентами. Сделав свое черное дело, хитрый банкомат возвращал ничего не подозревавшему лоху карточку с извинениями, мол, «сори, бамбино, валюту не завезли!». Простоял он всего один день, потом его тихо убрали – так, что даже бдительные полицейские не обратили внимания. Дальше умные парни нашлепали копии всех этих лоховских карточек (дело нехитрое), а главное, зная секретные «пины», выдоили из настоящих банкоматов хренову тучу денег!
– Поймали? – спросил Башмаков.
– Не-а!
– Поймают, – пообещала Тамара Саидовна.
– Трудыч, может, рискнем? – предложил Игнашечкин, подмигивая.
Вета смеялась над этой историей громче всех – у нее даже тушь с ресниц потекла. Но когда Башмаков поймал ее взгляд, он понял: тушь потекла вовсе не от веселых слез. Вета вообще в последнее время вдруг стала тихой, покорной и нетребовательной. Она лежала, как мышка, перебирала тонкими пальчиками волосы на его груди и просила рассказывать про детство, про бабушек Дуню и Лизу, про институт, про армию, про «Альдебаран», даже про Дашкины детские проказы…
– Давай сегодня просто полежим… Расскажи мне про Егорьевск!
Но «просто полежать», конечно, так ни разу и не получилось. Как-то, возвращаясь с Плющихи домой и мысленно продолжая рассказывать Вете про детство, Башмаков вдруг понял, зачем она его расспрашивает, и даже вскочил от неожиданности, точно проехал свою остановку. Ну конечно, умненькая девочка просто хочет сравняться в знании о нем с Катей! Да, с Катей…
В конце апреля шел снег. В мансарде было холодно, и Вета, кутаясь в одеяло, наблюдала, как Башмаков торопливо одевается, чтобы ехать домой.
– Вот ты уйдешь, а я замерзну. Вернешься, а от меня ледышка останется…
– Я тебя растоплю.
– Нет, не растопишь… Ты майку наизнанку надел!
– Вот черт! Спасибо!
– Олешек!
– Что?
– Я все рассказала…
– Кому?
– Папе.
– Зачем?
– Надо же мне было с кем-нибудь посоветоваться. Подруг у меня нет. Только ты. Но с тобой об этом советоваться бесполезно…
– И что сказал папа?
– Он сказал, что я маленькая дура и что теперь…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.