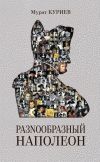Текст книги "Роялистская заговорщица"
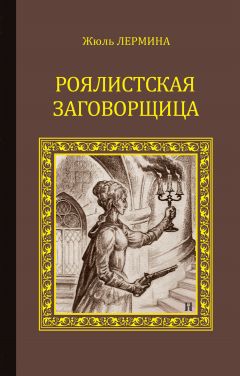
Автор книги: Жюль Лермина
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
X
Отель Фуше, герцога Отрантского, министра полиции, находился на улице Бак, 34, немного не доходя до угла Университетской улицы. Он был построен двумя веками ранее Вальбелем, одним из самых отважных героев французского морского флота.
Большие ворота, украшенные морской атрибутикой, вели на широкий двор, в глубине которого лестница с восьмью ступенями вела в просторную переднюю вроде Зала потерянных шагов, в котором в этот день, 1 июня 1815 года, с шести часов утра толпилась масса всякого народа.
Впрочем, эта часть улицы Бак была всегда чрезвычайно оживлена. Отель некогда бывшего духовным лицом был центром всяких вожделений и всякого любопытства.
Фуше принимал во всякое время.
Никогда еще добровольное шпионство, вознаграждаемое не деньгами, а иной монетой подкупа, не процветало в такой степени с бóльшим бесстыдством, как в период Первой империи. Доносы делались с самого раннего утра; Фуше знал это, и первые приемные часы были для постыдных Иуд.
В особенности в это время, когда судьбы Франции зависели от каприза рока, Фуше был для всех честолюбивых, для всех загнанных оракулом, сфинксом, жрецом, к которому обращались с просьбами, с мольбами, а подчас и с проклятием. Пронесся слух: Наполеон боится его. Тот, который хватал королей за горло, был сдержан с этим пачкуном совести, который допускал всякую бесчестность, всякую подлость, всякое бесстыдство, всякое предательство. Его боялись, значит, в него веровали, и все подлые души стремились в это подземное царство, подобно иным авантюристам, которые проникают в самые мрачные пещеры в надежде найти там клад.
Вопреки обыкновению, в этот день, день важный, Фуше не было дома. Говорили, что он у императора.
В передней разговаривали группами. Разговаривали вполголоса, как всегда, когда передаются какие-нибудь сплетни разных заговоров.
У наружной двери отвратительный с виду швейцар, простодушный по приказанию, сортировал приходящих.
То появлялся старый щеголь в напудренном парике, во французском сюртуке, в шелковых чулках, припрыгивая на своих сухопарых ногах; такой обыкновенно свысока оглядывал швейцара, громко называл свою важную фамилию и гордо проходил мимо. Затем шла очередь толстяка, широкоплечего, со шляпой с большими полями, с седыми лихо закрученными усами, которого швейцар любезно приветствовал:
– Пожалуйте, пожалуйте, герцог скоро будет.
Были тут и люди ничем не замечательные с виду, были и подозрительные, с дерзкими, наглыми лицами, другие как-то жались и осторожно крались, хотя места было кругом достаточно.
Затем шли всевозможные типы буржуа, коммерсантов, поставщиков, тощих и жирных, голодных и сытых, смотря по тому, предстояли ли им дела, или они отошли для них в область прошлого.
Целый особый мир в миниатюре, таящий интриги и обманы.
В приемной все разговаривали шепотом, остерегаясь быть подслушанными.
Говорили о Майском поле, об этой торжественной церемонии, на которую Наполеон пригласил и армию, и народ.
– Интересно знать, – спрашивал кто-то, – как это будет?
– Ничего особенного. Обнародуют голоса по дополнительному акту.
– Будет их немного.
– Будет раздача орлов.
– Первый акт большой трагедии.
– Трагедии славы, если позволите. Франция обретет свою прежнюю силу.
– Или своего короля.
– Любопытно, предстанет ли Наполеон перед народом в своем сером сюртуке? Это произвело бы большой эффект.
– Господа, я говорю на основании достоверных сведений, так как вчера я имел честь провести вечер с графом Отрантским. Мы, представители высшего общества. дали понять его превосходительству, что он должен воздержаться от излишних уступок.
– Этот сброд не сдастся без борьбы, – раздался чей-то резкий голос.
Это был истый бонапартист, которого раздражало пустословие бывшего эмигранта. Затем он стряхнул табак со своего лацкана и добавил:
– Под сбродом я имел в виду народ. Правильно, что власти не компрометируют себя. Император должен быть гарантом известных принципов и потому должен появиться на Майском поле как подобает императору.
В другом месте говорили:
– Значит, война неизбежна?
– Несомненно.
– Я беспокоюсь. Говорят, что союзники берут за основу парижский мирный договор.
– Успокойтесь, они располагают миллионной армией и не будут договариваться с Наполеоном.
– Однако если он откажется от престола в пользу своего сына?
– О чем вы говорите? Где его сын? Императрица во Вьене или еще где… Только Богу и господину Нейпергу это известно…
Выстрелы сигнальной пушки с отеля Инвалидов возвестили, что шесть часов, и прервали разом все разговоры, точно невидимый император произнес свое: Quos ego![18]18
«Я вас!» – неполная эллиптическая угроза, которой Нептун укрощает ветры в поэме Вергилия «Энеида» (I, 135).
[Закрыть]
Все вздрогнули, некоторые опасались, не сказали ли они чего лишнего, тогда как бронзовые пасти напомнили всем о начале кризиса… Тут были одновременно и вызов, и тревога, и угроза.
В эту минуту на пороге передней показался человек лет пятидесяти, немного выше среднего роста, длинный, сухопарый, слегка сгорбленный и, несмотря худобу, чрезвычайно бодрый, сильный, с бледно-желтым, земляным лицом, очевидно, желчь разлилась в нем или вследствие сдержанного гнева, или чрезмерной усталости. Это было нечто бесцветное, тусклое, матовое. Глаза большие, очень голубые, глубокие, глядели как-то странно, необъяснимо; мысль в них утопала, они не поддавались никакому испытанию. Пятьдесят лет спустя был человек с такими же точно глазами: его звали Троппманн.
А этого звали Фуше, герцог Отрантский.
Эти глаза никогда не оживлялись, они не темнели, не блестели, они были неподвижны, точно из стекла. За ними, ничего не выражающими, все скрывалось.
Фуше видел своих посетителей, не глядя на них.
Затянутый в серый сюртук более темного цвета, чем у его патрона, в большой круглой шляпе, скорее беззаботный, чем грубый, с определенными манерами, свидетельствующими о сознании своей силы, всегда готовый к сопротивлению, Фуше прошел мимо.
Некоторые, более близкие, подходили к нему, но он, точно никого не замечая, не останавливаясь, шел дальше, затем скрылся за дверью, которую за ним запер привратник.
– Господин герцог министр сегодня утром не будет принимать, – объявил появившийся секретарь.
Поднялся всеобщий гул отчаяния. Каждый выражал свои особые права на то, чтобы быть принятым, помимо выражений всеобщего неудовольствия. Но секретарь был неумолим: если угодно, сегодня вечером после Шан-де-Мэ прием будет в 10 часов, до тех пор ни в каком случае.
В эту минуту через толпу пробирались трое мужчин; секретарь ждал их. Один из них был агент, не представляющий из себя ничего особенного. Двое других были Гракх Картам и Жан Шен.
Увидя их, секретарь посторонился, открыл им дверь и сказал:
– Войдите.
– Их пускают, а нас нет…
Картам на пороге двери оглянулся.
– Это что за свора? – спросил он грубо. – Вечный лай на псарне.
И Картам исчез вместе со своим спутником, поразив присутствующих своей выходкой.
Нетерпеливые набросились на привратника, который, выведенный из себя, спросил их:
– Отрубили вы голову королю? Нет? Так чего лезете!
Агент стушевался.
Фуше стоял в своем кабинете.
Он сделал шаг навстречу Картаму, протягивая ему руку.
– Мне не надо твоей руки, – проговорил ворчливым голосом старый член Конвента. – Я не пришел к тебе за милостью, от тебя она мне не нужна. Сегодня ночью по твоему приказанию совершена одна лишняя подлость, ты должен ее поправить.
Совершенно спокойно, с полуулыбкою на устах, Фуше ваял со стола записку:
– На улице Эперон тайное сборище. Старые якобинцы, возвращенные ссыльные, солдаты. Заговор об умерщвлении императора во время Шан-де-Мэ.
– Ложь! – воскликнул Жан Шен.
– Не совсем, положим, – заметил Фуше. – Вас поразило слово «умерщвление», – разве Брут не герой? Не будем разглагольствовать. Итак, мой старый Картам, ты неисправим.
– Да, в деяниях чести, как ты в позорных.
Фуше окончательно рассмеялся:
– Брось ты свои разглагольствования. Тебя арестовали: вот в чем вся суть дела.
– По твоему приказанию.
– Не совсем так. Я в настоящее время так занят, что не имею времени следить за всем, но был сделан донос, в силу которого было сделано и распоряжение. В добрые времена комитета общественного спасения тебя бы непременно отправили на гильотину, мой милый. Ты сегодня просишь о возвращении тебе свободы, хотя твое участие в заговоре несомненно доказано; тем не менее она все-таки тебе, вероятно, будет возвращена. За что же ты ругаешь меня? Логично ли это? Или ты обо мне лучшего мнения, чем я есть?
– Я думаю и знаю одно, что ты лгун, предатель, подлец. Я совсем не прошу тебя об освобождении меня из-под ареста, но твои люди захватили и арестовали одну девушку. И я пришел требовать, чтобы ты исправил этот низкий поступок. А затем можешь поступить с нами, как знаешь.
Фуше нагнулся над столом и стал рассматривать бумаги. Он быстро обернулся к Картаму:
– Говори толком, чем эта девушка тебе так интересна?
– Это моя внучка! – ответил Картам.
– Ты обозвал меня лгуном… берегись. Жена твоя умерла десять лет назад, и никогда у тебя не было детей…
– Я ее отец, – заметил Жан Шен, – а Картам вырастил ее.
– Вам я не скажу того, что сказал неукротимому Картаму… Скажу только, что месье Жан Шен никогда не был женат… по крайней мере, под этим именем, а также не имеется никакого документа, свидетельствующего о том, что он отец.
Жан Шен был поражен.
– Неужели же вы так и останетесь вечно детьми, – воскликнул, вставая, Фуше. – Разве я вас не знаю обоих, безумных, жертвующих жизнью ради химеры… Ты, Картам, злился на империю, ненавидел 18-е брюмера, ты ревел, проклинал… и что же дальше? Ты, не правда ли, свергнешь Наполеона?.. Где ты был три месяца назад, когда Людовик ХVIII восседал на троне в Тюильри?.. Ты участвовал в заговоре… Где твоя республика?.. Что придумал ты против громового удара Фрежюс?
Вы, Жан Шен, вы сто раз дрались против союзников, рисковали жизнью, чтобы помешать им вторгнуться! Разве вы задержали их? Чего же вы хотите? Что можете вы сделать? Несмотря на ваши проклятия и на ваше геройство, колесо не перестает вертеться… и вы воображаете, что каким-то одним магическим словом или человеческой грудью вы остановите его… О, безумные дети, трижды безумные!
– Я требую освобождения моей дочери! – воскликнул Картам.
– Да это уже сделано! – заметил Фуше, пожимая плечами. – Если бы я стал дожидаться, когда ты кончишь декламировать, чтобы распорядиться об освобождении ее из-под ареста, она успела бы там умереть… Вы тоже свободны. Мне совершенно безразлично, где вы: в тюрьме ли, на свободе ли. Один из моих служащих думал, что дело сделал, а сделал глупость. Якобинцы!.. Вы воображаете, что вы страшны, а вы только смешны… Разве Франция вас знает? Вы забыты, дорогие мои, вы погребены, вы мертвецы…
– Мертвецы, которые воскреснут! – вскричал Картам.
– Не скоро, – ответил Фуше все так же хладнокровно, – не скоро, тогда, когда нас с вами уже не будет… Говорю вам, что я вас знаю лучше вас самих. Если ты, Картам, собирался убить императора, то зачем ты просил Карно назначить тебя в армию?
– Тебе и это известно?
– Я все знаю. Твое назначение при тебе. Вы, капитан Шен, завтра выступаете. Очень рад за отечество!
– Ты говоришь об отечестве, ты?
– Я служил ему и продолжаю служить с большей пользой, чем вы: в тяжелые дни узнают мне цену. Я возвращаюсь к вам, Жан Шен, выслушайте меня, ты тоже, Картам, я благодарен случаю, который ставит нас лицом к лицу с вами. Вы честные люди.
– Благодарим, – проговорил сквозь зубы Картам.
– Я могу говорить с вами совершенно откровенно, – продолжал Фуше, не обращая внимания на то, что его прервали.
– Ты, наверное, соврешь.
– Суди сам. Вот мое мнение в двух словах. Один только человек может избавить Францию от ужасов второго нашествия: это Наполеон. Люблю ли я его, или нет – безразлично. Факт несомненный, вы сами это очень хорошо знаете. Если бы вы были единственными заговорщиками, я был бы спокоен, но есть другие, которые ждут реванша еще с большим нетерпением.
– Роялисты.
– Да, они. Я знаю, – прибавил Фуше, понизив голос, – что эти люди не остановятся ни перед чем, чтобы помешать успеху их злейшего врага Наполеона. Я напрасно говорю об этом, как о чем-то в будущем, они уже действуют, и хотя, Картам, ты меня считаешь за дурного патриота, я замираю в ужасе при мысли о том, что я подозреваю. Думаю, – тут голос его стал едва слышен, – что предатели приобрели планы сражений.
– Этот слух дошел и до нас, – заметил Картам.
– Неужели?.. Некоторые признаки заставляют меня думать, что так и есть… и я страшусь…
И он остановился, как будто эти опасения сжимали ему горло.
Картам глядел на него и спрашивал себя, неужели в самом деле у этого человека, которого мало было презирать, могли быть проблески совести…
Кто сам честен, тому так трудно верить в нечестность другого.
– Чего же ты ждешь? Ты министр полиции, в руках которого нити всех заговоров… Отчего же ты до сих пор не схватил преступников? Почему ты не лишил их возможности наносить вред?
– Ах, до чего вы наивны! – воскликнул Фуше. – Министр полиции, стоглавый Аргус… Прекрасно!.. Неужели вы думаете, что все заговорщики так же просты, как вы? Ведь вы же честные люди, вы рискуете вашей свободой, жизнью, головой. А ведь другие, настоящие-то преступники, превращаются в нечто микроскопическое, невидимое, неуловимое. Вы кричите о ваших замыслах, они не говорят о них даже шепотом. Разве Иисус знал Иуду? Один из вас предаст меня, который? И апостолы, подобно вам, ни о чем не догадывались. Я искал и ничего не знаю, ничего не ведаю и ничего не могу поделать. Знаю одно, что, быть может, в эту самую минуту по дороге к северу несется человек, который уносит с собой безопасность и честь Франции.
И патриот Фуше с грустью склонил голову.
– Но неужели нет никаких указаний, по которым можно было бы напасть на след этих преступников?
– Указания всегда есть… у министра полиции, – заметил с усмешкой Фуше. – Но верны ли они?
– Их можно проверить.
– Положим. Но только помните, что я ничего не утверждаю, и если вы поступите неблагоразумно…
– Ты отречешься от нас, – сказал Картам. – Будь покоен, какая нам охота ссылаться на тебя?
– Дело в том, что то, что нам, полицейским, – признаю это название и для себя, – кажется подозрительным, для других не имеет никакого значения. Знаю, что одна дама весьма уважаемого, знатного рода, роялистка до фанатизма, нечто вроде Девы с лилией, преследует с ожесточением цель низвержения Наполеона. Я знаю, что ее дом – центр заговора. Это женщина умна, Каталина в юбке, у нее есть лазутчики, она в сношениях с иностранными державами. Вчера у нее было собрание вандейцев. Сегодня утром она выехала, – куда?
– Но кто же эта женщина?
– Вы ее тоже знаете, она сегодня ночью… – И он продолжал медленно, устремив взор на Жана Шена: – Пробралась на ваше собрание заговорщиков.
– Ея имя! Ее имя! – воскликнул Жан Шен.
– Маркиза де Люсьен, рожденная де Саллестен, – ответил холодно Фуше.
Жан Шен смертельно побледнел.
– Вот видите, – продолжал Фуше, делая вид, что не знает настоящей причины его волнения, – миллионерша, в родстве с самыми именитыми семьями Франции.
– А если эта женщина предает Францию, что в ее богатстве, в ее имени? – заметил Жан Шен, преодолев свое волнение.
– Людовик XVI тоже был именитого рода, – прибавил Картам.
– Я не жду ничего хорошего от этой женщины… Впрочем, я, кажется, увлекся и рассказал вам больше, чем следовало. Воспользуйтесь этим по своему усмотрению. Теперь вы знаете, что свободны… у меня много дел… Прощайте!
И он направился к двери, чтобы проводить своих собеседников.
– Известно ли тебе, по крайней мере, – спросил Картам, – куда направилась эта продавщица родины?
– Нет, но об этом легко догадаться. Притягательная сила действует на севере. Кстати, какая еще птичка попалась вместе с вами? Я велел его выпустить, не справляясь даже об его имени. Вероятно, волчонок якобинец.
– Не совсем то, – ответил Картам, – дворянин, да еще весьма знатный, славный малый, хотя роялист до чертиков, и отделал же он твою полицию!
– Его имя?
– Виконт де Лорис.
– Вот как! – заметил Фуше самым равнодушным тоном. – Жених маркизы де Люсьен.
Во второй раз Жан Шен переменился в лице. Но Фуше, который торопился выпроводить посетителей, открыл уже дверь; вошел служитель, чтобы проводить их.
– Прощай, Картам, – проговорил Фуше.
– Прощай, Фуше.
Дверь закрылась за ними.
Фуше стоял не двигаясь, устремив взор в стену.
– Черт возьми! – проговорил он. – Недурно устроилось. Роялисты предают и мне благодарны… Якобинцы узнали об этом от меня и примут это во внимание… я уравновесил силы.
XI
Из всех трагических кризисов, через которые прошла Франция, тот, который история назвала именем, не заключающим в себе ни хвалы, ни порицания – кризис Ста дней, один из самых печальных и вместе с тем один из самых своеобразных.
Никогда Франция, обыкновенно столь определенная, сознательная, даже в своих ошибках, в своих увлечениях, не была менее решительна.
В продолжение этих трех месяцев точно не хватало ей равновесия, и какое-то непрерывное колебание нагоняло дремоту на мозг страны.
Странный период: в 1814 году большинство населения приветствовало Бурбонов как освободителей. После всех кровопролитий истощения это был покой, мир! Тому, кто обеспечивал его, оно отдавалось без задней мысли: хартия казалась ему возобновлением либеральных традиций.
Но вот все дореволюционные мертвецы, феодалы, акробаты Людовика XIV и рядом с ними всевозможные ханжи, от которых только требовалось немножко более терпения и лицемерия, порешили силой вернуть Францию в прокрустово ложе, с которого она сбежала, оставив на его железной решетке клочки своего мяса и следы крови.
Эти воскресшие превратились в подстрекателей, махали своими саванами вместо знамен, приказывая всем следовать за ними, и тому, кого вчера еще ненавидели, которого вчера еще страшились, Наполеону, стоило только проявить свою смелость, чтобы Реставрация, это ничтожество, воздвигнутое ни на чем, рухнуло.
Но в эти несколько месяцев Франция забыла, чем был император.
Обманывая сама себя, принимая мечты за действительность, она убедила себя, что человек, который вернулся, был не тот, который уехал: остров Эльба сотворил это чудо, это превращение самого отвратительного деспота в самого кроткого освободителя.
Для наивной массы это было торжество веры – пришествие Мессии.
Но политики не так относились к положению вещей: они требовали немедленно политического равновесия, учреждения парламента, подчинения исполнительной власти власти законодательной. Настала непроглядная ночь, все требовали света, света полного, мгновенного, ослепительного.
Наполеон, в высшей степени проникнутый диктаторским чувством, усиливавшимся уверенностью в том, что он один в состоянии отвратить опасность, сперва сопротивлялся, потом не выдержал; он согласился на уступки, которые могли быть только временными; он слишком хорошо знал людей, чтобы не понять, что раз он явится победителем, любые сопротивления легко устраняются при помощи плебисцита или голосованием без всяких записок, а после победы он легко справится с беспокойным либерализмом. Если же он побежден, к чему же тогда бороться? Он знал заранее свой приговор.
Настоящая борьба должна была происходить на почве определенной, вполне выясненной: победа или поражение.
Политики, для которых свобода заключалась в допущениях к правительственным функциям, в свою очередь очень дешево ценили победу: они в сто раз больше были бы довольны каким-нибудь трактатом, который бы избавил их от Наполеона. Народ, более искренний, еще раз разочаровавшийся в Бурбонах, когда разглядел их поближе, напуганный, полный ненависти к иноземцам, от которых он едва избавился, был готов на все жертвы, лишь бы одержать победу: прежде всего сокрушить коалицию, а уж потом разобраться семейным образом во внутренних делах.
С одной стороны интриги, с другой – безрассудный энтузиазм: чем разрешить все это, как не войной – случайно вытащенный жребий. Плебисцит, которому предстояло одобрить этот прибавочный акт, сознавал незаконнорожденность такого положения; подписалось не более 130 тысяч голосов. Тем не менее акт был утвержден, но к нему отнеслись с тем равнодушием, которое доказало, как мало значения придавали формальности, требовавшейся близорукими политиками. Наполеон знал, что окружен предателями и недоброжелателями; он уличил Фуше в интригах с иноземщиной, но он терпел его в своих расчетах на будущее. Его теребили все его советчики, предавая его самым преступным образом – одни сознательно, другие по глупости. Он все выносил, все эти тирании, которые считал для себя оскорбительными, хотя он иногда и скрывал это под формой особой почтительности – в надежде воздать за все после успеха.
1 июня 1815 года явилось апофеозом его популярности.
Он, по выражению папы, комедиант и трагик, собрался победить толпу своим величием, увлечь ее апофеозом свой силы, тронуть ее опасностью отчизны.
С утра пушечная пальба сзывала народ на улицы и площади.
Этой великолепной театральной обстановке, одни декорации которой долженствовали тронуть все сердца, погода как нельзя более благоприятствовала.
Все было залито лучами яркого июньского солнца.
Париж, воодушевленный скорее любопытством, чем радостью, скорее взволнованный, чем растроганный, принял праздничный вид. Рабочие предместий, буржуа из Маре, все контрабандное население Пале-Рояля, а также элегантные фланеры бульваров, почтенные торговки с рынка, мелкие швейки, гризетки в чепчиках с цветами, от которых наши современные корсетницы и перчаточницы сгорели бы со стыда, вся эта река парижского населения прорывалась потоком по бульварам, по улице де ла Пе, по улице Риволи, разливалась целым морем по площади де ла Конкорд, на которой уличные мальчишки прыгали в вырытых по четырем углам ямах, или влезали на будки, которые были украшены аллегорическими венками, затем вливалась на Шанзелизе, образуя водоворот, центр которого просачивался под ноги лошадей Марли, откуда шли два течения – одно направлялось к Этуаль, теперешнему Рон-Пуэн, другое – к набережной де ла Конферанс.
На левом берегу происходил настоящий исход из св. Женевьевы в Гренель: новые бульвары – дю Миди, Люксамбур, Монпарнас, Вожирар, дез Энвалид, набережные от Ботанического сада до Законодательного корпуса, от Монтебелло до университета и архива, в то время помещавшихся на берегу реки за площадью Инвалидов, – все эти дороги были запружены группами веселых студентов и рабочих с портов, которые следовали через хмурое Сен-Жерменское предместье. Эти вереницы прохожих быстро сторонились, когда шли батальоны федератов, в блузах, с палками, вместо обещанных, но не выданных им ружей, эти сомнительные шайки, готовые на насилия и за, и против какой угодно партии.
Но как только раздавался рожок, как только барабанный бой возвещал о регулярном войске, об армейском полке или национальной гвардии, толпа прижималась к стенам домов или к перилам. Офицеры, бывшие в запасе во время Реставрации, снова ожили и, гордясь возвращенными им правами, важно выступали. Солдаты, большинство которых пережило французскую войну, молодые, с загорелыми лицами, шли быстрым шагом, точно, в желчной лихорадке, с устремленным взором на знамена воскресших трех цветов.
В толпе мало раздавалось криков, какой-то безотчетный страх мешал восторгам радости.
Но иногда какой-нибудь ветеран императорской армии с деревянной ногой или с пустым рукавом без руки бросался в ряды, чтобы расцеловать приятеля, и, увлеченный течением, продолжал идти вместе, точно колесо снова захватило его.
В группах слышались слова: Аустерлиц, Ваграм, Шампобер.
За полком бежали уличные мальчишки, без шапок, волосы их так и развевались по ветру, они лезли под ноги лошадей.
– Да здравствует император! – кричали звонкие голоса, к ним присоединялись и голоса взрослых людей.
По словам одного из современников, женщины молчали и, даже улыбаясь галантным офицерам, казались печальными. Вдруг, за четверть часа до полудня, раздались страшные выстрелы пушек.
Вся толпа с площади де ла Конкорд ринулась к решеткам Тюильри.
Тут уже образовались целые изгороди из народа; солдаты заградили проход с террасы к набережной де ла Конферанс, и все эти массы возвышались целым куполом. У всех глаза широко раскрылись, все затаили дыхание… То был Наполеон!
По широкой аллее, на фоне из зелени, от павильона Медичи до площади Пон-Турнан, тянулся кортеж, вышедший со двора Тюильри, весь сияющий на ярком солнце пурпуром, золотом и сталью.
Во главе несется гвардия, звеня кирасами и саблями, с развевающимися султанами, за ними на золотых осях широкая, грузная коронационная карета, запряженная восемью громадными лошадьми, головы которых исчезают под перьями и лентами.
Карету окружают блестящие мундиры, на которых лучи солнца играют разнообразными переливами, настоящие костюмы комедиантов, развевающиеся перья, разлетающееся доломаны, мелькание султанов, пестрота аксельбантов, крестов, звезд.
За ними кирасиры, карабинеры с огненной грудью – все это великолепие издали казалось метеором.
Решетки сада внезапно разверзлись точно от невидимых рук, затем пошло: фырканье лошадей, скрип колес, цвета и отражения, превратившиеся в пестроту калейдоскопа. Сон величия и гордыни.
Толпа казалась нерешительной, скорее удивленной, чем восхищенной, но вот в карете, как в золотой раме, на атласном фоне, точно византийская медаль, появляется римский профиль императора, жирный, мраморный от падающих на него теней перьев. Как! Он не в генеральском мундире, одет капралом, солдатом. А между тем Париж ждет солдата, на солдата возлагает свои надежды.
По команде, сделанной по линии, ружья взбрасываются, штыки поднимаются кверху, и раздается звук стали, напоминающий хлопание бичом; сабли, сверкая на солнце, вынимаются из ножен.
– Да здравствуете император!
На этот раз грандиозная поэзия зрелища, грозный возглас: «На плечо!», брошенный Францией в лице иноземщины, победили все сомнения, всякое резонерство, и радостные крики растут, гремят, превращаются в непрерывное эхо, которому вторят пушки.
– Ней! Да здравствуете Ней!
Это маршал, он скачет подле императорской кареты, из которой ему только что было сказано:
– А я полагал, что вы уже эмигрировали.
По мере проследования конвоя крики удваиваются; крики народа, одобрения, благодарности, надежды носились над полками, раздавались по всему городу, опасения которого превратились в восторг, и в последний раз он подписывал кровью договор с грозным воителем.
На Марсовом поле зрелище было поистине поразительное.
Из двух боковых флигелей Эколь милитер тянулись длинные эстрады, на оконечности одной четверти их круга было оставлено пустое пространство, среди которого возвышалась высокая эстрада, вся убранная красным, с золотыми пчелами, сукном. В глубине, ближе к центральному павильону, возвышался под балдахином трон. В этой ограде помещались братья императора, высшие сановники, шестьсот избирателей-делегатов, генералы, магистраты, эти десять тысяч актеров или зрителей грандиозного, потрясающего спектакля, торжество веры целого народа в одного человека.
Вне этой привилегированной ограды, на обширной окружности Марсова поля, помещался народ, пятьдесят тысяч солдат, императорская гвардия, линейные войска, кавалерия, национальная гвардия, сто пушек, затем по углам разместились федераты со всех концов империи, добровольные делегаты нации, желающей защищаться, затем повсюду народ. Сердца всех потрясены. Перед троном, на который «Те Deum»[19]19
«Тебя, Бога, хвалим» (лат.) – христианский гимн.
[Закрыть] только что призывал благословение Божие, оратор избирательных коллегий громко провозглашал слова о верности, свободе и независимости.
– Каждый француз – солдат. Победа снова последует за вашими орлами, и враги наши, которые рассчитывали на наши раздоры, скоро пожалеют, что они затеяли с нами дело.
Такие слова всегда воодушевляют души патриотов и от них размягчаются сердца, подавленные страхом.
Хочется верить и верят. Да отчего, в самом деле, и не поверить?
Но вот раздается голос Наполеона, сперва глухой, затем звонкий, как рожок:
– Французы, моя воля – воля народа, мои права – его права. Моя честь, моя слава, мое счастье не могут быть иными, как честью, славою, счастьем Франции!
Затем присяга конституциям империи. Сотни голосов соединились в одном слове почтения и преданности.
В трибунах восседали элегантные дамы в самых роскошных туалетах, с обнаженными шеями, с жемчугами и брильянтами в волосах; кружевные пряные косынки, вышитые золотыми блестками, прикрывали грудь, высоко поднятую длинным лифом; руки были разукрашены браслетами. Умиленные, они приветствовали платками, надушенными гортензией, эту верховную власть; они более чем кто-нибудь поддавались обаянию новых чувств, так как Наполеон в то время желал более увлекать, чем господствовать.
Вдруг все зашевелилось: знамена будут раздаваться не в ограде. Император заручился своею властью; глава армии поднимет теперь штандарт Франции.
Наполеон встал с трона, с него торжественно сняли его императорскую мантию, затем он проследовал медленно между сановниками и, сопровождаемый своими министрами, вышел из ограды, поднялся по ступенькам на большую эстраду, откуда можно было лучше окинуть оком громадное пространство Марсова поля, эту движущуюся площадь народа, это поле ржи, колосьями которого были штыки.
Незабвенное зрелище: Наполеон, стоящий точно в апофеозе. Кругом груды трехцветных знамен с золотой бахромой, с золотыми орлами, и благословляющий архиепископ дю Барраль, с поднятыми вверх руками. Внизу полки, артиллерия, кавалерия, блестят всевозможными переливами под яркими лучами солнца.
Опять заговорил Наполеон; слова его звучат ясно, определенно, как команда; он обращается в патриотизму, к храбрости, к самоотвержению. Он требует обещаний, жаждет восторгов, криков, играет, как настоящий артист, на струнах человеческих сердец. Депутации войск следуют одна за другой, как волна за волной, не прерываясь. Женщины рукоплещут солдатам, бросают им букеты, платки, веера, посылают им поцелуи. Все крики соединились в один, все голоса точно слились в один голос. Народ, наэлектризованный, желая приблизиться к этому человеку, который еще раз стал центром, прорвал все преграды и, увлекая за собою полицейских агентов, прорывался в ряды солдат, лез под ноги лошадей и, поддаваясь инстинктивно дисциплине, образовывал целые стены, среди которых теперь проходило войско.
Перед императором поднимались руки, обнажились шпаги, а офицеры, окружающие его, отдавали честь ротам.
Шум, полный страсти, превратившиеся в безритменный гул.
Вдруг, в полукруге, в котором проходили роты перед императором, все смолкло.