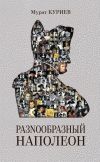Текст книги "Роялистская заговорщица"
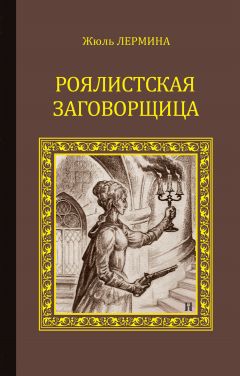
Автор книги: Жюль Лермина
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Люди шли с офицерами во главе воинственным шагом, без крика.
Толпа, точно пораженная, смолкла. Наполеон, нагнувшись вперед, смотрел.
Это шел отряд 6-го полка стрелков, того самого, который три месяца назад в Компьене устоял против всеобщего энтузиазма. Его хотели потопить в этих волнах восторга. В полном порядке, как бы идя на бой, проходили люди мимо.
Офицеры, не спотыкаясь, держали шпаги по уставу. Еще минута, и они прошли.
В это самое время из толпы раздался звучный, торжественный голос:
– Отечество в опасности… Император да спасет Францию… Да здравствует император!
И Жан Шен, и другие, подняв шпаги, воскликнули:
– Да здравствует император!
В это самое время неизвестно откуда в солдат были брошены ветки омелы. Они, не нагибаясь, на ходу ловили их. Наполеон обернулся к Фуше.
– Кто говорил? – спросил он резко.
Герцог Отрантский нагнулся к нему.
– Пускай ваше величество взглянет направо, на первые ряды толпы… высокий старик, с седыми волосами, он опирается на молодую девушку.
– Кто это такой?
– Бывший член Конвента, ссыльный Нивоза.
Наполеон пожал плечами и отвернулся. Перед эстрадой группа офицеров разговаривала:
– Что вы делаете, милейший Лорис, вы поднимаете зеленую веточку, которая, по-моему, эмблема якобинцев.
Лорис, в форме поручика, прятал ветку себе за кушак.
– Вы не ошиблись, Тремовиль, – ответил он, – я ее взял и сохраню ее… это память.
И движением шпаги он послал поклон в сторону старика, бывшего члена Конвента, и… Марсель.
Крики восторга продолжались.
Наполеон сиял.
ХII
Капитан Лавердьер, как все авантюристы, был из тех, которые жаждут увидать поскорее окончание задуманного ими предприятия, тем более что обыкновенно в связи с окончанием бывает и получка вознаграждения. Все у них, что называется, кипит и горит. Не теряется ни минуты на первых порах. Однако, ощущая у себя туго набитую мошну и хорошо зная, что кредит у него большой, так как дело было весьма деликатное, партизанский предводитель, быть может, и замешкался бы в Париже, если бы некоторые опасения не заставили его не терять времени.
И, правду сказать, Лавердьер был не из тех низменных буржуа, которые могут в час рассказать о своем монотонном существовании: в его прошлом были забытые страницы, о которых он не любил вспоминать, и до нового положения вещей ему было бы не особенно приятно, если бы кто-нибудь вздумал доискаться его подноготной.
Побочное дитя аристократического рода, из дворянства Bocage[20]20
Бокаж (роща, фр.) – регион в Вандее.
[Закрыть], вследствие своего происхождения выброшенный из нормальной жизни, не желающий подчиняться банальности регулярного труда, тот, кто в настоящее время носил имя Лавердьер, по крайней мере, раз сто в двадцать лет пытался под разными превращениями не сочетаться браком, но изнасиловать фортуну, эту кокетку, которая боится грубой страсти и не дается иногда в руки.
А между тем, чтобы легче овладеть ею, он освободился от всякого неудобного багажа, как-то: принципов и мучений совести.
С 1797 по 1800 год он воевал не в Вандейской войне, а в шуанской, из расчета охотясь за наживой, обирая и вымогая деньги, получая отовсюду тумаки, воздавая их сторицей, за обещанный удар палкой нанося удар кинжалом, иногда богатый на одну неделю, превращавшийся в нищего в какие-нибудь две ночи разврата. Но, увы, нет дороги без ям: в период строгостей консульства он попался в краже на большой дороге, с оружием в руках.
Правда, дело шло о казенных деньгах, обстоятельство, которое, вероятно, тронуло судей: он поплатился ссылкой и каторжной работой.
Испорченная будущность, что говорить; но у Лавердьера нашелся выход: разные услуги, оказанные в свое время полиции, несколько подходящих доносов, целая политическая гамма лицемеров и наветов возвратили ему свободу. С тех пор он везде перебывал понемножку, и во Франции, и за границей, вечно бегая по следам, как гончая собака, то на службе при императорской полиции, то на жалованье у Малэ дю Пана или де Пюивьё, предавая то одних, то других, продавая всех с расчетом, что он накануне быстрого обогащения, вечно сохраняя наивную веру в обещания своих клиентов, выплывая сегодня для того, чтобы завтра опуститься на дно самой ужасающей нищеты.
В общем, настоящий образец преступности.
Однако, по мере того как под разными прозвищами он рисковал быть повешенным, у этого человека было только одно прекрасное желание, глубокое, неизменное: он мечтал о возможности снова носить свое настоящее имя, которое так хорошо звучало, в котором было столько блеска, но чтобы удовлетворить эту фантазию, он составил себе целую программу, которую никакие обстоятельства до сих пор не заставили его изменить, – он решил участвовать в таком деле, которое вознаградило бы его не только материально, но вернуло бы ему его положение в свете, дало бы ему не деньги, а уважение.
В сущности, уважение можно ведь тоже скрасть, как и всякое другое добро на свете; он подстерегал какое-нибудь дело чести, чтобы наложить на него руку и воспользоваться им для украшения своего имени. Он ставил ловушки действительному или мнимому восстановлению своего честного имени, рассчитывая при всех неудачах на одну из тех перипетий, какие случайность приберегает иногда для самых несчастливых неудачников. Он утомился никогда не быть самим собой, он хотел влезть в свою собственную шкуру, ему казалось, что его настоящее имя будет для него маской, за которою никто не узнает в нем ни авантюриста, ни разбойника.
Иллюзия, быть может, но превратившаяся в неотступную мысль. Он скромно упомянул о ней в своем разговоров с мадам де Люсьен; он был искренен, говоря, что это удовлетворение было бы для него дороже богатства. К несчастью, этому сну действительность всячески сопротивлялась, цель отходила все дальше.
Игрок, пьяница и развратник, Лавердьер нагромождал перед именитым бастардом препятствие за препятствием, целые баррикады поддельных игральных костей, опустошенные жбаны и заушницы, в которых не сознаются.
Он не умел справляться с полными карманами.
Например, в тот день, когда маркиза так щедро заплатила ему вперед за его труд, он поспешил, точно не вынося полноты своих карманов, в кабак, где, увлекшись какой-то дрянью, с ней порядком растранжирил свой капитал.
Как поправить положение?
Что или кого продать?
Очень кстати он вспомнил о случайно подслушанном разговоре на почтовом дворе.
Он, смеясь, направился в полицию для переговоров.
Операция не важная: несколько золотых, с презрением брошенных, под условием, что он сам проводит агентов в логовище якобинцев.
Мы уже знаем, сколько тумаков он получил за свои труды. А так как, помимо всех остальных капитальных грехов, Лавердьер был особенно гневен при виде этого маленького виконта, шпага которого еще утром чуть не подрезала под самый корень все его планы на будущее, то пришел в безумное бешенство: удар шпагой, который он получил по лицу, имел ту хорошую сторону, что он заставил его образумиться. Неужели же он будет вечно безумствовать? Какое ему дело до злополучного виконта и маленькой якобинки?
Неужели к этой глупой сделке с полицией из-за грошей, в то время, когда ему, по его делам, следовало бы быть совсем в ином месте, он прибавил еще другую глупость – свою смерть из-за дурацкой истории?
Эта выпущенная капля крови освежила его, он решился бежать.
Полиция, которой он так добродушно предложил свои услуги, вздумала вдруг отнестись к нему так серьезно, и ей-то он открыл тайну!
Прибыв к дверям Консьержери, мрачный вид которой пробудил в нем неприятные воспоминания, он сбежал от агентов Фуше и вернулся в трактир в улице Сен-Дени, и разбудил своих трех спутников, которые спали в ожидании работы. Вместо шестерых всего трое, что делать? Военные силы зависят от бюджета войны, а пропорция имеющихся еще на лице средств требовала и оправдывала это сокращение персонала. Все четверо, не теряя ни минуты, расторопные, как люди, всегда готовые к побегу, живо вскочили на лошадей и помчались к заставе. На их счастье, в эти тревожные дни, когда в Париж то и дело приходили войска и отряды федератов, ворота города не особенно тщательно охранялись, и нашим действующим лицам удалось черев заставу Буаетри, от которой теперь не найти и следов, пробраться на восточную дорогу.
О трех спутниках почти нечего сказать. Один из них, Эсташ по прозванию Цапля, – прозвище, данное ему за длинную шею, вероятно, удлинившуюся от сделанной над ней попытки к повешенью, – остановился, мертвецки пьяный, в трактире, в нескольких милях от Суасона. Второй, по прозванию Железная Спина, который гордился тем, что, благодаря своим несокрушимым бокам, вынес бесконечное множество палок во всех четырех концах империи за свои ночные экскурсии, вздумал затеять ссору в лесу Линьи, в двух шагах от Вервье, со своим патроном из-за несчастного вопроса о гонораре. Лавердьер был строг в соблюдении дисциплины, а, кроме того, не пренебрегал благоразумной экономией. Он слез с лошади и одним ударом рапиры в горло спорщика сократил свои расходы на одну треть.
Затем он воздал ему должную почесть, вдвоем с оставшимся в живых он похоронил его в отдаленном уголке.
Вместо семи человек, объявленной цифры отряда Лавердьера, в нем оказалось всего двое – сам капитан и Франсуа Синий, бывший солдат, который из-за случайности, – пуля из его пистолета неожиданно попала в начальника, которого он ненавидел, – дезертировал и посвятил себя разбойничьему ремеслу.
Лавердьер решил, что он заслужил право отдохнуть; оба остановились за Вервье в Капель, за неделю самым добросовестным образом проели все сбереженные деньги, так что только 10 июня утром ревностный лазутчик маркизы де Люсьен добрался до Мобежа и до маленькой деревушки Бергштейн, где в трактире «Голубой лебедь» ожидала его сорок восемь часов, с отчаянием, оправдываемым только любовью к законному королю, некая таинственная личность.
Надо сознаться, что Лавердьер не был знаком ни с какими угрызениями совести. Франсуа Синий, покорный, благодарный за дни веселья, которое было ему так любезно предложено, не без страха увидал, что он встречен не особенно-то приветливыми речами.
– Стыдно, – говорил старый господин, – когда дело идет о таких важных вопросах, когда судьба таких серьезных вещей в зависимости от энергии и деятельности преданных людей, терять время в дебошах…
Действительно, в Париже выбирали удивительных слуг. Лавердьер, выслушав молча поток упреков, обратился к своему адъютанту:
– Вечная неблагодарность!
И так как старый господин с удивлением смотрел на него, наш молодец, не теряясь, стал ему рассказывать всевозможные небылицы о разных нападениях с оружием в руках, о засадах и о всяких опасностях, которым они подвергались.
– Человек, как я, – продолжал он своим от попоек последних дней сладким и вместе внушительным голосом, – не изменяет своему долгу. Вы, вероятно, не знаете, что орды Бонапарта захватили все пути и нападают на крестьян и грабят их самым жестоким образом. Разве я, в сердце которого сохранилось незапятнанное воспоминание о наших королях, разве я мог отказать в помощи этим несчастным преследуемым? Мне пришлось с моим товарищем, по крайней мере, раз двадцать вырывать их из рук палачей, и тогда, если б вы слышали, сколько обещаний преданности и верности было дано потомку св. Людовика, покорным слугою которого я называл себя. А вы еще обвиняете меня, тогда как я, с опасностью для жизни, сделал для святого дела, защитниками которого мы являемся, может быть, больше, чем все дипломаты священного союза.
Слушатель, растроганный, изменил тон.
– Итак, вы думаете, что французский народ…
– Ждет, надеется, призывает своего короля! Да, это несомненно, мне это теперь известно достоверно, а затем, если вы находите, что за то, что я исполнил мой долг, меня следует казнить, я подчиняюсь непогрешимому правосудию его величества.
То негодуя в меру, то кстати вставляя почтительную нотку, Лавердьер изложил весь этот вздор с такою уверенностью, что королевский лазутчик смягчился. Никто не сомневался в его преданности; та особа, которая отвечала за его верность, одна из тех, которые не ошибаются. Вся суть – вознаграждать скорее потерянное время усиленной деятельностью.
Важные известия были получены в главной квартире союзников. Говорили, что армия Наполеона направилась к морю, чтобы отрезать все пути армии Веллингтона.
Лавердьер был стратег неважный, но для того, кто прибыл из Франции, не требовалось особой компетентности, чтобы догадаться, что эти известия, судя по всем признакам, неверны.
По пути авантюристы понабрали сведений, что военные силы, по-видимому, двигались по направлению к Намуру и Люттиху.
Лавердьер по своей сообразительности, дополняя воображением все собранные слухи, развил целый план сражения, и, что странно, человек, который до сих пор воевал только исподтишка, сам того не подозревая, напал на мысль великого стратега. Его предположения, довольно смелые, удивили его слушателя, а несколько штрихов карандаша на трактирном столе, затем расставленные стаканы и бутылки, изображающие фронт сражения, убедили его настолько, что человек этот, пользуясь данной ему мадам де Люсьен властью, приказало ему немедленно, не теряя ни минуты, исследовать местность между Мобежом и явиться через два дня с отчетом.
Лавердьер в душе сознавал, что за ним есть провинности, которые надо искупить. Данное поручение было рискованное, его могли поймать и расстрелять как шпиона. Но чем больше опасность, тем больше будет вознаграждение.
Лавердьер был весьма польщен неожиданной важностью своей роли. Конечно, он не делал себе никаких иллюзий насчет своей подлости, но в ней принимали немалое участие и те, которые употребляли его как орудие.
Это была гарантия для будущего, на случай успеха, а в этом успехе он был убежден заранее.
Как человек предусмотрительный, он дал заметить, что он очень хорошо знает цену требуемых от него услуг, и заручился формальными обещаниями благодарности в будущем.
Свидание должно было состояться через день.
Лавердьер напомнил, что, согласно приказанию маркизы де Люсьен, он должен быть во что бы то ни стало 16-го числа в Филипвиле.
– Любезный Франсуа, – обратился Лавердьер к своему товарищу, хлопая его по животу, – через две недели мы будем или расстреляны, или наше дело будет в шляпе. Вперед! И да здравствует король!
Он не заметил, что Франсуа Синий весьма недружелюбно поглядел в сторону таинственного господина, чьи приказания Лавердьер собирался приводить в исполнение.
Да и не все ли это было равно, на деталях нечего было останавливаться. На этот раз Лавердьер держал счастье в руке.
Было не время играть в случайного солдата. По дорогам для бродячих бездельников было небезопасно, тем более что по пути от Вервье в Мобеж за нашими всадниками следовали войска, которые шли на границу и должны были образовать непроницаемый кордон.
Через затянутые петли этой сетки приходилось пролезать.
За несколько часов оба молодца превратились в настоящих добродушных мужичков Фландрии и отправились предлагать свои услуги для расследований.
Дело сейчас же сладилось: на одно только Лавердьер мог сетовать, именно на усердие своего помощника, который нес всякий вздор и без всякой надобности упоминал о Вальми, Флерюсе и других пустяках.
Правда, это бывало после выпивки, когда он терял всякую способность рассуждать.
В назначенное время оба шпиона были на месте.
Экспедиция удалась как нельзя лучше.
Французы, кроме всех своих качеств, обладают еще одним – до последней минуты не верить в возможность предательства.
Теперь у Лавердьера в руках был почти целиком весь план Наполеона, план, о котором он никому не говорил, которого Фуше не мог продать, так как он его не знал. Герцогу Отрантскому угодно было создать себе право на королевскую благодарность благодаря лжепредательству.
Действительно, нападение с берега, чтобы отрезать отступление англичанам, было им вполне обдумано. И почем знать, не было ли главной причиной его неудовольствия на Наполеона то, что ему не удалось осуществить этого плана, который казался ему лучшим из всех.
Лавердьеру, человеку, привыкшему к внезапным нападениям, было ясно, что войска с разных направлений должны были сконцентрироваться в Брюсселе или Генте.
За лесами и холмами, которые тогда служили франко-бельгийской границей – продолжение Арден на рубеже Эно, французская армия расположилась от Авен до Рокруа и Седана.
С запада корпуса Рейля и д’Эрлона, в центре Лобау, с востока – Жерара.
Куда двинутся они – на Мож и Ат или на Динан и Намюр?
Королевский эмиссар слушал, понимая наполовину, подозревая обман. В сущности, они ничего не знали. Им казалось невероятным, чтобы войско, по словам шпионов в 120 000 человек, могло совершить это передвижение через Францию, расположиться на границах, и чтобы союзникам не было дано определенных распоряжений.
Целый день прошел в нерешительности – тайные посланцы беспрерывно перебирались через границу.
Никаких определенных приказаний: там ничего не известно.
Но вот 13-го узнают, – Лавердьер первый сообщил об этом, – что Наполеон в Авене.
14-го утром он выступил в Бомону, в нескольких лье от Шарльруа. Теперь, быть может, было уже поздно сомневаться!
Предстояло нападение, несомненное, решительное, при неожиданных условиях.
Тогда эмиссар, человек без имени, француз, который, при помощи французов, замышлял подготовить поражение своих соотечественников, отдал приказание Лавердьеру снова пробраться через войска – требовалось в ночь доставить один условный знак де Бурмону.
Граф, генерал-лейтенант, командовал четвертым корпусом у Жерара.
Во что бы то ни стало надо было пробраться к нему и передать ему одно несомненное удостоверение.
Никаких писем. Ничего написанного – золотую монету с королевским гербом, и только.
«Ремесло разносчика, – подумал Лавердьер, – вдобавок и ноша не тяжелая».
Между тем этот господин принял торжественный тон.
– Милостивый государь, – сказал он, обращаясь к нему. – Тот, кому будет поручена передача этого условного знака и кто с успехом исполнит данное ему поручение, имеет право лично требовать вознаграждения себе от короля.
– Гм! – промычал авантюрист, – иными словами, если я буду пойман, мне смерть.
– Зачем быть пойманным… Дайте лучше себя убить.
– Прекрасно… Это входит в условие… Но скажите пожалуйста, мне ведь эти дела знакомы: если меня убьют, – это легко сказать, – кто же исполнит поручение? Никто. Поверьте, лучше не подвергать себя случайности. Бесспорно, можно попасть в какую-нибудь неприятность, но всего благоразумнее из нее выкарабкаться, не оставляя своих костей и исполнив миссию. Не могу ли я рассчитывать на вашу помощь?
– Не понимаю.
– Я вам сейчас объясню. Я не знаю, кто вы, но я готов вас называть «монсеньором», именно в силу того уважения, какое вы внушаете мне, я позволяю себе рассуждать и говорю себе: такая личность, столь важная, которая держит в своих руках судьбы народов, не рискует собой без предосторожностей; согласитесь, монсеньор, ведь я действительно рискую: ведь если нас захватят, вас могут расстрелять.
– Я ничего не боюсь.
– Вот это-то я и желал услышать от вас. Это только доказывает, что у вас есть охранный лист, почем знать, может быть, их у вас два. Отчего бы вам не дать мне один из них; я догадываюсь, вы боитесь, что я воспользуюсь правом пропуска для какого-нибудь неблагоразумного поступка. Будьте покойны, я совсем не собираюсь теперь, по крайней мере, вступить в какие-нибудь препирательства с якобинцами Бонапарта. Если я воспользуюсь охранным листом, то, даю вам слово, только в минуту крайности. Но отчего же, черт возьми, не спасти своей шкуры, когда это можно.
Лавердьер не ошибся.
Он попал верно; у старого господина был при себе паспорт или чистый бланк за подписью министра полиции.
Да и разве Лавердьер был не прав: он был достаточно смел, чтобы выбраться из всякого безвыходного положения, отчего же ему не помочь.
– Я впишу ваше имя, – сказал гордо, закинув голову, эмиссар, взявшись за перо: – «капитан Лавердьер», не правда ли?
– Нет, – ответил авантюрист. – Напишите мое настоящее имя… – и он шепнул несколько слов на ухо своему слушателю, который промычал.
– Неужели… старинная ветвь…
– Которая только и ждет, чтобы снова зазеленеть… – проговорил Лавердьер, выпрямляясь.
– Король вам это припомнит, – прибавил тот с особым оттенком почтения к авантюристу.
Они раскланялись. Лавердьер вышел.
Теперь он был на настоящем пути.
Теперь действовал не капитан авантюрист, а слуга, с которым придется рассчитываться не золотыми, а несколько иначе.
У него не оставалось никакого сомнения насчет того, какого рода была его миссия.
Начальнику корпуса враги Наполеона не могли вручить ничего иного, кроме плана измены.
Тем лучше: чем ниже задача, тем выше награда, да и что за щепетильность вдруг у Лавердьера…
Но если благородные миссии возвышают энергию, придают храбрости, – низкие, подлые дела, если и подтягивают временно нервы, зато после них во всем существе чувствуется какое-то омерзение к себе, медленное презрение.
Лавердьер, обыкновенно отправляясь в опасность, бывал весел, беззаботен в душе, злился только наружно, вообще играл в смерть, как играют в кости; на этот раз он был серьезен.
Он вернулся к своему товарищу более задумчивым, чем бы желал того.
В ожидании часа отъезда знал, что только ночью ему можно будет пробраться из Мобежа в Филипвиль, и что у него, следовательно, оставалось около часу временя, он расположился в маленьком домике, служившем главной квартирой, в котором, хотя он был и нежилой, имелось все необходимое для старых воинов – столы, стулья, бутылки.
– Ну, теперь за прощальный кубок! – обратился он к Франсуа «Синему», – и за дело. Что с тобой?
Старый солдат был бледен как смерть.
– Гм! – продолжал Лавердьер, всматриваясь в него, – ты, кажется, боишься за свои старые кости, так черт с тобой совсем, я и без тебя обойдусь…
– Дай мне выпить, – проговорил тот.
Водка была в запасе.
На дворе стояла страшная жара, нечем было дышать, кровь приливала к голове.
Наши молодцы не разговаривали, что-то подавляло их. Вдруг оба вздрогнули.
Пустяки, где-то вдалеке протрубил рожок, далеко, далеко, где-то на горизонте, вероятно, проходил кавалерийский корпус по Жемонскому шоссе в полумили.
Франсуа Синий выпил полный стакан и со всего размаху поставил стакан на стол.
– Что с тобой, приятель? – спросил Лавердьер.
– Ничего, меня томит жажда.
Затем, точно помимо воли, он пробормотал:
– А все-таки низкое ремесло!
– Что ты сказал?
Тот взглянул ему прямо в лицо, точно собираясь что-то ответить, затем схватил бутылку и молча налил себе еще стакан.
Лавердьер украдкой наблюдал за ним. Что происходило в голове этого негодяя? Какой-нибудь каприз продажного человека, чтобы получить побольше за свои услуги. Что ж, можно будет и дать… посмотрим… ведь этот народ трудится только из-за денег.
– Чем ты недоволен?
– Ничем.
– Водка нехороша, что ли?
– Чудесная, первый сорт. Налей-ка еще.
– Ты слишком много пьешь.
– Есть вещи, которые нелегко даются…
– Послушай, скажи, что с тобой. Ты боишься?
– Нет, кажется, что нет.
– Ты знаешь, как я обращаюсь с трусами?
Говоря это, Лавердьер пояснительным жестом ткнул его рукою в бок.
– Я никогда не был трусом, – ответил тот. – В Флерусе…
– Сделай милость, не начинай… Я знаю, старый друг, – продолжал Лавердьер дружелюбно, – что тебя печалит… Тебе не особенно улыбается перспектива висеть где-нибудь на суку или быть подстреленным, как птица… За этот риск, по-твоему, надо получить хорошую плату… Гм! Вот оно что… У нас в горле пересохло, а зубы-то длинные…
Он опустил руку в карман и вынул кошелек.
Он высыпал из него несколько золотых ему прямо в руку.
– Что, теперь легче?.. Протяни лапу…
Франсуа протянул ему руку, улыбаясь.
– Ну, видишь ли, – заговорил Лавердьер, – все это ребячество. Поговорили откровенно, и все выяснилось… Золото даром ведь не дается. А теперь мы с тобой переоденемся. Теперь мы не какие-нибудь торговцы крупою или скотом, а солдаты, которых везде пропустят, при условии, однако, не попадаться людям на глаза.
Лавердьер направился к сундуку, который стоял в углу. Он открыл его и вынул из него военное платье.
– Я буду стрелковым поручиком, а ты простым солдатом. Мы будем курьерами. Их тут рассылают десятками, и нас никто не тронет, а если бы, по несчастью, нас кто-нибудь задержал, у меня есть готовый ответ… Тебе, не шутя, нечего бояться… Снаряжайся.
И, не обращая больше внимания на Франсуа, который все еще любовался золотыми, держа их в руке, Лавердьер стал надевать военную форму.
– Ты еще не готов? Вечереет, минуты дороги… Пьян ты, что ли? Одевайся.
И он бросил ему предназначенный ему костюм, но тот не двигался.
– Тебе горничную надо, что ли? – спросил он, смеясь. – К твоим услугам.
Он подошел к нему и накинул ему мундир на плечи.
Тот разом подскочил, схватил мундир и стал его рассматривать во все глаза.
– Ну, что же? Знаешь, почтенный, ты начинаешь меня выводить из терпения… Да или нет, будешь ли ты, наконец, одеваться, или нет?
Франсуа с ужасом отбросил от себя мундир и грубо проговорил:
– Нет, не буду.
– Это еще что за выдумки? Вам, может быть, угодно офицерские звездочки?
– Нет, – ответил тот. – Но… это мундир корпуса, в котором я служил.
– Так что же?
Франсуа Синий выпрямился.
– Ты хочешь знать, так слушай же. Я слышал, какая обязанность на нас возложена, мы должны предать, продать французов иноземцам. Мне это претит, и я этого делать не стану.
– Что ты сказал? – спросил Лавердьер угрожающим тоном.
– Я сознаюсь, что я крал, убивал из засады. Сознаюсь, что я негодяй, но есть вещи, которых не делают. Этой формы я не надену.
– Иначе сказать, ты берешь деньги даром, ты крадешь их.
Он недокончил, Франсуа швырнул ему золотые в лицо.
– А, ты вот как! – крикнул Лавердьер, вынимая шпагу. – Я с тобой расправлюсь по-своему, ты становишься опасным.
И он налетел на него с обнаженной шпагой, тот бросился за стол, защищаясь стулом.
– Подлый Иуда! – крикнул он. – Продажная душа… Изменник Франции… Ах…
Одним ударом Лавердьер вонзил ему шпагу в горло. Франсуа Синий с хрипом свалился. Лавердьер на минуту задумался.
– Болван! – пробормотал он сквозь зубы. – Туда же, захотел быть честным! – с усмешкой прибавил он, пожимая плечами.
Он нагнулся к нему. Бедняга лежал бездыханно, у него была перерезана сонная артерия. Лавердьера передернуло. При вечернем освещении это мертвое лицо было ужасно.
Авантюрист отвернулся. Через несколько минут он вышел, вскочил на коня и спустился галопом с холма. Однако мундир он не надел.
Было ли то влияние алкоголя, или гнева, но к мозгам приливала кровь и удесятеряла в нем все дурные чувства. Несясь на коне, он оглядывался по сторонам.
Была темная, удушливая ночь, безлунная, в которой чувствовалась близость грозы.
Двенадцать миль… у него оставалось четыре часа времени – вполне достаточно.
Он тяжело вздохнул, ему все-таки было не совсем-то по себе, в ушах его звучало слово: «Иуда!»
Ба! ведь не ребенок же он, в самом деле, чтобы смутиться таким вздором… Да и, наконец, что же он такое делал: он вез послание генералу Бурмону, честному роялисту, с которым он прежде воевал на Востоке, вся вина которого в том, что он, ненавидя Наполеона, служит ему, в силу серьезных соображений, не подчиняясь глупым людским предрассудкам. Неужели ему, Лавердьеру, которого судьба не особенно баловала, более брезгать, чем всем этим важным особам, которые за каждую измену получают новые почести. Уж это было бы слишком глупо!
И он пришпорил лошадь, точно торопясь сделать новую мерзость. Весь гнев его вымещался теперь на бедном животном, он так и хлестал коня хлыстом. Это проявление зверства соответствовало кровопусканию; он понемногу успокоился и стал думать об обещанной награде и как ее заслужить.
Он скакал по дорогам, окраине леса, скакал, не уменьшая шага, по тропинкам, холмам, пересекая каменистые большие дороги. В первый час, несмотря на трудный путь, он сделал более четырех миль.
Судьба покровительствовала ему: он никого не встретил. Поднялся туман, и вокруг все стало невидимо.
Как раз он подъезжал к Бомону и ехал лесом, который с каждым шагом делался все гуще и гуще. Вдруг он услыхал конский топот – за ним или навстречу?
B густом лесу звуки отдаются неверно, бывает акустический обман. Он был убежден, что скачут за ним в погоню.
Но кто? Франсуа Синий умер, наверно. Разве он мог еще говорить, выдать его?
Что делать? Взять в сторону, дать проехать преследующему или преследующим его, но как раз в это время он был в овраге, окруженном двумя стенами из мрамора и гипса с остроконечными вершинами; не было выхода ни вправо, ни влево.
Во что бы то ни стало надобно выбраться из этого котла, в котором он находится в плену.
Овраг выходил в долину; пришпоренная лошадь неслась во всю прыть.
Лавердьер, с поводом в одной руке, с пистолетом в другой, не оглядывался, а топот другой лошади не переставал раздаваться в ушах. Наконец, каменная стена разверзлась разом, и он очутился в поле.
Направо лес высокоствольных дерев, по-видимому, непроницаемый. Лавердьер остановил лошадь, слез, взял ее под уздцы и направился через кустарник к лесу. В двух метрах от дороги он остановился, ничто не могло выдать его присутствия, замученная лошадь не шевелилась. Лавердьер, держа в обеих руках по пистолету, стал прислушиваться. В тишине еще явственнее был слышен лошадиный топот. На этот раз не могло быть сомнений – всадник ехал из Бомона. Это была не погоня, а простая встреча. Во всяком случае, было лучше остаться незамеченным.
Из любопытства он добрался до границы дороги и оттуда стал смотреть: в темноте, к которой глаза его уже привыкли, он разглядел силуэт всадника, офицера, который пришпоривал лошадь, а судя по треугольной шляпе и золотым аксельбантам, это был офицер генерального штаба.
Вдруг лошадь взвилась на дыбы… Проклятие… Крик…
И всадник мгновенно был сброшен на землю.
Лавердьер тут был ни при чем, у него не прибавилось греха на душе. Пистолеты оставались у него в руках неразряженными, лошадь споткнулась на все четыре ноги, упала и увлекла за собой всадника.
Офицер барахтался на земле, пытаясь освободиться, и Лавердьер услыхал с отчаяньем вырвавшиеся слова:
– Проклятие! Сломал ногу!
Сознавая всю безвыходность своего положения, раненый молил о помощи.
Он не был опасен. Лавердьер одним прыжком очутился на дороге и приблизился к нему. В эту минуту лошадь вскочила и, почуяв авантюриста, пронеслась во весь опор, так что ему пришлось отскочить в сторону, чтобы она его не опрокинула.
– Не отчаивайтесь, господин офицер, – обратился к нему Лавердьер, – обопритесь на меня, попробуйте встать.