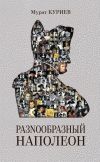Текст книги "Роялистская заговорщица"
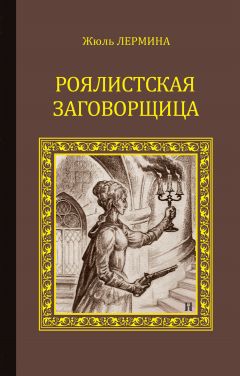
Автор книги: Жюль Лермина
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
XV
В одном уголке земного шара, величиной едва в квадратный метр, за столом сидит человек, с пером в руке, он пишет по строчке в две секунды и подписывает свое имя.
Сделано. У смерти есть свое слово. Он дал ей его. Кто победит? Кому умереть? Над этим стоит зловещий вопросительный знак.
По всей линии от Самбрэ до Филипвиля летают, пересекаются приказания.
Налево между Леер-э-Фосто и Суар-сюр-Самбр – 46 000 войска: первый корпус под командой Друэ д’Эрлона, солдата Самбр-э-Меза и Цюриха, с Аликсом Донзело, который управлял Ионическими островами, Дюрнет, в прошлом году спасший Мец, Жакино, раненный под Иеной; второй корпус под командой Рейлля, который только что женился на дочери Массены, с Башело Гильемоном, другом Моро, Ришаром Фуа, который вотировал против империи. В центре, от Бомона до Валькура – 60 000 войска; третий корпус Вандамма, которому всероссийский император вернул из уважения к его храбрости шпагу, когда тот был взят в плен. Лефоль, Гюбер, которые, по одному против десяти, отбросили испанцев в Каркадженте; Бертезэн, Донон, который отделился от изменника Мюрата; шестой корпус Лобау, этого льва под видом овцы, как сказал про него Наполеон, с Симмер, Жаннэн, Тестом.
Справа 16 000 войска, до самого Филипвиля, с генерал-лейтенантом Жераром во главе, героем Баутцена, с ним Пешё, бывший капитан волонтеров в 1792 году, Морэн, Бурмон.
Около императора императорская гвардия, гренадеры Фриана, егеря Морана, стрелки Дюгена, Гюйо со своими драгунами, Лефебер Денуэт с вольтижерами, Груши, Сульт с своими гусарами, Сюберви, Эксельман и Келлерман с кирасирами.
Сто двадцать восемь тысяч войска, триста тридцать четыре орудия. Всем этим Наполеон руководил штрихом пера, точно костями, которые бросают на зеленое сукно судьбы.
От двух концов этой линии следует провести еще две линии, которые бы встретились у Шарлеруа, затем на верху этого треугольника вывести параллель. Здесь от Ата до Гента и Намюра – неприятель.
Налево англичане с бельгийским контингентом, Веллингтон, принц Оранский, Гилль, Брауншвейг, Сомерсет, Понсонби. Направо – прусская армия – Блюхер, Цитен, оба Пирха, Тильман, Бюлов. Слева сто тысяч человек, справа сто двадцать пять тысяч.
Вершина треугольника есть точка соединения: эта фигура как нельзя лучше изображает план Наполеона, он хотел войти углом в обе армии, разъединить их, разбить каждую отдельно, прежде чем другая поспеет на помощь, затем направиться прямо на Брюссель, где, гордясь победой, начать переговоры о мире… Может быть, и удастся!
Следовательно, требовалось, чтобы на французской линии три группы одновременно двинулись; левая – наискосок вправо, правая – влево, центральная – прямо вперед. На расстоянии нескольких четвертей часов Шарлеруа являлся общей целью, и всем трем корпусам предстояло одно направление.
Прокламация императора всех приободрила, подогрела злобу всех. Своим простым языком, без прикрас, короткими фразами он, как лезвием, проник в сердце солдат.
Наполеон напомнил им о дерзких пруссаках: «Под Иеной вы были один против двух».
Об англичанах словами: «Кто был у них в плену, пусть вспомнит о понтонах!»
Клеймя коалицию, пожирающую людей, он воскликнул: «Настал момент для каждого француза, у которого есть сердце, победить или умереть».
Совершенно верно: от Самбры до Мёвы, пробуждая эхо великой эпохи, раздавался один клич, клич энергии, гнева, надежды.
Вся слава прежних дней, начиная от Флёруса до Аркола, от Аустерлица до Шампобера, предстала, витала над этими людьми, которые тоже понимали, что надо победить или умереть.
Только в одном месте всей длинной атакующей линии сожгли, смеясь, в пламени пунша, прокламацию Бонапарта.
Веселая компания офицеров, вероятно, клюкнувших шампанского более, чем следовало, собралась внизу, в комнате под квартирой генерала Буриона, в доме, который еще 30 лет назад показывали по пути от Корбиньн в Филипвиль, всю ночь весельчаки офицеры болтали и смеялись над прокламацией, которая, по их мнению, была преисполнена самохвальства.
Это были адъютанты д’Андинье, де Трелан – имена, которые не следует забывать, затем офицеры разных чинов – Тремовиль, Трезек, Водеваль, Гишемон – цвет французской молодежи, самому старшему не было тридцати лет.
Было три часа утра.
В окна уже сквозил дневной свет, от которого пламя свечей, отражавшееся в хрустале, казалось желтым, тусклым.
Стол походил на поле сражения, на котором побежденные жалкие пустые бутылки теснились тесными группами.
– Что-то, господа, – проговорил Тремовиль, – запоздал сигнал к выступлению. Мы, по крайней мере, в четвертый раз пьем прощальный кубок, а до сих пор не слыхать сигнала седлать коней.
В эту минуту Гишемон, уходивший за справками, вернулся.
– По-видимому, день начинается дурно, – начал он смеясь. – Третий корпус отстал, движение совершается плохо, сейчас прислана эстафета, которую ожидал генерал Бурмон, каковы-то вести!
– Черт с ним, с третьим корпусом и с Вандамом! – воскликнул Трезек. – Нам бы уже полчаса как следовало быть в дороге.
– А главное, – заметил Гишемон, – за нами дивизион, который не настигнет нас ранее трех, четырех часов.
– Все та же беспечность!
– Когда имеешь дело с самомнением, не допускающим никаких опасений.
– Отвратительная организация.
– Бонапарт слабеет.
– Скажите, падает.
Настало молчание.
Вошел генерал Бурмон в полной парадной форме.
Все приветствовали его по-военному.
Он был не один.
– Господа, – проговорил он, – известия, которых я ждал, получены благодаря усердию одного из преданных нам людей, господина Губерта де Кейраза, бретонского дворянина древнего рода, который оказал серьезные услуги нашему делу, – представляю его вам, господа.
Лавердьер был теперь в мундире генерального штаба. Молодые люди протянули ему руки.
– Вы из наших, месье де Кейраз. – Трезек налил стакан и поднес его генералу Бурмону со словами:
– Позвольте нам выпить, ваше превосходительство, за ваше здоровье.
Граф Бурмон был в то время лет сорока двух, высокий, худой, с английскими манерами, говорил тихо, с оттенком грусти в голосе, его серые глаза, обрамленные светлыми ресницами, не смотрели прямо.
– Господа, – произнес он серьезно, – выпейте лучше за благоденствие Франции…
– И за ваши победы, генерал, – прибавил кто-то взволнованным голосом.
Вошел виконт Лорис, сияющий, свежий, прелестный, в своей форме поручика. При его словах у многих на лицах появилась усмешка. Он не обратил на это внимания.
– Так бы хотелось поскорее выступить, – продолжал он, – я не создан для гарнизонной службы.
– Иначе сказать, – заметил Тремовиль, – месье Лорис фантазер, которому нужны или уединение, или волнения битвы. Отчего это, милый друг, вы обошлись с нами так строго? Вместо того чтобы запереться в своей комнате и писать послания в рифмах какой-нибудь Хлорисе, вам бы следовало отпраздновать с нами наш отъезд.
– Что делать, Тремовиль, накануне битвы сам Цезарь крепко спал, а я не Цезарь, и сон у меня еще лучше.
Разговор этот происходил вполголоса. Бурмон разговаривал со своими адъютантами. Что касается вновь пришедшего, он подошел к окну и упорно смотрел в него. В городе раздались трубные звуки. Бурмон обратился к молодым людям.
– Господа, – проговорил он, – настал час. Ожидайте меня у ворот Вобана. – Он остановился и прибавил медленно: – Понятно, господа, что я никого не обязываю следовать за мной.
При этой загадочной фразе, тайный смысл которой был непонятен Лорису, последний воскликнул:
– Кто же может колебаться? Там, где вы будете, генерал, там будет и место чести.
Бурмон послал ему привет рукою, точно благодаря его, затем проговорив: до скорого свидания, господа, – он вышел.
– Прекрасно сказано, – заметил Тремовиль, протягивая руку Лорису. – Я знал, что мы можем на вас рассчитывать.
– Неужели вы могли сомневаться во мне? – спросил Лорис. – Я мог колебаться в принятии предложенного мне места по причинам, которые достаточно выяснил, но я знаю в настоящее время, в чем моя обязанность.
– Кстати, – заметил Тремовиль, – не мешает нам поближе познакомиться с нашим новым товарищем, ярым роялистом, которого нам представил генерал Бурмон – месье Гюбер де Кейраз.
И, подойдя к новому гостю, он любезно притянул его за руку.
Лавердьеру не везло. Надо же, чтобы опять и в новом своем превращении он наткнулся на одного из самых своих нелюбезных противников.
Тем не менее сегодня он был готов на всякий риск, сегодня смелость положительно выручала его, и он преспокойно раскланялся с Лорисом, смотря ему прямо в глаза.
– Кто такой? Зачем он здесь? – воскликнул Лорис, хватаясь за шпагу.
– Меня зовут Гюбер де Кейраз, – проговорил авантюрист. – Я имею честь состоять при штабе генерала Бурмона.
– Быть не может! – воскликнул Лорис. – Господа, генерал Бурмон, вероятно, обманут. Мы не можем принять этого человека в свои ряды.
– Друг мой!.. – вмешался Тремовиль.
– Да вы, вероятно, не знаете… Это отъявленный негодяй, шпион Фуше, которого я уже проучил порядком. Взгляните, на его лице сохранились еще следы моей шпаги, – и в припадке гнева Лорис бросился с обнаженной шпагой на Лавердьера. Д’Андинье и Трелан стали между ними.
– Месье Лорис, – заметил первый с раздражением в голосе, – вы забываете, где вы и с кем вы говорите. Как старший, я вам приказываю вложить вашу шпагу в ножны, или я должен буду подвергнуть вас взысканию дисциплинарным порядком.
– Разве вы не слыхали меня? – настаивал Лорис. – Этот человек чуть не убил меня; я его знаю, я сам видел, как он командовал полицейской шайкой Фуше.
– Извините, господа, – прервал Лавердьер с полным хладнокровием, – тут недоразумение, которое выяснять в настоящую минуту я не желаю. Я был избран моим начальством, моим настоящим начальством, для исполнения некоторых весьма деликатных обязанностей, которые я выполнил с честью. Г-н виконт Лорис не знал этих подробностей. За исключением нескольких резких выражений, которых я бы не оставил без последствий, если бы в данное время личное самоотречение не было обязательно, я понимаю и извиняю то недоразумение, о котором я желаю умолчать.
– Как вы решаетесь говорить это? – воскликнул Лорис.
– Виконт, еще раз напоминаю о дисциплине и о повиновении, – заметил строго капитан генерального штаба. – Вы забываете, что месье де Кейраз был представлен нам генералом Бурмоном. Полагаю, что это для вас достаточное ручательство.
Лорис окинул всех взглядом; никто не сочувствовал ему. Напротив, на всех лицах было видно скорее неодобрение. Резким движением он спрятал шпагу в ножны.
– Прекрасно. Конечно, не в виду неприятеля я подам пример непокорности. – И он прибавил с дурно скрытой иронией: – По приказанию я признаю месье де Кейраз человеком безупречной честности… но мои личные счеты с капитаном Лавердьерем я откладываю до другого раза.
И, не дожидаясь ответа, он повернул ему спину.
– Теперь на коня, милейший Лорис, – проговорил Тремовиль, фамильярно взяв его под руку. – Вот горячий-то вы! Как видно, вы никогда не уразумеете политики, как вам это недавно сказала госпожа де Люсьен.
– Не думаю, чтобы г-жа де Люсьен имела дело с подобными людьми, – заметил Лорис.
Он вдруг замолк. Он вспомнил, что видел, как этот самый человек разговаривал тихо с Региной и кланялся ей. Он провел рукой по лбу.
– На коней! – проговорил он. – В эту минуту не хочу думать ни о чем, кроме исполнения долга.
Через минуту офицеры штаба генерала Бурмона были на лошадях.
За ними следовал конвой егерей верхами.
– Вперед, господа! – скомандовал генерал Бурмон.
И из открытой потерны кавалькада понеслась рысью.
Сзади слышались сигналы горнистов, которые отдавались в старых укреплениях Вобана.
Четвертый корпус двигался. С возвышенности было видно по белым дорогам, среди полей, вытянувшееся войско.
Лорис следовал за офицерами. Утренний воздух обдувал его лицо, освежал ему голову. Он чувствовал себя как нельзя лучше.
За последние две недели, ему казалось, он живет как во сне. Правда, его поддерживала, приободряла мысль о счастье, о любви.
Вспомним, что, к удивленно своему, он узнал от аббата Блаш, по выходе из Консьержери, о внезапном отъезде г-жи де Люсьен.
Для молодого любящего сердца подобные вещи – настоящее горе.
Он отправился на Шан-де-Мэ с тайной надеждой ее там увидеть. Регины там не было.
Как Лорис проклинал себя за послушание! Какой глупостью называл он слабость, которая допустила его принять предложенное ему звание, из-за которого он лишился свободы! Он был пленником; он не мог следовать по следам той, которую любил.
Одна мысль утешала его: да, он связал себя, но ведь он может и вернуть свою свободу. Стоит только подать в отставку: дело двух строчек. Он их напишет после смотра. Разве он не имеет права получить обратно свою независимость?
Офицеры генерального штаба сгруппировались на эстраде, напротив Военной школы, и хоры военной музыки приветствовали трубными звуками знамена, яркие цвета которых, залитые июньским солнцем, ослепляли; затем звонкие голоса декламировали восторженно, в унисон, величие отчизны.
Заговорил Наполеон.
В первый раз Лорис видел так близко ненавистного корсиканца.
Ему показался он таким обрюзглым, бесцветным, толстым, приземистым.
Император выпрямился: его черты, освещенные солнцем, на которых отражались золото и сталь, приняли неровности медали.
Лорис слушал.
Раздавались слова: отчизна, жертва, непомерное усилие. Они звучали точно звуки рожка. Затем калейдоскоп мундиров, лошадей, несущихся в галоп, пехотинцы, шедшие мерным шагом в такт, точно боевые машины, а надо всем этим стоял гул радостных криков, точно прорывался в голубое небо и уносил в бесконечное пространство молитву Франции.
Лорис был молод, в нем было то простодушие, которое легко переходит в энтузиазм. Между его душой и этой толпой точно родилась какая-то связь, и он не чувствовать к ней презрения, к этой толпе, являвшейся ему в единении силы и величия. Всеобщая мысль над ним витала, точно густая туча, из которой патриотизм дождем ниспал ему в сердце, в ум.
Когда он услыхал голос Картама, когда в ряды колеблющихся упала первая ветка омелы из рук Марсели, Лорис почувствовал, что уста его разверзаются. И он тоже воскликнул: «Да здравствует император! Да здравствует Франция!» Ему стало ясно понятие о долге, об опасности, о национальной обороне. Разве он не офицер? Разве он не имеет права поднять шпагу на врагов отечества, на чужеземцев, – слово, впервые являвшееся ему в определенном значении.
Он чувствовал, что понятие о настоящей чести распустилось в его сердце подобно цветку от могучего жара, распространившегося из грудей сотен тысяч французов.
Когда церемония окончилась, Лорис гордился своим званием, гордился возложенными на него обязательствами. Дело шло не об императоре, не о Бонапарте, не об узурпаторе. Картам сказал верно: Отечество в опасности!.. Он поспешил домой, чтобы поскорее приготовиться к отъезду.
Дома он нашел записку.
Перед отъездом Регина де Люсьен черкнула ему строчку:
«Я исполняю мой долг, вы исполняйте ваш. Non sibi, sed régi! До свидания!»
Лорис безумно целовал записку; она не забыла о нем, она не покидала его; этими несколькими словами она соединяла их судьбы в одну миссию мужества и преданности. Марсель бросила ему ветку омелы, Регина тоже прислала ему талисман.
Марсель! Регина! Он соединял оба эти имени, он произносил их, как произносят имя сестры и жены. Обе повелевали ему исполнить долг; конечно, он не спасует. Non sibi, sed Franciae![21]21
Не для себя, для Франции! (лат.)
[Закрыть] Разве король и Франция – не два выражения одной мысли? Король ожидал, чтоб ему вернули Францию свободной, победоносной. Долгом было возвратить ему неприкосновенным это его достояние, которое находилось под охраной. Лорис выступал, уверенный в себе, готовый на всякое содействие, на всякую жертву.
Если ему суждено умереть, неужели он не заслужил ни одной слезы Регины, неужели Марсель не пожалеет о нем?
И теперь, на Бельгийской дороге, под командой генерала Бурмона, которого Лорис считал за героя, он тихонько называл эти оба имени.
Он был счастлив.
Он жаждал опасностей, ему хотелось битв.
С тех пор как он находился в корпусе генерала Бурмона, легкомысленное отношение к делу его сотоварищей, если не оскорбляло, то все-таки задевало его, но что значили, в сущности, шутки по отношению к Бонапарту? Разве можно было их упрекать, что они любили только Францию и своего короля?
В огне они сумеют умереть как самые заслуженные солдаты. Для того чтобы быть хорошими солдатами, совсем не требуется быть старыми ворчунами.
Генеральный штаб несся в галоп, впереди всех генерал-лейтенант с развевающимися белыми перьями, напоминающими собой исторический султан Генриха IV. С полузакрытыми глазами Лорис уносился мысленно в прошлое и представлял себе то великое рыцарство, те наивные жертвы человечества идее справедливости.
В физическом движении есть своего рода упоение. Небо было ясное, солнце весело улыбалось. На душе у него было так отрадно, он гордился, что живет, что имеет свое место, как бы оно ни было незначительно, в великом событии, которое он предчувствовал.
Продолжали ехать.
Филипвиль остался позади; всадники, спустившись в долину, въехали в узкий проход между двух каменных скал.
Куда направлялись? Лорис не задавал себе этого вопроса. Он следовал за командиром, рассчитывая, что каждую минуту может услышать: «Стой!» или «Вперед!», что было сигналом битвы. В двух шагах от него были Тремовиль, Трезек.
Где то Лавердьер? Но он не искал его. Только бы хорошенько дрался, а там что Бог даст.
Прошло четверть часа, затем еще полчаса, дорога сузилась, ехали по двое в ряд; казалось, прибавили ходу, вероятно, желая скорее встретиться с неприятелем.
За всадниками – конвой, среди которого на пике развивался трехцветный значок.
Вдруг пейзаж изменился.
Из ущелья выбрались, впереди равнина, дорога перекрещивалась.
Бурмон остановился. Генеральный штаб подъехал к нему и окружил его.
Лорис заметил, что Бурмон был чрезвычайно бледен.
Вероятно, там, на повороте, за первыми деревенскими лачужками, которые виднелись, должна произойти встреча с неприятелем. Вероятно, сейчас раздадутся первые залпы.
Бурмон сделал несколько шагов мимо офицеров штаба, к конвою.
Он знаком подозвал командовавшего.
– Капитан, – сказал он, – возвращайтесь назад, вы мне более не нужны.
Тот, к кому он обратился, был старый воин со шрамами на лице. Он не двигался.
– Генерал, – спросил он, – так ли я понял ваше приказание?
– Да, возвращайтесь в Филипвиль.
– Мы на границе.
– Я знаю, отправляйтесь.
Капитан взглянул на Бурмона, его губы зашевелились, но он промолчал; приказание было определенное. Он поднял шпагу и скомандовал:
– Налево кругом! Марш!
И стал во главе отряда.
Затем ни слова. Молчание. Все стихло. У Лориса сжалось сердце.
Когда по приказанию уходили эти люди, – он не знал их, – но ему казалось, что уходят друзья.
Бурмон оставался неподвижен, с устремленным взором на дорогу; он следил за исчезающими силуэтами лошадей.
В ста метрах дорога сворачивала. Офицер прошел, исчез.
Затем мало-помалу скрылись из виду люди, медные каски, стальные сабли, блестящие кожаные кивера, исчезло все, остались только два дерева на холме, как часовые, и когда рассеялась тень последнего егеря, Бурмон, еще более побледневший, вложил шпагу в ножны, повернулся спиной к дороге и, нагнувшись на лошади, проговорил странным голосом, поразившим Лориса:
– Марш, господа… и да здравствует король!
И кавалькада понеслась на этот раз во весь опор. Точно она уносилась от чего-то, что только что скрылось с последним исчезнувшим всадником.
Лорис не отдавался более своим мечтам, он подъехал к Тремовилю совсем близко, он чувствовал потребность не быть одному.
– Где мы? Куда спешим мы? – спросил он.
– В Флоренн, – ответил Тремовиль.
Затем, пришпорив лошадь, он обогнал Лориса.
Ехали все скорее, скорее – настоящая скачка. Лорис старался подавить в себе чувство страха: у него был начальник, он следовал за ним.
Впереди виднелась деревня Флоренн, уж видны были ее соломенные крыши, на небе рисовался шпиц колокольни. Подъезжали к ней. Без сомнения, галопом пронесутся по деревне и в конце какой-нибудь длинной улицы внезапно нападут на аванпост.
Вымощенное шоссе. После некоторого времени скачки в галоп, на площади, против церкви, у большего дона, генерал Бурмон разом остановился.
Без посторонней помощи он слез с лошади. Открылась дверь, он вошел и сделал знак другим следовать за ним.
В нижнем этаже, в большой комнате, было несколько мужчин, которые радостно подошли в нему и стали с ним разговаривать тихо. Бурмон нервно снял свою огромную шляпу с перьями и поставил ее на стол перед собою. Затем он провел по лицу всей ладонью, кусая засохшие губы, точно они причиняли ему страшную боль.
Он вынул из кармана изящную записную книжечку с фамильным гербом, вынул из нее письмо, развернул его не читая, точно знал его наизусть.
– Вот письмо, – сказал он, – которое я адресую генералу Жерару.
Всеобщее любопытство, все приблизились. Бурмон стал читать едва слышно:
– «Я покидаю армию; я не могу и не хочу служить далее узурпатору, самолюбие которого губит Францию. Меня не увидят в рядах чужеземцев, от меня не получат никаких сведений во вред французской армии; но я постараюсь служить на защиту изгнанников, буду содействовать искоренению из отечества системы конфискаций, не теряя из виду сохранения национальной независимости».
Никто не промолвил ни слова: присутствующим давно было известно принятое решение. Им нечего было даже выражать сочувствие.
– Мы на бельгийской территории, – заметил Бурмон. – Вы свободны, господа. Те, которые присоединятся ко мне, чтобы заявить свои верноподданнические чувства королю Франции, будут радостно встречены. Надо, чтоб через час это письмо было доставлено генералу Жерару. Кто желает взять на себя это поручение?
– Я к услугам генерала Бурмона, – ответил кто-то.
И Губюр де Кейраз, бывший капитан Лавердьер, сделал шаг вперед к генералу Бурмону, протягивая руку.
– Вы подвергаетесь некоторой опасности.
– Ради короля, – проговорил с поклоном Кейраз.
– Да хранит вас Бог!
У Кейраза на лице появилась улыбка самодовольства: он становился важным действующим лицом, он чувствовал, что ему уже почти завидуют эти придворные завтрашнего дня.
Лавердьер поправил свою портупею, лихо надел шляпу, сделал полуоборот и направился к двери.
Но в ту самую минуту, как он подошел к ней, перед ним кто-то точно вырос.
– Вы не пройдете.
– Что вы сказали?
– Я говорю, что вы не пройдете.
Лорис стоял с непокрытой головой, бледный как смерть, с блестящими глазами.
– Однако, птенчик мой, – проговорил Лавердьер с исказившимися чертами, – неужели я вас буду постоянно встречать на моем пути? Убирайтесь, или я шпагой прочищу себе дорогу.
– Попробуй.
И, обнажив шпагу, Лорис стал в дверях. Раздался голос:
– Разве вы не слышали, месье Лорис, я вручил месье де Кейразу приказание для передачи…
– К чему вы это говорите? – заметил холодно Лорис. – Я бы желал забыть, кем написано письмо, которое человек этот взялся доставить французскому генералу. Не напоминайте мне, где я, и о том, что вы делаете. Я говорю с этим негодяем. Я говорю ему, что он не пройдет. Пока я жив, он не пройдет.
Раздались возгласы гнева. Молодые люди делали вид, будто накидываются на Лориса. Многие ваялись за шпаги. Лорис описал шпагой большой круг в воздухе.
– От изменников до убийц недалеко, – проговорил он. – Так вот для какого подлого дела вам нужен был еще один сообщник! Но вы ошиблись! Я вам не сообщник, но каратель! Ну-ка, Иуда, шпион Иуды, защищайся!
И шпага его коснулась груди Лавердьера. Лавердьер откинулся назад и снова стал в позицию, направляя шпагу в упор.
– Господа, во имя короля! – крикнул Тремовиль.
– Не мешайте, – проговорил Лавердьер. – Мне давно надоел этот молокосос!
И он продолжал наступать на Лориса с твердым намерением его убить.
А вот что происходило в это время у него за спиной. Бурмон совещался со своими приближенными. Затем открылась дверь, и он исчез, а за ним и большинство офицеров. Через минуту раздался конский топот. Между тем поединок разгорался.
Кейраз-Лавердьер был первостепенным бреттером, вдобавок Лорис непременно хотел оставаться в дверях, он не подвинулся ни на шаг, положение неудобное, которое затрудняло его движения.
Шпаги так и звенели.
С обеих сторон одинаковое ожесточение. Дуэль насмерть. Уже десять раз шпага Лавердьера коснулась сюртука молодого человека, но все являлся отбой, и снова ловкий, меткий удар.
Разбойник побледнел от бешенства. Он заскрежетал зубами.
Вдруг Лорис, который следил за всеми его движениями, заметил, что он опустил левую руку в карман.
Он увидал, или скорее предугадал, ручку пистолета.
Тогда с неимоверной быстротой он пропустил свою шпагу под шпагу Лавердьера, которая коснулась его волос, и нанес негодяю удар в плечо, слишком высоко.
Пистолет, наполовину уже вынутый, от удара, от которого рука онемела, упал. Раздался выстрел: несомненное доказательство подлости этого человека, который хотел заменить дуэль убийством. Лорис, в котором злоба удесятерила силу, накинулся на него, схватил его за горло и прижал к стене, бледного и ослабевшего, закатил ему несколько пощечин, затем, оторвав пуговицы от его сюртука, достал письмо Бурмона и на глазах нескольких оставшихся офицеров-роялистов швырнул его на пол и проколол к полу лезвием шпаги.
– У кого станет храбрости поднять это письмо? – спросил он.
– Это уж слишком дерзко! – воскликнул кто-то.
Обнаженные шпаги поднялись на Лориса, который, наступив ногой на письмо, отпарировал удары, выпрямившись во весь рост.
В эту минуту отворилась дверь, в которую скрылся Бурмон. Вошла Регина де Люсьен: все шпаги перед ней опустились.
– Господа, – проговорила она, – генерал Бурмон ожидает вас в замке Ивелль. Препроводите туда раненого.
Лорис, недоумевающий, изумленный, ослепленный, как сказал бы старик Корнель, глядел на нее молча, не двигаясь.
Лавердьер слабел. Кровь ручьем текла из раны.
Его поддерживали, он шел, но, проходя мимо Лориса, бросил на него взгляд такой глубокой ненависти, что всякий другой на месте молодого человека вздрогнул бы от его угрозы.
За ними закрылась дверь.
Тогда Регина нагнулась и подняла письмо Бурмона.
– Быть может, месье Лорис убьет меня за то, что я его подняла? – спросила она, улыбаясь.
Тяжелые потрясения особенно глубоко отражаются на самых сильных натурах. Лорис был как потерянный.
Регина стояла перед ним в амазонке, которая красиво обрисовывала ее девственный стан, в шляпе лигистки, и, не желая того, она была чрезвычайно театральна.
Он смотрел на нее и точно спрашивал себя, не кошмар ли все то, что произошло, и не настало ли радостное, неожиданное пробуждение?
Она положила ему руку на плечо.
– Дитя, – проговорила она, – дитя задорное и неисправимое.
Он слушал ее, ничего не понимая. За что упреки? Ведь это же не действительность – эта зверская, постыдная, ужасная сцена?
Она продолжала:
– Итак, когда вы уверяли меня, что я – ваша воля, ваш разум, душа вашей души, вы мне лгали, Жорж де Лорис? Да, я хорошо помню ваши собственные слова: «Куда вы пойдете, туда и я, – говорили вы мне голосом, который до сих пор звучит у меня в ушах, – ведите меня далеко, далеко. Я только одного желаю – чувствовать вашу близость». Да, вы говорили все это. А теперь вы смотрите на меня большими, удивленными глазами, как будто вы не сознаете, кто с вами говорит. – И она прибавила тихо: – Я та, которую вы уверяли в любви… и которая, исполнив свой долг, может в настоящее время сказать вам, что она вас любит.
Регина говорила правду: с той ночи, когда они оба находились в одинаковой опасности, ей овладело новое чувство, сильное, всецело поглотившее ее.
Когда появилась Марсель, в свою очередь защищая своего покровителя, Регина почувствовала в душе своей точно острую боль – мучение ревности, злобу женщины к женщине.
Она ушла рассерженная, не оглянувшись, думая, что ненавидит и будет ненавидеть того, к кому обратился другой женский голос.
Когда же она очутилась одна, в своей комнате, она вдруг разрыдалась. Она рыдала, как ребенок, не рассуждая, не анализируя, потому только, что она страдала, потому, что случайно эта ревность открыла ей… что она любит!
До этих пор, во всей гордыне своей победоносной красоты, она черпала убеждение своего неотразимого владычества.
И вдруг в ней зародилось сомнение, терзавшее ее, и в этом терзании было что-то мучительно радостное, опьяняющее.
Она любила его!
Она, великосветская женщина, привыкшая ждать любезностей, готова была опять идти ночью к Лорису, дожидаться его, – для чего? Чтобы сорвать на нем свой гнев, выразить ему все свое презрение!
Да, может быть, в первую минуту! Но ей вдруг стало ясно, что то, что было вчера, – уверенность в себе, непреклонная гордость – всего этого более не существовало; она чувствовала себя такой слабой, такой ничтожной: один взгляд, одно слово, сказанное с нежностью, победило бы все ее намерения, все ее тщеславие кокетки.
Ревность! Что за вздор! Эта девушка!.. Он ее не знает, если он заступился за нее, защитил ее от нахала, то он исполнил только долг порядочного человека. И что такое эта Марсель?.. О, она не забыла ее имени… Ничтожество… деревенщина… дочь крестьянина… Неужели это для нее соперница?
Разве она не имела тысячи случаев убедиться в тонких свойствах души Лориса, аристократа по рождению, по воспитанию, по своим вкусам… Зачем обвинять его в невозможном, в неправдоподобном?
Размышляя таким образом, Регине становилось страшно, и помимо воли она смеялась над своей боязнью любить.
Она готова была осмеять себя, убедить себя, что в ней не произошло ничего нового…
Но зачем лгать? В тиши ночной она чувствовала, что вся полна им, и, отдаваясь этому сладкому неизведанному ею упоению, она повторяла тихонько его имя с сладостным трепетом. Она заснула, убаюканная воспоминанием о нем.
Проснувшись, более спокойная, она стала допрашивать себя. Правда, она не принадлежала более себе, она отдалась ему… а миссия, которую она возложила на себя, обязанности, которые ей предстояло выполнить, – неужели она забудет все это?
Нет, она должна помнить, что несвободна. Лучше поскорее исполнить свою задачу и тогда располагать собой. Видеть ли ей Лориса? Но тогда она рискует утратить энергию, волю… А вдруг он станет умолять ее не уезжать… и она останется, откажется от всех своих обещаний…
Уж лучше довести дело до конца, и затем, в день триумфа, сказать Лорису:
– Посмотри, как я поторопилась вернуться к тебе.
Во-первых, разве она не заботилась, более чем когда-либо, об их общей будущности?
Ея победа будет его славою.