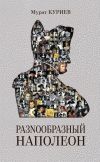Текст книги "Роялистская заговорщица"
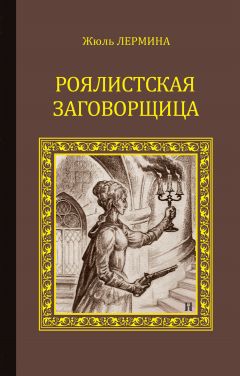
Автор книги: Жюль Лермина
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
– Какое счастье – я не один… Мне надо сесть на лошадь, помогите мне.
Несчастный ухватился за своего спасителя, но вдруг с криком снова упал, почти без сознанья.
«Черт возьми! – подумал Лавердьер, – он, кажется, прав, у него что-нибудь сломано».
Он взял его под руки, перетащил черев дорогу и посадил к дереву.
Затем вытащил из кармана фляжку с водкой и поднес ее к его губам.
Офицер пришел в себя.
– Благодарю вас, у меня сломана нога выше колена. – И н прибавил со злобой: – И не быть в состоянии исполнить своего долга! Не быть в состоянии ехать дальше!
Лавердьер нагнулся к нему:
– Положим, я простой мужик, господин офицер, но если я могу вам быть хоть чем-нибудь полезен, располагайте мною, мы все люди и обязаны помогать друг другу в жизни.
Офицер, ошеломленный падением, изнемогая от невыносимой боли, едва мог говорить.
– Кто вы? – спросил он.
– Говорю вам, поселянин, честный человек, вы можете вполне мне довериться. Тома Петерс, торговец хмелем, меня все знают.
– Француз?
– Вы спрашиваете?.. Француз до мозга костей… и да здравствует император, который вздует всех этих «englisches» и «keserlicks».
Офицер хотел хорошенько разглядеть его лицо, но не мог приподняться.
– В таком случае окажите мне услугу, не только мне, но и отечеству; у меня на груди депеша, приказание генералу Вандаму.
– Передать ее ему?
– Нет, я не знаю, где генерал, но в одной миле отсюда, в Бомоне, передайте ее первому попавшемуся офицеру и расскажите ему о случившемся.
– И сказать ему, чтобы он приехал за вами.
– Обо мне не хлопочите, прежде всего доставьте это приказание. Боже мой, как я страдаю!
Несчастный скрежетал зубами, едва удерживаясь от крика.
Лавердьер по его приказанию приподнял его, и он судорожными руками расстегнул сюртук, вынул с груди бумагу, но тут сделал какое-то неосторожное движение, всем телом опустился на бедро и от боли потерял сознание.
Лавердьер хотел поднести снова фляжку к его устам, но было уже бесполезно, и он спрятал ее в карман. Он еще раз взглянул на несчастного, лежавшего без признаков жизни, встал, вошел в лес, отвязал свою лошадь, вывел ее на дорогу, вскочил на нее и послал рукой офицеру последний привет.
И к чему же само искушение шло к нему навстречу?
Депеша из главной квартиры! Быть может, от самого императора! То есть от врага тех, кому он служил. В военное время – все добыча: новый товар, которым он будет торговать в Филипвиле!
Что бы ни случилось, офицер никогда его не признает. Тома Петерс подходящее имя для каждой физиономии.
Вперед! Еще семь миль. Лошади дано было несколько минут отдыха. Теперь, успокоившись, он, конечно, не загонит ее. Она казалась бодрой, как в минуту отъезда. Надо сознаться, все шло как нельзя лучше.
Лавердьер ехал рысью, со свежей головой, с полной верой в будущее; вот оно, быть может, то давно желанное счастье, надо быть дураком, чтобы упустить его.
За Бомоном шла чудесная дорога, прямая, шоссе, с маленьким подъемом, он ее знал, так как ездил по ней несколькими днями раньше. Вдруг, – он ехал уже с четверть часа, – в нескольких шагах от него раздалось:
– Кто идет?
Он остановил лошадь.
Черт возьми! Он совсем забыл про конный караул! Он молчал, затаив дыхание. Снова крикнули:
– Кто идет?
Бежать в лес невозможно… верная смерть – поймают и расстреляют…
– Свой, – ответил он, – француз!
– Иди в караул.
И в ту же минуту два вольтижера со штыками, точно призраки ночи, подбежали, направляя штыки в грудь лошади.
Лавердьер был взят: важно было не потерять присутствия духа.
– Пропустите меня, господа.
– Кто ты такой?
– Тома Петерс, хмелевщик из Боссю-ле-Валькур, возвращаюсь домой.
– Слезай с лошади.
– Уверяю вас…
– Слезай…
И, присоединяя действие к слову, оба вольтижера стащили его с лошади.
Тогда Лавердьер объявил:
– Я желаю видеть офицера. Я имею ему передать нечто важное.
– Как кстати… Мы тебя и без того свели бы… Гм, это у тебя там что? Пистолеты… Ты недурно вооружен для торговца хмелем… Ну-ка в дорогу!
– Я вам сказал, что я должен видеть офицера.
– Мы тебя не задержим долго. Но в такие времена, приятель, надо быть в порядке… иначе…
И удар по стволу ружья заключил фразу. Медленно, тяжелой поступью мужика, Лавердьер следовал за ними, размышляя: «Неужели счастье изменило?»
ХIII
С самих Майских полей Франция была в лихорадке, самой мучительной лихорадке, в лихорадке неизвестности и ожиданий. Заботы внутренней политики, имевшие первостепенное значение для высших классов, заинтересованных в интригах, нисколько не влияли на народ.
Открытие палаты депутатов, избрание республиканца Ланжюинэ в президенты, адресы и речи, несмелые протесты и неискренние поздравления – все это проходило, не затрагивая массу, всецело находившуюся под страхом, который обыкновенно предшествует крупным потрясениям.
Опять, как в 1792 году, призрак отечества в опасности носился над страною, быть может, еще более грозный, чем тогда, потому что страна сознавала, что она обессилена, утомлена; без сомнения, все руки, все сердца, полные любви и преданности, простирались к этому мрачному призраку, но тут прежняя доверчивость сменилась сомнением.
Одно только имя имело еще почти волшебное значение в этом трагическом кризисе: это – имя Наполеона. Ни в одном салоне, ни в одной комнате, ни в одной хижине, словом, нигде это имя не произносилось иначе, как с благоговением, с упованием. Даже те, кто некогда радовался его падению, теперь, поджавши хвосты, твердили:
– Он один может спасти нас!
Таков удел деспотов – стоять одиноко. Кроме Наполеона никого, ни одной личности, ни одного ума, способного гальванизировать родину.
По мере приближения опасности все более обострявшееся томление увеличивало его популярность, впрочем, державшуюся на успехе, ибо она не имела иной опоры.
Создавались иллюзии; не верили, что Наполеон постарел, устал; его возвращение с Эльбы, это путешествие, значение которого оспаривал Талейран, ценили наравне с его самыми знаменитыми победами.
Затем шла армия, которую Франция поистине боготворила: везде, во всех городах, по дорогам войско восторженно встречали. Это был не только энтузиазм, не банальное восхищение формой и галунами, но искренняя, нежная любовь к трехцветному знамени, которое воскресало, к знамени революции, свободы, победы, в развевающихся складках которого были вписаны великие даты битв при Жемапе, Аустерлице и Иене. Женщины при виде его плакали и посылали поцелуи. Когда утром 12-го узнали, что император покинул Париж, у всех замерло дыхание, точно раздался первый пушечный залп.
Кто знает, чем был занят Париж в те немногие последующие дни? Вся его жизненная сила следила мысленно за мальпостом, который уносил цезаря и благополучие Франции между двух стен трепещущих людей, из груди которых вырывались виваты, как бы мольбы. И в крике, повторявшемся тысячами тысяч голосов: «Да здравствует император!», быть может, он слышал высшее заклинание: «Да здравствует Франция!».
12 июня он ночевал в Лаоне, 13-го в Авене, 14-го вечером он прибыл в Бомон и расположился в замке среди леса, окаймляющего границу.
Известия были хорошие: неприятелю, по-видимому, было неизвестно направление войска, которое на протяжении ста миль от Лилля до Метца в несколько дней составило двадцать тысяч человек на небольшой площади от Мобежа до Филипвиля.
«Мне показалось, – говорит посланный Макбету, – что идет Бирманский лес».
Так точно завтра должен был двинуться лес Бомона навстречу.
В эту ночь, с 14 на 15 июня, ни огня, ни звука в лагерях. Строгое приказание. Сердце армии билось надеждой, каждый солдат сознавал ответственность, которую несет, старики не забыли прежних великих дней и на бивуаках рассказывали молодым о небывалых победах, от которых содрогнулась вся Европа. Одна только тень: недоверие к начальству. Наполеона нельзя победить иначе, как предательством, было общее мнение, и солдаты беспокоились, когда под тенью трехцветного знамени проходили офицеры, которые за три месяца перед тем отдали честь шпагой белому знамени. Но это было только мимолетное опасение, точно струя холода, которая быстро рассеялась от пыла энтузиазма.
В эту именно ночь армии предстояло двинуться, оставалось зарядить ружья и быть наготове.
Генерал Вандам стоял в Бомоне. Император, по прибытии своем, выселил его из дома, который он занимал, и старому солдату пришлось искать себе другое убежище.
Где он его нашел? Никто этого не знал, по крайней мере, точно ничего не было известно. Маршал Сульт отправил офицера на поиски, чтобы передать ему приказание выступать с рассветом, в три часа утра.
Расположившись в хижине угольщика, на прогалине леса, капитан Жан Шен с своей ротой охранял пересечение трех дорог.
Было 10 часов; отец Марсели один при свете лампы занимался, желая убедиться в возможности победы.
Ему доложили, что провиантский офицер желает его видеть.
По его приказанию офицер был введен.
Это был старик Картан.
Оба бросились в объятия друг друга.
– Жан, – начал старик, – знаешь ли ты, что назавтра назначено сражение?
– Знаю.
– Мы окунемся в огненную пещь: Бог знает, кто из нас останется в живых. Вот отчего я пришел тебе напомнить, что у нас с тобой есть на душе обязательство.
Жан вздрогнул и, проведя рукой по лбу, проговорил:
– Ты говоришь о Марсель?
– Да… Жан… ты должен отдать мне должное, что до сих пор я не требовал от тебя откровенности. Я люблю дочь твою, ты знаешь, как собственную… может быть, даже больше: в мои годы торопишься любить из страха, что, пожалуй, недолго осталось любить…
Он остановился, затем взял Жана Шена за руку и продолжал:
– Я не знаю, ни кто ты, ни кто она…
Жан Шен собирался ответить ему.
– Дай мне высказаться, – продолжал старик. – Между нами не должно быть ничего недосказанного, мы настолько уважаем друг друга, что нам нечего прятаться друг от друга. Каким образом я стал дедушкой Марсели, я тебе сейчас напомню.
…С тех пор прошло 15 лет – это было в конце 1800 года; я в то время был молодым человеком, так как вступил в жизнь только в первые дни революции, в 1789 году мне было 25 лет… Не буду напоминать тебе, какую роль мне пришлось играть до 95 года. Я боролся, я любил мою родину, я принадлежал ей всецело; ни в одном моем поступке я не раскаиваюсь, я горжусь, что не погиб в борьбе, в которой сгинули люди посильнее меня. Не будем на этом останавливаться. Если я наделал ошибок, я за них жестоко наказан, я видел Брюмер! После покушения, от которого погибла республика, сознаюсь, я был близок к отчаянью, я был похож на сироту, у которого на главах убили бы мать, которую он не в силах был спасти. Я решил покинуть родину и уехал из Парижа, чтобы обратить в деньги кое-какое имущество, я отправился к старинным друзьям нашей семьи, как ты знаешь, я – бретонец из окрестностей Редона. Там меня снова обуяла страсть к изучению кельтских древностей, которому предавался Ла Тур д’Овернь. Казалось бы, отчего мне там не остаться неизвестным, забытым. Моя милая жена, которая не расставалась никогда со мной, поддерживала меня в моем намерении, и мы решили там основательно устроиться.
В это время, точно в силу подражания преступлению, совершенному в Париже, вооруженные шайки бродили по Нормандии, Анжу, в Мэне, Бретани. Это были уже не вандейцы, даже не шуаны, а просто-напросто грабители и разбойники, которые не останавливались ни перед пожарами, ни перед убийством.
Я жил в маленьком бурге Лангон и мало выходил, но я не раз слышал рассказы о ночных нападениях в окрестностях, а именно в Брене, в Селе, в Гишене. Уединенные жилища были разграблены дочиста.
Моя бедная жена, столь храбрая во всех пережитых нами катастрофах, умоляла меня покинуть страну, она боялась этих разбойников, и я сам, признаться сказать, думал с отвращением о том, что мне придется защищать мою жизнь и жизнь близких мне от этих низких грабителей. Однажды ночью, именно 28 декабря, кто-то громко постучал в мою дверь. Дом, который я занимал, стоял далеко от всякого жилья, и я сознавал в душе, что он подвержен опасности более, чем другой. Я работал, жена моя заснула подле меня в кресле. Я встал и взяв ружье, которое я держал наготове заряженным, спустился с лестницы как можно тише. Второй раз застучали в дверь, но, странная вещь, ни возгласа, ни крика. Без сомнения, готовилась какая-нибудь западня, но я был не из тех, которые бы продали свою жизнь за дешевую цену. Я подошел к двери и приложил ухо. Ничего! Совершенная тишина. Весь вечер шел снег, и я решил, что на глубоком снегу не слышны шаги. Я все прислушивался, эта тишина начинала меня тревожить, быть может, более всякого шума. Прошло несколько минут, шум не повторялся. Очевидно, ложная тревога. Я поднялся к себе наверх так же осторожно и застал жену уже проснувшейся, она стояла в комнате в недоумении: куда я мог деться?
– Пустяки… Мне послышался какой-то подозрительный шум, – сказал я ей, возвратясь. Она страшно перепугалась, я всячески старался ее успокоить, смеясь над ее страхами, и, чтоб доказать ей, как они неосновательны, я открыл окно, все еще при оружии, и высунулся в него. На дороге не было ни души, передо мною расстилалась безмолвная, унылая степь, занесенная снегом.
– Посмотри сама, – обратился я к моей дорогой жене, – все совершенно тихо.
Она высунулась тоже, наполовину успокоенная.
– Послушай, – вдруг воскликнула она, – там у дома на каменной ступеньке, посмотри, что там такое.
Я стал смотреть по направлению, которое она мне указала, и разглядел черную массу, какое-то темное пятно на белой ступени.
И вдруг – о, я никогда не забуду этой минуты, этой секунды… раздался медленный, слабый крик, похожий на крик раненой птицы.
Я обернулся – жена моя уже исчезла. О сердце матери, которое бьется в груди каждой женщины! Она никогда не слышала этого крика, я не знал счастья иметь ребенка. Но она не ошиблась в нем, она в один прыжок была уже внизу, своими маленькими ручками она не раскрыла ворот, но, в своем возбуждении, положительно взломала железную решетку, и в этой раме раскрывшихся ворот она, торжествующая, держала на руках ребенка.
Маленькое, несчастное существо… Скольких лет? Около двух… Не больше… грациозная, прелестная, миниатюрная девочка! Она была почти голая, вся холодная, но живая… Как все это творится, непостижимо; но через несколько минут девочка была уже отогрета, одета и, улыбаясь, протягивала ручки жене. Сколько было восторгов, радости – ты можешь себе представить, как быстро прошла для нас ночь. Тем не менее, когда настало утро, я сказал жене: у ребенка есть отец и мать, и я сейчас же отправлюсь их разыскивать.
Она держала ребенка на коленях, он спал, она прижала его к себе и с тревогой во взоре сказала мне:
– Отец, мать! Что ты говоришь? Неужели ты не понял?
– Послушай, Жан, не знаю, насколько было верно то, что предполагала моя жена, но если я никогда и не упоминал об этих подробностях, то только потому, что страшился пробудить в тебе мучительные воспоминания, позабытую злобу… против матери, которая могла бросить своего ребенка!
Картам остановился и взглянул на Жана Шена, который, облокотясь на стол, держал себя за голову. Не поднимая головы, он сделал знак старику продолжать.
– Это предположение, – продолжал Картам, – как бы ни было ужасно, было правдоподобно, но я не считал себя вправе поддаваться ему, останавливаться на нем и, не сделав сперва всех попыток к раскрытию истины, оставить у себя ребенка. Жена моя, моя Марсель, – она тоже носила это имя, которое я, из любви к ней, дал найдёнышу, – боялась, что я узнаю истину. Случай послал ей ребенка, он был ее теперь, ее собственностью, и она не желала расставаться с ним.
Но при всей страстности ее сердца она была строго честная натура, и было решено, что я не остановлюсь ни перед чем, чтобы удостовериться в подлинности несчастной малютки, которая уже совсем обжилась в доме, со свойственной этому блаженному возрасту милой беззаботностью. Она, целуя мою жену, называла ее мама! Но заверяю тебя честью, что на следующий день было немыслимо приступить к исполнению моего намерения: с шести часов утра поднялась такая буря, что нас совсем занесло снегом. Да я, признаться, и не особенно огорчился: тот стук в мою дверь, желание обратить мое внимание, затем то, что ушли только тогда, когда услыхали, что я схожу вниз, – все это, при ближайшем обсуждении, убеждало, что ребенок был подкинут намеренно. Два дня, по крайней мере, мы были буквально под снегом. Не было никакой возможности открыть даже окна, такой был страшный занос. Наконец на третий день стихло. Я надел мой толстый плащ, взял дерновую палку; жена не делала мне вопросов, она молча поняла, в чем дело, и, прижимая к себе ребенка, заливалась слезами. Быть может, никогда еще мне не было так тяжко исполнение долга… Я вышел. Я сделал не более шестидесяти шагов от дома, как почувствовал, что меня хватают и увлекают куда-то с тем насилием, которое знакомо тем, кто попадал в руки адептов деспота: я отбивался, я кричал, все напрасно, через час я был доставлен в замок Редон, без всякого объяснения причины моего ареста.
Что сказать тебе дальше, приятель, чего бы ты не знал так же хорошо, как и я? Только в Нанте, при отплытии в Новый Свет, я узнал, что я, ни в чем не повинный, расплачивался за покушение Нивоза, за эту адскую махинацию, за преступление Сен-Режана и роялистов.
Я не имел возможности даже написать письма жене, сосланный в Магэ, потом выброшенный с тридцатью злополучными товарищами сперва на остров Анжуан, потом на Коморские острова, затем бежал, был взят в плен англичанами – чего только не было! Сегодня не хочу напоминать все, что я вынес из-за этого человека. Пусть он спасет Францию, я всё ему прощу! В 1806 году я вернулся в Париж, на все готовый, даже убить собственноручно того, кто именовал себя императором. Но что говорить о политической злобе! Мне предстоял иной удар, который должен был меня сразить.
Я не без труда напал на след моей жены. О несчастная женщина! как она постарела! Шесть месяцев ее уже не покидала лихорадка; наше скромное довольство сменилось бедностью…
А знаешь ли, что она сказала мне, когда я, рыдая, припал к ее кровати? «Пьер, я не хотела умирать, покуда ты не вернешься, из-за ребенка».
А она, малютка, такими серьезными глазками смотрела на ту, которая по праву и по долгу заменяла ей мать и которая не хотела умереть, не сдав ее с рук на руки…
Она в то злополучное утро, когда я исчез из дому, когда я был арестован, собрала все средства и бежала в Париж. Она рассчитывала на Фуше… Невинная! Фуше ответил ей типичной фразой:
– Людоед почуял свежее мясо… Ничего не поделаешь!
– Тем не менее он помог ей деньгами. Ведь и в грязи иногда бывают капли воды с отблеском бриллианта!.. Я презираю и ненавижу этого человека… но эти несколько золотых, брошенных свысока, спасли его от моего гнева… Я ему никогда не сделаю зла.
И в течение пяти лет, пяти веков агонии, она ждала меня, не зная даже, где я, не получая ни одного из тех писем, которые я пытался ей отсылать всякими путями.
В морском министерстве к нам относились, как к покойникам.
К чему будоражить всю эту грязь? Приходится выносить лютых зверей; о них не рассуждают.
И в окружающем ее мраке единственным светом был ребенок, который рос. Но, увы! как она сама мне сказала, моя дорогая, моя незабвенная подруга жизни, она ждала меня только для того, чтобы передать мне завет своего сердца. Умирая, она вложила в мою руку руку дитяти, которое с ужасом смотрело на меня, преждевременного старика, седовласого, исхудалого, с впалыми глазами. И вот таким-то образом я стал дедушкой Картам.
Бывший ссыльный остановился от слез, Жан Шен молчал.
– Затем, – продолжал Картам, – однажды, в 1806 году, в то время, когда я шел напролом, когда я всецело отдался служению свободе, когда я вел войну посредством заговоров с всемогущим цезарем, избранным нашими сотоварищами в начальники филадельфов, планы которых Малэ слишком скоро и слишком рано раскрыл, я встретился с тобой, другом Уде. Я признал в тебе товарища по оружию, я полюбил тебя, как сына. Ты мне сказал однажды: «Я – отец Марсель, верь мне и не расспрашивай». Я знал, что ты не способен на ложь, я отвечал тебе: Марсель твоя дочь, верю тебе. Марсели я велел тебя поцеловать, и пакт был заключен. Ты мне ничего не объяснил, я тебя не расспрашивал. Но как мог ты, брат по оружию, у которого не было тайн от меня, который делил со старым воином надежды, ненависти, привязанности, как мог ты молчать, когда дело шло о ребенке, который для меня дороже всего в мире? Понимал ли ты мое нетерпение, которое иногда прорывалось наружу помимо меня?
По временам мне безумно хотелось отнять у тебя Марсель, закричать тебе: ты солгал, она моя, только моя! Но появлялась она, протягивала руку каждому из нас, называя одного отцом, другого дедушкой, и лишь только она заговорит, мои сомнения исчезали; я верил, что ты открыл мне истину.
В настоящее время, Жан Шен, обстоятельства изменились. Мы мужчины, и нам нечего сентиментальничать. Борьба, которая готовится, будет ужасна, ты или я, а, может быть, и мы оба исчезнем с лица земли, уничтоженные картечью. Так как ни ты, ни я, мы себя щадить не будем, быть может, в эту самую минуту какой-нибудь солдат заряжает орудие, которому суждено нас убить.
Что ж делать – но Марсель! Если ты погибнешь, неужели ты хочешь, чтобы она осталась навсегда найденышем, без роду и племени, без всяких прав, без всякого общественного положения… Если я останусь жив, положим, я ее усыновлю, но если я тоже буду убит, неужели ты хочешь, чтобы она осталась дважды одинокой, выброшенной из общества; глупые предрассудки, которые тебе известны… Вот, приятель, что я считал себя обязанным тебе высказать. Марсель в Бомоне, она не пожелала быть вдалеке от нас; эта храбрая девушка, которая и нас любит и французское отечество, последовала из сострадания ко мне, из любви к тебе, из преданности ко всем людям, которым предстоят страдания. Если ты непременно желаешь, чтобы она не знала истины… пусть, по крайней мере, в случае смерти нас обоих, она знает свое имя. Неужели я должен об этом у тебя ходатайствовать? Одно только слово еще – неужели тебе это все никогда не приходило самому в голову, Жан Шен? В жизни вообще, а в наше время в особенности, могут быть трагические случайности. Что, если когда нас не станет, она, не подозревая того, не желая, очутится лицом к лицу с кем-нибудь из своей семьи, с сестрой, с матерью?..
– Ея мать умерла! – заметил Жан Шен.
– Убежден ли ты, можешь ли ты поручиться, что нет никого на свете, в ком бы текла та же кровь, что в Марсели? В эти времена политической вражды, которая заставляет молчать всякое сострадание, разве не может случиться, что, несмотря на то что она женщина, почти ребенок, судьба ее зависит… почем знать – от кого? Может быть, от кого-нибудь, кто при имени ее забудет гнев, откажется от мести. Ради нее, ради ее спасения я умоляю тебя быть со мной откровенным, Жан. У нас обоих одна забота. Если бы ты обратился ко мне с такой просьбой, я бы давно тебе все открыл…
– Я открою тебе все совершенно откровенно, – сказал Жан, вставая. – Довольно подлости. Это долг, который я обязан исполнить, и благодарю тебя, что ты мне о нем напомнил.
– Поспешай, время дорого, я должен быть на своем посту. Старики, как я, должны быть прежде всего аккуратны.
– Выслушай же меня, – начал Жан Шен, и лицо его приняло грустное выражение. – Собственно, имя мое ничего тебе не откроет, меня зовут Жан де Листаль. Я родился в центральной Франции. Мой род старинный дворянский. Отец мой эмигрировал в 1791 году. Мне тогда было шестнадцать лет. Он не взял меня с собой за границу, вероятно, чтобы не возиться с лишней обузой. Он умер, и я простил ему. Люди того времени и той среды жили другой жизнью, чем мы, дышали другим воздухом; не будем мерить их нашей меркой.
Я с 1792 года был предоставлен себе; управляющий, которому я был сдан отцом на руки, эмигрировал в свою очередь и был увлечен потоком энтузиазма, который несся по Франции.
Я очутился в Париже – каким образом? Едва это помню. Я исходил половину Франции. Не имея ни родных, ни денег, ни места, я случайно попал на площадь Пантеона во время набора. Голоса вибрировали, на эстраде развевались знамена, над которыми господствовало, точно погребальный балдахин, черное знамя отечества в опасности, люди взывали о помощи! Я поднялся по ступеням, я вписал свое имя, я стал солдатом. О незабвенные, великие дни!.. Мы страдали, голодали, шли босыми, но все взоры были направлены на отчизну, которую мы видели перед собой, которая призывала нас.
С Люкнером я вошел в Менен, в Ипр, в Куртрэ. Я дрался в Касселе с австрийцами. С Келлерманом я брал Лонгви.
Уж я не помню всего – все эти имена носятся у меня в голове точно в каком-то вихре страсти и славы. Я рыдал в бешенстве, когда после Нервинда бесстыдный Дюмурье сдался неприятелю. Я ликовал от радости после Ватиньи.
В 1794 году я, пигмей, был в армии великанов, одним из победителей Флерюса! О, до чего я, не признающий моего происхождения, до чего я гордился собой!
В 1795 году я отправился с Лазарем Гошом в Вандею, а в 1796 году я последовал за ним в Ирландию. Серьезная рана, – пуля пробила мне грудь, – заставила меня вернуться во Францию. Корабль выбросил меня на берег Бретани.
Казалось, все затихло в этом краю. Меня высадили полумертвого в окрестностях Ренн. Крестьяне подняли меня в овраге близ дороги. Это были добряки, арендаторы, ни синие, ни белые, которым ничего не надо было, кроме труда и отдыха.
Три месяца я был между смертью и жизнью. Как избежал я могилы, которая ожидала меня? Женщина, самая прелестная, добрая, лучшая из всех женщин, спасла меня.
– Кто такая?
– Ее имя – Бланш де Саллестен.
– Де Саллестен? – воскликнул Картам. – Я слышал уже это имя, но где?
– Я тебе сейчас напомню… Каким чудом, происходя из феодальной фамилии, в которой царили узкие взгляды, предрассудки, ненависть ко всякой свободе, к свободе ума, положения, могла она, эта чудная девушка, почувствовать сострадание к «синему», которого отец ее непременно бы расстрелял, если бы только имел возможность.
Предвечная доброта совершает иногда подобные чудеса. Бланш, тайно от всех, ходила за мною, за неизвестным человеком, и когда я вернулся к сознанию, я увидал ее у моего изголовья с улыбкой на устах, настоящую сестру милосердия, которая спасала человека, не спрашивая ни его имени, ни об его убеждениях.
Не требуй от меня, о друг мой, чтобы я сегодня отдался воспоминаниям того счастливого, опьяняющего периода моей жизни, после которого я понять не могу, как я не умер от катастрофы, послужившей ему жестокой развязкой.
Бланш де Саллестен, старшая из этой суровой семьи, гордившейся каким-то приморским герцогством эпохи самых древних времен нашей истории, была нелюбима в семье, не признана, брошена. За что? А вот за что. У нее был воспитатель, развитой человек, нечто вроде аскета, голландец, потомок Аффиниуса ван-ден-Энде, который чуть не свергнул Людовика XIV, и вот он вложил в сердце этой молодой девушки свою любовь к добру и к свободе. Он посеял в ее душе, точно со злобой мести, все зародыши нравственной независимости, которые были свойствами его души, и ее уму, для которого, по воле других, все было сокрыто, никакая истина не была доступна, который питался преданием, он вдруг раскрыл широкие, безграничные горизонты справедливости…
Тогда в замке, в ее отчем доме, начались для нее непрерывные гонения, какая-то семейная инквизиция, какое-то бешенство пытающих, доведенных до отчаяния своим бессилием.
У нее была сестра; с первым словом, которое она пролепетала, отец завладел ею всецело: ее сердце, ее ум были для него то же, что для скульптора кусок глины; он вылепливал из них то, чего желал; они навсегда сохранили отпечаток его антипатий, его злобы, его страстей.
Вторую сестру звали Регина, она была по природе доброй, и долго Бланш боролась из-за нее с палачом ее душевных свойств, стараясь ее спасти от этого прокустова ложа, которое атрофировало ее мысли, взгляды, молодость.
Но отец сторожил, и в этой семье, где родительский авторитет был сознательно преступен, где покорная мать не имела никакой воли, в результате явилось вот какое положение: брат (был и брат) и сестра, ненавидящие, презирающие свою же родную сестру, относились к ней, как к бесноватой, точно к какому-то дьявольскому отродью, которое своим ядовитым дыханием отравляет воздух. И несчастной девушке, бесконечно доброй, жаждущей привязанности, разумной в любви, пришлось выносить ежеминутную пытку.
Зачем не смирялась она? Зачем не преклонилась она перед этим авторитетом, который точно издевался над самыми святыни влечениями ее души? Быть может, она и желала подчиниться, делала к тому попытки, смирялась и снова возмущалась. Есть натуры по природе слишком честные. Однажды, после какого-то спора, или скорее проклятия, ее выгнали из дому.
Она ушла, обезумев от ужаса и отчаяния. Она шла, сама не зная куда, с чувством страха, что, быть может, весь мир против нее, заодно с теми, кто к ней так жесток. Брат ее, как и отец, крикнул ей: «Убирайся!» Сестра, к которой она с мольбой протянула руки, посмотрела ей прямо в лицо и отскочила в ужасе.
Неужели всегда везде все будут ее ненавидеть, презирать, и она будет совершенно одинока? Она обратилась к простому люду, к мужикам, добрым, простым, живущим уединенно, скромно, своим трудом. Они не отвергли ее. Они потеснились, чтобы дать и ей местечко у себя, и дочь именитой фамилии де Саллестен, гордясь теперь тем, что она теперь никому не в тягость, трудом своих рук платила за право жизни.
Так продолжалось два года. Ей было двадцать лет в то время, когда случайно на дороге был поднят умирающий.
Он тоже покинул феодальный замок из жажды света, из любви к солнцу…
И в первый раз Бланш во всей невинности неофита познала, что она понята, что она, кроме того, любима.
Когда я поправился, мы навсегда принадлежали друг другу.
Я прямо отправился в замок де Саллестен, и, быть может, первый раз в жизни с гордостью назвал свое имя, которое для этого рода людей устраняло всякую мысль о неравности брака.
Меня стали расспрашивать; я рассказал мою жизнь. Солдат республики! И меня прогнали! Впрочем, этого надо было ожидать.
Тогда я вернулся к Бланш, и нас обвенчал один священник.
Из наследства после отца я собрал кое-какие крохи. Я был молод, силы вернулись ко мне. Я купил домик в окрестностях Редон, в нескольких шагах от деревни, где ты жил. Мы с тобой никогда не встречались, – неудивительно. Наше одиночество вдвоем с Бланш, a затем втроем, когда она стала матерью, было для меня раем.