Текст книги "Павел I"
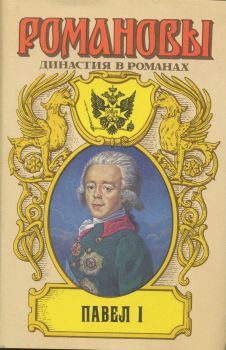
Автор книги: А. Сахаров (редактор)
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 60 страниц)
XXV
При Павле Петровиче Петербург во многих отношениях представлялся совершенно иным городом в сравнении с тем, чем он был в царствование Екатерины. Хотя в последние годы своей жизни императрица начала стараться о том, чтобы искоренить у себя в государстве дух свободомыслия и вольнодумства, но клонившиеся к этому меры не проглядывали вовсе во внешней жизни столицы. В Петербурге, как казалось, всё шло по-старому, и город не имел того вида, какой он получил при Павле Петровиче. При императрице дисциплина в гвардейских полках соблюдалась очень слабо: изнеженные гвардейские офицеры в её времена не носили вне службы мундиров. Они являлись на улицах летом во французских кафтанах, а в зимнее время с муфтами в руках, разъезжая в каретах. Как они, так и вообще все тогдашние петербургские щёголи внимательно следили за парижскими модами, а когда, под влиянием французской революции, были выведены из употребления прежние костюмы, то и в Петербурге оставили пудру и стали носить фраки и круглые шляпы, шнурованные сапожки, суковатые палки и огромнейшие кисейные жабо, так что смиренные петербургские горожане усвоили себе подобие свирепых и отчаянных французских революционеров.
Со вступлением на престол Павла Петровича во всём этом произошла быстрая и резкая перемена. Он повелел офицерам являться всюду в нововведённых им мундирах на прусский образец и запретил им ездить по городу иначе как только: летом в дрожках, а зимою – в одноконных санях. Впрочем, в отношении одежды подошли под строгие требования государя не одни только военнослужащие, но и вообще всё мужское население Петербурга. Так, в январе 1798 года было объявлено от полиции, чтобы «торгующие фраками, жилетами, стянутыми шнурками и с отворотами сапогами или башмаками с лентами их отнюдь не продавали, под опасением жестокого наказания». Вместе с этой угрозой для того, чтобы вернее обеспечить сделанное по городу распоряжение, приказано было: «все упомянутые вещи, находящиеся у торговцев, представить в полицию». Вдобавок к этому полицейские мушкетёры стали ходить по улицам с палками и ими сшибали круглые шляпы с тех дерзновенных, которые после такого запрета отважились показываться в недозволенном головном уборе. Дозволено было носить только «немецкое платье с одинаковым стоячим воротником»; запрещены были «всякого рода жилеты», а разрешены были только «немецкие камзолы»; предписывалось не носить «башмаков с лентами», а только «с пряжками»; не дозволялось «увёртывать шею безмерно платками, галстуками и косынками, но повязывать оные приличным образом, без излишней толстоты». Вид тогдашних больших жабо, вошедших в моду, которые Павел Петрович называл «хомутинами», приводил его в страшный гнев. Приказано было также, чтобы «никто тупеев, опущенных на лоб, не имел». Все офицеры, гражданские чины, дворяне и люди, носящие немецкое платье, обязаны были пудриться. Вообще Павел Петрович терпеть не мог модных французских нарядов и говорил, что терпит в Петербурге семь модных французских магазинов только по числу семи смертных грехов.
Требования императора не ограничивались только этим.
Известно, что Пётр I запретил при встрече с ним падать ниц на землю, объявив, что такое поклонение подобает воздавать единому только Богу. Император Павел хотя и не восстановил старинного поклонения, но потребовал изъявления знаков особого уважения к его особе. При представлении ему следовало не просто стать на колено, но стукнуть при этом коленом об пол так сильно, как будто ружейным прикладом. Поданную государем руку следовало целовать так громко, чтобы чмоканье было слышно на всю залу. Несоблюдение этого правила нередко навлекало его опалу. На улицах не только мужчины, но и дамы, встречавшиеся с ним, должны были, несмотря на дождь, снег, слякоть и грязь, выходить из экипажей, причём дамы из страха делали ему глубокий реверанс, остановившись среди улицы, хотя им, в виде снисхождения, и дозволено было исполнять это на подножке кареты. От такой обязанности не была освобождена и императрица, которой, впрочем, августейший супруг оказывал то особенное внимание, что в ответ на отданную ему императрицею почесть сходил с коня или высаживался из экипажа и подавал ей руку, чтобы помочь её величеству сесть опять в карету или в сани. Полиция бдительно следила за каждым выездом государя из дворца, полицейские конные драгуны скакали, а пешие мушкетёры бежали во всю прыть, приказывая встречным на пути снимать не только шляпы, но перчатки и рукавицы. Мимо дворца государева позволялось проходить не иначе, как сняв шляпы, а гулявшие в Летнем саду, считавшемся дворцовым, должны были всё время прогулки ходить с непокрытыми головами. Следить за обязанностью петербургских жителей – отдавать государю на улицах почесть – сделалось ещё затруднительнее, когда Павел Петрович, так сказать, раздвоил свою особу на личность великого магистра. Если государь появлялся на улице в сопровождении свиты или прислуги, одетой в красный цвет – цвет мальтийского ордена, то он почитался как бы только великим магистром, и тогда никто не должен был замечать его присутствия в столице, а мчавшиеся и пешие, и коннополицейские чины, в противность обыкновенному порядку, то грозно кричали встречным, то убедительно просили, чтобы они не снимали шляп при проезде императора.
Понятно, что при таких условиях улицы Петербурга бывали большею частью пусты, все избегали встречи, которая могла навлечь страшные неприятности, а однажды в течение нескольких дней в Петербурге почти вовсе не показывалось экипажей. Как-то в присутствии генерал-губернатора Архарова император, взглянув в окно, увидел экипаж с лошадьми в немецкой упряжи. Государь похвалил эту упряжь, и в тот же день вышло распоряжение, чтобы все жители столицы завели немецкую упряжь, так как с 1 сентября 1798 года никому не позволено будет «ездить по городу в дрожках; а также цугами в хомутах».
Случились и другие ещё внешние преобразования в Петербурге. Так, например, запрещено было иметь на магазинах и лавках вывески на французском языке, а вслед за тем не дозволено было называть торговые заведения магазинами, ввиду того, что только правительство может иметь магазины провиантские и комиссариатские. Частные постройки в Петербурге чрезвычайно замедлялись в царствование Павла Петровича, так как, вследствие желания его окончить сколь возможно скорее постройку Михайловского замка, не дозволено было продавать кирпич никуда, как только для этой постройки.
При Павле Петровиче Петербург начинал принимать вид военного города: на тогдашних его окраинах деятельно строились казармы и кордегардии, расчищались поляны для обучения войск, по улицам беспрестанно проходили то полки, то отряды, то караулы, то патрули, и в разных местах столицы в течение целого дня слышались и пальба, и барабанный бой, под который экзерцировались гренадеры и мушкетёры. На ночь петербургские улицы, как было в стародавнее время, запирались рогатками, при которых выставлялись военные караулы. К одиннадцати часам ночи всё было тихо: огни всюду были погашены, и, судя по всей обстановке, можно было подумать, что Петербург состоял на военном положении.
Общественная жизнь в Петербурге совершенно изменилась против прежнего: не было даже здесь не только блестящих балов и шумных празднеств, какие ещё недавно задавали екатерининские вельможи, но и вообще были прекращены все многолюдные увеселения и даже такие же домашние собрания. Полиция зорко следила за тем, чтобы в частных домах не было никаких сборищ, и вмешательство её в общественные увеселения дошло даже до того, что запрещено было «вальсовать или употреблять танцы, которые назывались вальсеном».
Несмотря, однако, на бдительность и строгость полиции, по рассказам одного иностранца, жившего в Петербурге в царствование Павла Петровича, господствовало здесь бешеное веселье. Приезжавшие на вечер гости отпускали домой свои экипажи, а шторы с двойной тёмной подкладкой мешали видеть с улицы освещение комнат, где не только танцевали до упаду, между прочим и «вальсен», но и велись речи самые свободные и произносились суждения самые резкие. Не всегда, впрочем, всё это сходило счастливо с рук и танцующим, и болтающим. Очень часто на другой день после тайного пира во двор гостеприимного хозяина вкатывала тройка с полицейским офицером, приглашавшим его отправиться в места более или менее отдалённые. Такой же невольный вояж приходился нередко и на долю его неосторожных гостей. Вообще, высылка из Петербурга была одной из наибольших практиковавшихся как предупредительных, так и карательных мер при Павле Петровиче. Высылались и царедворцы, и сановники, и генералы. Так, однажды санкт-петербургскому обер-коменданту барону Аракчееву была прислана следующая собственноручная записка государя: «посоветуйте бывшему обер-гофмейстеру графу Румянцеву, чтобы он, не заживаясь в Петербурге, поезжал в другое какое место». Спустя после этого некоторое время санкт-петербургский генерал-губернатор граф Пален получил от государя для немедленного объявления и такового же исполнения следующий указ: «княгине Щербатовой, по известному приключению, отказать приезд ко двору, выслать её из Петербурга и, в пример другим, воспретить въезд в столицы и места моего пребывания».
Второму с. – петербургскому генерал-губернатору было немало хлопот по высылке разных лиц из Петербурга, особенно в последнее время царствования Павла Петровича, когда должность эту занимал граф Алексей Петрович Пален.
18 марта 1799 года государь, возвратившись домой с обычной предобеденной прогулки, потребовал, чтобы Пален немедленно явился к нему. Пален во всю прыть понёсся во дворец, окружённый, по тогдашнему обычаю, верховыми адъютантами и конными полицейскими драгунами. Разговор императора с генерал-губернатором был очень непродолжителен. Пален вышел из его кабинета с озабоченным видом и, спустившись с лестницы в сени, сказал поджидавшему его там адъютанту:
– Поезжай сейчас к графу Литте и доложи его сиятельству… – Пален несколько призамялся, как будто соображая что-то, – доложи его сиятельству, что я имею безотлагательную надобность его видеть, да, чтобы не встревожилась графиня, добавь, как будто от себя, что нужно мне свидеться с его сиятельством не по чему иному, как только по мальтийским делам. Понимаешь?..
– Понимаю, ваше сиятельство! – отрапортовал вытянувшийся в струнку адъютант и, вскочив на лошадь, поскакал к «поручику» или наместнику великого магистра мальтийского ордена, графу Литте.
Спустя несколько времени Литта, совершенно спокойный, входил в кабинет генерал-губернатора.
– Вы, ваше сиятельство, – сказал ему после взаимных приветствий по-французски Пален, – не получали ещё от графа Ростопчина никакой бумаги?
– Нет ещё, – отвечал Литта.
При этом ответе по губам Палена пробежала какая-то странная улыбка.
– А не позволите ли, любезный граф, попотчевать вас стаканом лафита, я на этих днях получил превосходное вино, – проговорил скороговоркой генерал-губернатор, направляясь к двери, как будто для того чтобы сделать распоряжение об угощении Литы.
Услышав это предложение, Литта вздрогнул, нервная дрожь подёрнула мускулы его лица.
– Неужели дело дошло до этого? – проговорил он взволнованным голосом, с изумлением глядя на Палена.
– К сожалению!.. – отозвался Пален, с выражением безнадёжности пожав плечами.
– А сколько сроку? – спросил оправившийся Лита.
– Четыре часа, – коротко отрезал Пален.
– Бедная моя жена!.. – в отчаянии воскликнул Литта, закрыв глаза руками. – Такое неожиданное несчастье поразит её!
– Поэтому-то я, – сказал с большой любезностью Пален, – и постарался выманить вас поскорее к себе, то есть сделать так, чтобы графиня не знала ничего. Я не приехал к вашему сиятельству, потому что очень хорошо знаю, какую тревогу производит появление моё в чьём-нибудь доме: мне известно, что я не считаюсь отрадным вестником…
– Благодарю вас за внимание, – проговорил Литта. – Но неужели нельзя изменить этого решения? Неужели нельзя выпросить хоть какой-нибудь отсрочки?..
– Не думаю, – холодно ответил Пален и, взяв за руку Литту, подвёл его к окну кабинета, выходившему во двор. – Вот видите, граф, – сказал Пален, указывая Литте на стоявшие во дворе по случаю распутицы и зимние кибитки, и летние тележки, – здесь шесть тележек и столько же кибиток, и я сам не знаю, переменятся ли запряжённые в них лошади до того времени, когда мне самому придётся прокатиться на одной из них. Теперь я высылаю на них других, а, быть может, через несколько часов и сам усядусь в одну из них. У каждого из нас есть никому не ведомый роковой черёд.
– Это, однако, нисколько не утешительно, – с заметным раздражением проговорил Литта.
– Разумеется, – отвечал хладнокровно Пален и, уперев в Литту свои умные и проницательные глаза, насмешливо добавил: – Впрочем, не сами ли вы, граф, всегда повторяли, что безусловное повиновение – первая добродетель мальтийского рыцаря; вот теперь вам и предстоит случай выказать на деле эту добродетель, исполнив безотлагательно волю великого магистра и императора и не ставя меня в печальную необходимость…
– О, будьте уверены, ваше сиятельство, что я не доведу вас ни до малейшей неприятности, – сказал твёрдым и громким голосом Литта и, дружески простившись с генерал-губернатором, вышел из его кабинета.
Чем спокойнее входил туда Литта, тем сильнее должно было его озадачить приглашение Палена – выпить лафиту. Всему Петербургу был известен настоящий смысл такого потчевания, так как оно во избежание подготовительных объяснений делалось со стороны генерал-губернатора тем, кому он должен был объявить высочайшее повеление о выезде из столицы.
Возвратясь домой от Палена, Литта нашёл у себя письмо, присланное от графа Ростопчина. В письме этом великий канцлер мальтийского ордена сообщал Литте, что его величество, имея в виду, что он, граф Литта, получил за своею супругою весьма значительные имения, находит, что для успешного управления этими имениями графу Литте следовало бы жить в них, выехав поскорее из Петербурга, тем более что пребывание в деревне может быть полезно и для его здоровья. К этому Ростопчин прибавлял, что на место его, Литты, на должность «поручика» великого магистра назначен государем граф Николай Иванович Салтыков.
Разумеется, что Литте, поражённому происшедшей неизвестно по какой именно причине опалою государя, не оставалось ничего более, как приготовиться к отъезду в тот короткий срок, который был объявлен ему генерал-губернатором. В доме графа началась суета и сборы в дорогу, когда получено было от Ростопчина другое письмо, в котором он сообщал, что хотя его величество и не отменяет своего распоряжения о выезде графа Литты из Петербурга в имение его супруги, но что тем не менее дозволяет ему пробыть в столице столько времени, сколько потребуется для устройства его городских дел. Литта знал, однако, что на первых порах всякая попытка об отмене сделанного разгневанным государем распоряжения будет совершенно бесполезна, а промедление, хотя бы и дозволенное, может усилить неудовольствие и подозрительность императора, а потому он поспешил поскорее выбраться из Петербурга и уехать с графиней в принадлежавшее ей богатое село Кимру.
С отъездом из Петербурга Литты деятельность его по делам мальтийского ордена прекратилась до воцарения императора Александра Павловича.
XXVI
– Я на беду мою связался с этими вероломными союзниками, с этими макиавеллистами; в них нет никакой прямоты; они в личных своих интересах заставили меня жертвовать моими войсками, – повторял с негодованием Павел Петрович, когда заходила речь об Англии или об Австрии, из которых первая так двоедушно поступала при отнятии у французов острова Мальты, а другая так вероломно держала себя во время похода русских в Италии и в Швейцарии.
Всё сумрачнее, всё подозрительнее и всё грознее становился император, и были у него для этого причины. Дела мальтийского ордена беспрестанно раздражали его. Часто переносился он в воспоминания своего детства и своей юности, когда благочестивая и воинственная Мальта так сильно увлекала его пылкое воображение и когда ему, как будто в забытьи, то чудился победный клич рыцарей-монахов на полях битв, то слышалось их молитвенное пение под сводами древнего храма. Но тогда была пора восторженных мечтаний, а теперь действительность развёртывала перед ним совершенно иную картину. Из-за мальтийских рыцарей ему приходилось горячиться, ссориться, хлопотать и вести уклончивую дипломатическую переписку, вовсе не подходившую к его прямодушию. Прежнее обаяние, навеянное на него рыцарством, постепенно исчезало, и теперь перед глазами Павла вместо доблестного рыцарства являлись происки, интриги, подкопы, заискивания, самолюбивые и корыстные расчёты. Не осуществились его мечты и о восстановлении прежних законных порядков в Европе: французские революционеры, которые, по его выражению, «фраком и круглою шляпою, сею непристойною одеждою, явно изображали своё развратное поведение», обратились теперь в бестрепетных воинов, они шли от победы к победе и грозили пронести своё торжествующее трёхцветное знамя из конца в конец по целой Европе… С горестью в сердце разочаровался император и в дружелюбии, и в признательности к нему христианских монархов: союзы, заключаемые с ними Павлом Петровичем, были крайне неудачны; и «цари», спасать которых повелевал он Суворову, оказывались теперь во мнении императора недостойными жертв, так великодушно принесённых им для восстановления и поддержания их шатких престолов.
Отказавшись от прежних своих стремлений и мечтаний, император под влиянием Грубера перешёл к другой политике.
Первый консул Французской республики Бонапарт, узнав о положении, занятом при императоре Павле Грубером, вошёл с ним в сношения. Со своей стороны Грубер писал прославившемуся победами полководцу, что он довершит свою славу восстановлением во Франции Христовой церкви и монархии, и намекал, что при таком образе действий он найдёт для себя самого надёжного союзника в особе императора Павла. Сношения эти шли так успешно, что в мае 1800 года явился в Петербург таинственный посланец первого консула, а Грубер начал выставлять императору молодого правителя Франции восстановителем религии и законных порядков. Со свойственною Павлу Петровичу пылкостью он увлекался теперь мыслью о союзе с Бонапартом против вероломной Англии, с которой и готовился начать войну за Мальту весной 1801 года.
Грубер приобретал всё более и более влияния и силы, наконец ему удалось избавиться от злейшего врага, митрополита Сестренцевича.
Однажды Грубер завёл речь с государем о том, что дома, находившиеся и ныне находящиеся на Невском проспекте и принадлежавшие церкви св. Екатерины, состоят под самым небрежным управлением; а графиня Мануцци как будто случайно проговорилась пред государем о том, что не худо было бы эту церковь со всеми её домами передать ордену иезуитов, устранив от заведования ею белое духовенство.
Сестренцевич ничего не знал об этих кознях, когда вдруг совершенно неожиданно был объявлен ему чрез генерал-прокурора указ о служении в церкви св. Екатерины одним только иезуитам, а вслед за тем митрополиту было сообщено о запрещении являться ко двору. Иезуитская партия возликовала, но ей готовилось Грубером ещё большее торжество.
Ночью, в одиннадцать часов, когда митрополит уже спал, ему доложили о приезде полицмейстера Зильбергарниша, настоятельно требовавшего свидеться с его высокопреосвященством. Когда неожиданный ночной посетитель вошёл в спальню Сестренцевича, то объявил ему высочайшее повеление: «немедленно встать, одеться и отправиться ночевать в мальтийский капитул, а квартиру свою уступить аббату Груберу». Изумлённый митрополит вскоре, однако, оправился. Он вспомнил времена своей военно-походной службы и собрался живою рукою. В то же время приказано было и всем священникам выбраться из церковного дома куда им угодно. На другой день Грубер вступил хозяином в свои благоприобретённые владения.
– Признайтесь, что я хорошо вымел церковь, – с торжествующим видом сказал он сопровождавшим его сторонникам.
После этого Грубер явился к государю.
– Что нового в городе? – спросил его император.
– Смеются над указами, данными вашим величеством в нашу пользу, – проговорил Грубер.
– Кто? – порывисто спросил Павел Петрович.
Грубер вынул список, в котором было записано двадцать семь лиц, самых враждебных иезуитизму; во главе их значился Сестренцевич.
Указанные лица, кроме митрополита, были тотчас же арестованы, а Сестренцевич получил предписание выехать немедленно из Петербурга в своё поместье Буйничи, находившееся в шести верстах от Могилёва; при этом местному губернатору предписано было строго наблюдать, чтобы удалённый из столицы прелат никуда не отлучался из места своей ссылки, никого бы не принимал, никого бы никуда не посылал и ни с кем бы не переписывался. Грубер, однако, не удовольствовался этим и готовил митрополиту в близком будущем уютное местечко в Петропавловском равелине.
Изменяя так часто и свои политические взгляды, и свои чувства, Павел Петрович не изменял усвоенного им образа жизни. Он и зимой и летом в пять часов утра был уже на ногах, и нездоровье никогда не удерживало его в постели долее этого времени. Хотя он вырастал и мужал в эпоху безверия, господствовавшего при дворе Екатерины II, но первые воспоминания и привычки детства, проведённого им в царствование богомольной Елизаветы, сохранили над ним свою прежнюю силу. Он во всю жизнь был чрезвычайно набожен и каждое утро долго и усердно молился, стоя на коленях, и в гатчинском дворе пол комнаты, смежной с кабинетом и служившей ему местом молитвы, был протёрт его коленями. Окончания молитвы государя ежедневно ожидали в его приёмной генерал-губернатор и комендант, являвшиеся к нему с докладом и получавшие от него приказания. В восемь часов император выходил к производившемуся перед дворцом разводу, после которого он ездил по городу или верхом, или в экипаже, иногда один, иногда с государынею. В последний год его жизни эти прогулки хотя и повторялись ежедневно, но они ограничивались так называвшимся «третьим» садом, который примыкает ныне к Михайловскому дворцу.
Утро 11 марта 1801 года началось в Михайловском замке обычным порядком. В шесть часов утра явился туда генерал-губернатор граф Пален, привёзший с собой на этот раз для доклада государю и для его подписи множество бумаг. В числе лиц, находившихся в приёмной, он встретил патера Грубера, который, пользуясь правом являться к государю без доклада, хотел и теперь пройти в его кабинет, но Пален остановил его.
– Я имею для доклада его величеству чрезвычайно важные дела, и вам придётся очень долго ждать моего выхода из кабинета, – сухо проговорил Пален иезуиту.
– Я пришёл к его величеству тоже с чрезвычайно важным делом – с проектом о соединении церквей, – возразил Грубер.
– Очень хорошо, о вашем проекте вы доложите государю после, – и с этими словами Пален, не слишком вежливо отстранив иезуита от двери, захлопнул её перед его носом.
Пален, входя в кабинет государя, увидел в приотворённую дверь, что он стоял у стола, на котором лежали две бумажки, свёрнутые в трубочки. Пален успел подсмотреть, как император, перекрестясь набожно три раза, взял одну из этих бумажек, развернул её и быстро взглянул на написанное на ней одно слово. Пален, как и другие приближённые к государю, могли, видя это, догадываться, что дело шло о замене одного какого-нибудь высокопоставленного лица другим, так как в подобных случаях Павел Петрович решал вопрос о новом назначении, бросая жребий. Не мог догадаться Пален только об одном, а именно о том, что на одной из виденных им бумажек было написано «Пален», а на другой – «Аракчеев». Государь начинал уже сомневаться преданности к нему Палена и намеревался заменить его Аракчеевым. Вероятно, жребий выпал в пользу Аракчеева, так как в тот же день к Аракчееву послано было от государя приказание, чтобы он немедленно приехал в Петербург из пожалованного ему села Грузина, куда он, несколько времени тому назад, должен был удалиться на житьё, подвергнувшись неожиданной опале государя.
Доклад генерал-губернатора шёл очень долго, между тем государь, постоянно отличавшийся точностию, спешил на развод. Грубер, остававшийся в предкабинетной зале, волновался и злился, с нетерпением ожидая выхода Палена.
– Ну, всё ли ты кончил и нет ли ещё чего-нибудь у тебя? – спросил государь с явным выражением нетерпения и в движениях и в голосе.
– Я кончил всё, но патер Грубер желает войти к вашему величеству… – доложил Пален.
– Что ему нужно? – отрывисто спросил император.
– Говорит, что пришёл с проектом о соединении церквей, – с лёгкой усмешкой заметил генерал-губернатор.
– Знаю я его проекты, это старая погудка на новый лад. Ну его! Пусть убирается; скажи ему, что мне теперь некогда; может прийти в другой раз, – с заметной досадой проговорил император.
Пален, крепко недолюбливавший Грубера, не без удовольствия передал ему отказ императора в сегодняшнем приёме. Точно громовым ударом поразили иезуита слова генерал-губернатора. Он побледнел и растерялся, полагая, что лишился милостивого расположения государя, что теперь пропала вся его долголетняя, неутомимая работа и что борьба, которую он вёл со своими противниками так упорно, не привела его ни к чему. Подавленный и расстроенный, он нетвёрдыми шагами вышел из приёмной государя.
Резкое обращение Палена с Грубером, считавшимся в ту пору едва ли не всемогущим лицом у государя, произвело на присутствующих сильное впечатление. Пален обвёл их глазами с торжествующей улыбкой и насмешливо посмотрел вслед иезуиту, уходившему с понуренною головой.
– Должно быть, отец Грубер недосмотрел, откуда сегодня дует ветер, – ухмыляясь, проговорил бывший в приёмной генерал Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов, обращаясь к стоявшему подле него князю Лопухину. – Ведь, кажись, как хитёр, а, должно быть, ещё не подметил, что у нас делаются теперь дела смотря по тому, откуда дует ветер.
– Да, странная особенность в природе государя, – отозвался шёпотом Лопухин. – Он становится особенно мрачен и недоволен, когда дует северный ветер. Граф Иван Павлович давно уже заприметил и говорил мне, что это случается с его величеством с самых ранних лет.
– Оттого-то, видно, Иван Павлович и умеет так сохранить к себе неизменную благосклонность государя. Он знает, откуда дует ветер и о чём в какую пору можно докладывать его величеству, – подсмеиваясь, заметил Кутузов, желавший, чтобы император, который был сегодня не в духе, не потребовал его к себе или не заговорил бы с ним.
Желание Кутузова на этот раз исполнилось. Государь, выйдя из кабинета, не обратил внимания ни на кого из находившихся в приёмной и отправился прямо на развод, происходивший, по обыкновению, на плац-параде перед Михайловским замком.
После обеда императрица с фрейлиною Протасовою поехала в Смольный монастырь, а государь отправился с графом Кутайсовым верхом, на обычную прогулку. В воздухе в этот день веяло весенним теплом. Государь, объехав аллеи сада, повернул домой и медленно, в глубокой задумчивости, въехал в ворота недавно занятого им Михайловского замка. На фронтоне этого замка, выглядывавшего грозной недоступной твердыней среди мрамора и гранита, ярко блестела при лучах склонявшегося к закату солнца начертанная золотыми буквами надпись: «Дому твоему подобает святыня Господня в долготу дней».
В девять часов вечера император сел по обыкновению за ужин. Из семейства государя за столом находились великие князья Александр и Константин Павловичи с их супругами и великая княжна Мария Павловна; а из посторонних лиц статс-дамы: графиня Пален с дочерью, баронесса Ренне и графиня Ливен, камер-фрейлина Протасова, генерал М. И. Голенищев-Кутузов с дочерью, обер-камергеры граф Строгонов и граф Шереметев, обер-гофмаршал Нарышкин, шталмейстер Муханов и сенатор князь Юсупов. За ужином император был мрачен и неразговорчив.
В десять часов с четвертью государь, встав из-за стола, пошёл в свои покои, с ним побежала, ласкаясь к нему и как будто задерживая его на ходу, любимая его собачка шпиц.
Ещё не занималась на небе утренняя заря, когда в городе началось какое-то суетливое, необыкновенное движение. Гвардейским полкам был отдан приказ тотчас собраться на полковые дворы, и там принесли они присягу на верность вновь воцарившемуся Александру Павловичу, а высшие военные и гражданские чины безотлагательно созывались особыми повестками в Зимний дворец. Между тем в Михайловском замке дежурный гофкурьер записывал следующее: «сей ночи, в первом часу с 11-го на 12-е число, скончался скоропостижно в Михайловском замке государь император Павел Петрович».
Кончина императора застала Грубера среди обширных замыслов и приготовлений. Хотя влияние его на политические дела при новом государе тотчас же прекратилось, но орден иезуитов утвердился в России. Император Павел отправил к избранному под его влиянием в 1799 году папе Пию VII собственноручное письмо, прося его святейшество о восстановлении в пределах России иезуитского ордена на прежних основаниях. Ответ папы на это письмо не застал уже в живых государя. «Возлюбленный мой сын, – писал Пий VII Павлу, – мера сия полезна. Она будет противодействовать стремлениям, направленным к ниспровержению религии и общественных порядков». Император Александр Павлович привёл в исполнение желание своего родителя, и вскоре деятельный поборник иезуитизма, Грубер, был избран генералом, или «шефом» восстановленного ордена, но недолго пришлось ему стоять во главе Общества Иисуса.
В ночь с 25 на 26 марта 1805 года показалось над Петербургом зарево. По улицам загремели трещотки, поскакали пожарные, помчались полицейские драгуны и повалил народ к месту пожара, который вспыхнул на Невском проспекте в доме католической церкви. В одном из окон охваченного пламенем здания вдруг сильно зазвенели стёкла, и в разбитой раме показалось искажённое ужасом лицо Грубера. Он пытался, но не мог пролезть в раму, чтобы броситься на улицу, а между тем из окна выбились густые клубы чёрного дыма и рванулось вверх красное пламя. Грубер исчез. Когда же пожар окончился, то найдены были обуглившиеся останки патера в том помещении, из которого он вытеснил митрополита Сестренцевича.
Судьба мальтийского ордена после кончины его пылкого защитника была печальна. Около этого воинственно-монашеского учреждения сосредоточивались в царствование Павла все главные нити нашей внешней политики, и дела ордена вовлекли Россию в войну сперва с Франциею, а потом с Англиею. Император Александр Павлович нашёл необходимым устранить те затруднения, в которые ставило его соединение сана великого магистра с саном русского государя. На четвёртый же день по вступлении своём на престол он объявил, что «в знак доброжелательства и особого благоволения» принимает орден св. Иоанна Иерусалимского под своё покровительство, но что вместе с тем он будет оказывать своё содействие к избранию великого магистра, достойного предводительствовать орденом, когда с согласия прочих дворов можно будет назначить место и средства к созыву генерального капитула. Вслед за тем он приказал отменить изображение мальтийского креста в русском государственном гербе и вовсе не намеревался отнимать у англичан Мальту ни в пользу ордена, ни в пользу России. Хотя, по амьенскому договору, англичане обязались возвратить остров мальтийскому рыцарству, но они и не думали исполнить своё обещание, а в 1814 году Мальта была окончательно оставлена за ними. Покровительствуемые императором Павлом мальтийские кавалеры обратились после его кончины в странствующих рыцарей, отыскивая себе пристанища при разных европейских дворах, а сан великого магистра, так высоко поднятый могущественным русским государем, достался после него мало кому известному командору Томази.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































