Текст книги "Павел I"
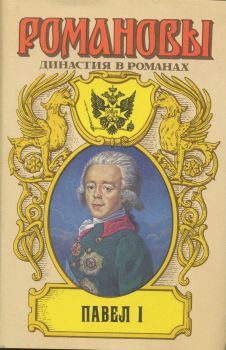
Автор книги: А. Сахаров (редактор)
Жанр: Историческая литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 49 (всего у книги 60 страниц)
– Да вы, сударь, говорите, как эгалитер, – сказал иронически Штааль. «Не велика мудрость толстую купчиху изобличать», – подумал он.
– Нет, какой я эгалитер! Разве коллекционер человеческой глупости, и то нет: надоело и это.
Солнечные лучи вспыхнули, прорезав туман, осветили голубой бархат стены, хрусталь люстры, золото тяжёлых канделябров. Штааль невольно сошёл с дорожки, проложенной по средине узкой длинной комнаты, и заглянул в окно. День был ослепительно светлый. Вдали на Царицын луг проходил кавалергардский полк. Он шёл по новому порядку, «колено с коленом сомкнувшись», с дистанцией в одну лошадь между шеренгами. В первой шеренге в середине каждого эскадрона чуть колыхались штандарты. Люди, в великолепных мундирах, украшенных белыми крестами, на тяжёлых гнедых лошадях с красными вальтрапами,[254]254
Вальтрап – род верхнего чепрака в некоторых родах конницы нашей, который кладётся не под седло, а сверх его. – прим. Bidmaker.
[Закрыть] двигались медленно, непостижимо ровно. Солнце сверкало на пиках и кирасах.
– Вот это прекрасно! – сказал Ламор, с любопытством вглядываясь в даль утомлёнными прищуренными глазами. – Сколько красоты и поэзии во всём этом! Вот, мой юный друг, истинное назначение армий: парады. Подумайте, как безобразна война: как на ней всё нелепо, бестолково, до ужаса грязно… Не надо больше войн, мой друг, повоевали, и будет. Я неизменно говорю это и другому моему приятелю, генералу Бонапарту. Жаль, что он плохо слушает, как и вы, впрочем… Хорошо идут, а? Удивительный, на редкость красивый полк. Пожалуй, другого такого нигде не сыщешь. В дни моей молодости хорошо ходил наш Royal-Cravates, синяя кроатская кавалерия на французской службе… Мудро, мудро устроена эта отдушина: какая дивная система для уловления молодых душ! Нет человека, который в семнадцать лет всем этим не грезил бы – и слава Богу! Если б вы не грезили этим, то грезили бы чем-нибудь похуже – похождениями Картуша, величием Робеспьера…
Кавалергарды медленно уходили вдаль.
– Не дай Господь, чтоб на это прошла мода, – продолжал Ламор. – Быть может, именно это спасёт вас от колеса или гильотины… Впрочем…
Он замолчал и оглянулся. В комнате никого не было.
– Что, мой друг, плачут царские кони?
– Как вы говорите? Я не понимаю…
– Это не я, это Плиний… Плиний говорит, что лошади льют слёзы, когда их хозяевам грозит опасность. А другой древний лгун, Светоний, утверждает, что незадолго до мартовских ид заплакали горькими слезами кони, на которых Цезарь перешёл Рубикон.
– Что вы хотите сказать?
Ламор пожал плечами.
– То, что говорит, кажется, весь Петербург. Мой друг, носятся упорные слухи о заговоре против императора Павла.
– Я ничего не знаю! Может быть, вам что-либо…
Голос Штааля дрогнул. Ламор посмотрел на него внимательно.
– Это весьма удивительный заговор. Все о нём говорят – и ничего… Я иностранец, по-русски не понимаю ни слова, а слышал. А вот ваша страшная Тайная экспедиция…
Он опять взглянул на побледневшее лицо Штааля и замолчал.
– Вот что, мой милый друг, – заговорил снова Ламор серьёзным тоном. – Меня всё это не касается, но я втрое старше вас и видел побольше вашего. Ничего я этого не знаю и не хочу знать… Впрочем, нет, очень хочу знать, но не знаю… – Он опять помолчал, вопросительно глядя на Штааля. – Я, конечно, ни о чём вас не спрашиваю, я так говорю, на случай чего: не лезьте вы в это дело, – вы, шальной юноша, господин Питтов агент, – вставил он с усмешкой. – Поверьте, ничего хорошего из этого не выйдет. А выйдет, так вас не очень поблагодарят… Других, может быть, поблагодарят, а вас едва ли… Не напоминаю вам, конечно, о присяге – это пустяки. Когда вас приводили к присяге, то, верно, не спрашивали, согласны ли вы присягать или нет, правда? Вы тотчас присягнёте другому царю, и дело с концом… При всех переворотах первым делом те же люди присягают новой власти, и она всегда чрезвычайно этому рада – я никогда не мог понять почему… Однако причины вам лезть в эту петлю я не вижу решительно никакой. Правда, осведомлённые люди утверждают, что ваш монарх сошёл с ума. Но, во-первых, ещё нужно доказать, что страна не может п р о ц в е т а т ь при сумасшедшем монархе. По моим наблюдениям, народы и страны более или менее одинаково п р о ц в е т а ю т при всяких правителях и правлениях. А во-вторых, не во всём верьте и осведомлённым людям. Помните мудрое изречение: «Qui veut noyer son chien, L'accuse de la rage».[255]255
Каждый ищет оправданий своим поступкам. (Букв.: кто хочет утопить свою собаку, утверждает, что она бешеная.) (фр.).
[Закрыть] Я вот недавно беседовал с одним либеральным помещиком. Уж так он бранил все ваши порядки – и верно, поделом, – пуще всего бранил разрыв дипломатических сношений с Англией: безумие, кричит. А потом выяснилось, что вследствие разрыва дипломатических сношений с Англией у всех русских помещиков доходы уменьшились втрое: некому продавать хлеб, дерево, лён. Я и думаю: хороший помещик, либеральный помещик, но, может быть, разрыв с Англией и не такое уж безумие, а? С английской точки зрения, конечно, безумие; как с русской, я не знаю, а с мировой – это вещь полезная. Почему не стать на мировую точку зрения? Во всяком деле первая вещь – точка зрения… Будет очень хорошо, если наши монархи назло Англии возьмут и заключат союз.
– Как это монархи? У вас ведь республика.
– Ах да, я забыл… Ну да всё равно… Первый консул знает, что делает, стремясь к соглашению с Россией. Надо бы ему помочь в интересах мира… Впрочем, всё это – высшая политика, а вам я попросту говорю: по дружбе вам советую стать на такую точку зрения, чтоб не соваться в это дело. Опять же, если оно не выйдет, у вас могут быть серьёзные неприятности. Например, колесо. Я это в молодости не раз видал на Гревской площади – помните, недалеко от Notre Dame есть большая площадь? В доброе старое время на казни съезжалось всё лучшее общество. Я в жизни не видал сборищ приятнее… Но висеть на колесе, могу вас уверить, вовсе невесело. У вас, кажется, более принято четвертование? Что ж, Бёрк недавно доказал, что ко всем национальным обычаям следует относиться с полным уважением. Четвертование так четвертование. Вот вы и представьте себе, как вас разденут и начнут привязывать к лошадям и как вы тогда вспомните, что можно было пить вино, ухаживать за хорошенькими женщинами или хоть со мной, стариком, болтать а? Не лезьте, право… Не говорю уже о мелочах, вроде Тайной экспедиции с кнутом и другими хорошими вещами. В Тайной экспедиции, наверное, сидят изобретательные люди. В этой области есть в любой стране такие Франклины, такие Лавуазье, что невольно гордишься даровитой человеческой породой… Серьёзно вам говорю, милый друг, любя вас говорю, не лезьте вы в это дело и друзьям советуйте не лезть.
– Да о чём вы говорите, не понимаю, – сердито сказал Штааль. – Я не участвую ни в каком заговоре.
– Ну и хорошо, если так, – произнёс Ламор с видом полного одобрения и замолчал.
– Вот поживёте с моё, – начал он снова, – сами увидите: не стоило ни в какие истории лезть… Ведь сколько мне осталось жить? Год, два, предположим пять лет, хоть это почти невероятно. Я вспоминаю: что было пять лет назад? Да ведь точно вчера это было!.. Стоит ли стараться, а? Есть люди, – сказал он злобно, – есть люди, которые утешаются тем, что их переживёт какое-то д е л о… Это самые глупые из всех: складывают ноли и радуются воображаемой сумме.
«И то пора тебе, в самом деле, помирать, – подумал Штааль, вспоминая, что Ламор ещё семь лет тому назад, при первом их знакомстве, говорил ему о своей тяжёлой болезни и о близкой кончине. – Всё врал, разумеется…» Ему хотелось напомнить об этом Ламору. Они шли минуты две молча. Штааль искал случая проститься. Им повстречался неторопливо гулявший по залу величавый каштелян замка в странном, очень длинном малиновом мундире с золотыми кистями.
– Вы, что ж, во двор не идёте? – спросил он Штааля, покровительственно кивнув головой.
– Зачем во двор?
– Сегодя там представляются его величеству и благодарят. Как погода очень хорошая, то во дворе. Или не интересно посмотреть?
– Очень интересно, да разве можно присутствовать?
– Отчего же? Не воспрещается, ежели вас сюда пустили… Публика всегда есть. Кого даже и приглашают. Высовываться вперёд, конечно, не годится.
Штааль не перевёл Ламору слов каштеляна. «Ещё тоже увяжется, Бог с ним, надоел. Много очень говорит и не в своё дело суётся…» Он простился со стариком и направился во двор кратчайшей дорогой, указанной ему каштеляном.
VIIIИмператор должен был приехать с вахтпарада, производившегося на Царицыном лугу. В восьмиугольном внутреннем дворе замка представлялись офицеры гвардейских полков, не принимавших участия в вахтпараде, а также другие лица, которым в этот день надлежало за что-либо благодарить государя. Была во дворе и посторонняя публика. Около одной из ниш, вблизи перистиля, стояли стулья, очевидно для приглашённых на церемонию почётных гостей. Штааль увидел здесь и дам. Среди них он узнал падчерицу Екатерины Лопухиной, Анну Петровну, недавно выданную замуж за князя Гагарина. Другие зрители, служащие Михайловского замка или случайно, как Штааль, затесавшиеся люди, робко жались друг к другу по углам, видимо не зная точно, имеют ли они право присутствовать на церемонии.
Порядок до приезда государя соблюдался нестрого. Некоторые из представлявшихся ещё гуляли под колоннами перистиля, выходили на лестницу замка или любезничали с приглашёнными дамами. Большинство офицеров, однако, уже стояло группами, по полкам. Лица у многих были встревоженные, даже испуганные. Командиры полков тщательно с ног до головы осматривали каждого нового офицера: за упущение в форме можно было и виновному, и командиру угодить в ссылку или, по крайней мере, в чистую отставку. Штааль тоже с беспокойством себя осмотрел, хотя было маловероятно, чтобы государь обратил внимание на постороннюю публику. Штааль занял место в кучке служащих замка, подальше, ни к кому не подходя. Он издали смотрел на Анну Петровну, по-прежнему не находил её красивой и по-прежнему удивлялся тому, как в не очень красивую женщину может быть влюблён государь. Говорили, что император влюблён в Гагарину больше прежнего, а к госпоже Шевалье будто бы остыл. Говорили, впрочем, и обратное. Штаалю понравилось, как скромно и просто держала себя Анна Петровна (её все хвалили за простоту и за то, что она, как прежде Нелидова, часто заступалась за пострадавших и ходатайствовала о них перед государем). К ней многие подходили. В то время как её увидел Штааль, с Гагариной разговаривали Зубовы, князь Платон, недавно по ходатайству Палена возвращённый в Петербург после долгой опалы, и его брат, граф Николай, огромного роста гусарский офицер с грубым, отталкивающим пьяным лицом. Платон Зубов, видимо, рассыпался в любезностях перед Анной Петровной. «Верно, считает себя неотразимым, красавчик», – с насмешкой подумал Штааль, хоть он теперь, после встречи в приёмной военного губернатора, был доброжелательно настроен в отношении бывшего фаворита Екатерины. Анна Петровна, как показалось Штаалю, с робостью смотрела своими кроткими глазами на Зубовых, особенно на Николая.
Несколько поодаль от представлявшихся групп офицеров Штааль увидел с удивлением графа Никиту Петровича Панина, недавно подвергшегося опале и уволенного от должности вице-канцлера. «Он-то за что же благодарит?» – озадаченно спросил себя Штааль. Рядом с Паниным стоял взволнованный мальчик в мундире пажа. Они двое и составляли в этот день группу благодарящих. По-видимому, соседство мальчика раздражало бывшего вице-канцлера. Панин старался казаться спокойным и даже слегка улыбался. Но лёгкая судорога изредка дёргала его тонкое, умное и жёлчное лицо. Паж испуганно на него поглядывал. Граф Панин вызывал всеобщее любопытство. Но он ни к кому не подходил и холодно-учтиво отвечал на поклоны. Впрочем, кланялись опальному сановнику далеко не все его знавшие.
«А ведь ежели есть заговор, то здесь должно быть немало участников, – подумал Штааль со смешанным чувством страха и радости. Он переводил взгляд от одной полковой группы к другой, стараясь угадать заговорщиков. – Зубовы? Да, вероятно… Платон Александрович, конечно, ненавидит государя. И у Палена он тогда был, верно, неспроста. Кто же ещё? Панин, что ли? А дальше?.. – Штааль вглядывался в офицеров, стараясь прочесть на их лицах: участвуют ли они в заговоре или нет. Лица ровно ничего об этом не говорили. – Ведь есть же, говорят, такие, что читают в душах, как в книге… Верно, врут это… Ну, вот бы у меня кто прочёл в лице, участвую ли я или не участвую, особливо ежели я и сам этого не знаю?.. Глупое, правда, моё положение… Однако, коль на то пошло, за чем дело стало? Чего проще его тут же зарубить саблями, – какая здесь может быть охрана? – думал Штааль, замирая. – Может, и вправду царя сегодня убьют? Верно, за ним следуют?.. Не предупредить ли его? Нет, это было бы подло… А почему же подло? Разве я дал им слово молчать? Разве они мне открыли всю правду? Напротив того, я присягал государю, собственно, мой долг и есть в том, чтобы всё ему донести… Правда, я никогда не донесу, но на то моя добрая воля… И вправду, пора положить край этой тирании» – нерешительно думал Штааль, всё больше теряясь в своих мыслях.
Он продолжал осматривать собравшихся, почему-то вдруг вспомнив сцену во дворе Якобинского клуба. Внезапно за группами офицеров по другую сторону двора под его взгляд попала томно порхавшая Екатерина Лопухина. «Её только здесь не хватало… Как бы не увидела меня», – подумал Штааль и ретировался в сторону, так, что семёновские офицеры закрыли от него Лопухину. Но в ту же секунду она снова где-то выпорхнула. Лицо Екатерины Николаевны сияло. «Что же она не подойдёт к Анне Петровне?.. Говорят, в семьях Лопухиных и Гагариных Екатерину Николаевну не переносят – считают её за фамильный скандал и несчастье древнего рода… Потому Рюриковичи… У всех у них, у Рюриковичей, что ни говори, особое достоинство… Иные и милости Анны Петровны, слышно, не рады. С чего же Лопухина этакой именинницей ходит? Кто с ней? Ах, то-то: наследник, не кто иной». Великий князь Александр, принуждённо улыбаясь и, видимо, думая о другом, рассеянно разговаривал с Екатериной Николаевной. «Говорят, она имеет на него виды. Тоже губа не дура… Какой, однако, красавец великий князь! Правду говорят, ангельское лицо: что за чистота в выражении! Вот бы кого в цари…» Александр Павлович поцеловал руку Лопухиной (она просияла ещё больше), быстро отошёл от неё и занял место впереди офицеров Семёновского полка. В ту же секунду офицеры, гулявшие у перистиля, бросились по местам. Панин с неприятной улыбкою оглянулся на вытянувшегося рядом пажа. «Ужели государь едет? Не может быть, рано, да и дали бы знать, ежели б государь», – подумал Штааль и, оглянувшись, увидел, что из открывшейся, настежь большой стеклянной двери замка вышел граф Пален. Он командовал парадом. Пален, отдавая честь, неторопливо прошёл по двору, внимательно оглядывая зорким взором каждую группу. Увидев вице-канцлера, он удивлённо поднял брови, затем, что-то вспомнив, усмехнулся и слегка развёл руками.
– Государь император прибудет не ранее как через полчаса, господа, – сказал он громко, закончив обход. Во дворе снова началось движение.
– А как сошёл вахтпарад? – беспокойно спросил кто-то вполголоса.
– Как сошёл, ещё не знаю, полковник, – очень серьёзным тоном сказал Пален, – а начался плохо. Я оттуда. Государь император нынче с утра гневен.
Лица у слышавших его слова побледнели. Известие мгновенно передалось во все концы двора, миновав только Гагарину, которая, беспокойно оглядываясь по сторонам, сидела у статуи Славы. Некоторые из служащих замка стали исчезать. «Не убраться ли и мне подобру-поздорову, пока цел?» – спросил себя Штааль. Но любопытство в нём превозмогло тревогу. На людях не было страшно. Группы во дворе снова разбились. Поднялся гул, более взволнованный, чем прежде.
Пален приблизился к отставному вице-канцлеру и вместе с ним прошёл к стеклянной двери. Все провожали их глазами. Они поднялись по лестнице.
– Ты за сенаторское звание благодаришь? – спросил Пален с нескрываемой насмешкой, садясь на бархатный небольшой диван и показывая своему собеседнику место рядом с собою (этот жест тотчас раздражил Панина – точно Пален разрешал ему сесть). – Впрочем, ты больше и не сенатор.
Они приходились друг другу родственниками и были на «ты», несмотря на разницу в летах. Пален говорил по-немецки: немецкий язык в ту пору был уже мало распространён в обществе.
– Так пришёл откланяться, говорят, нужно, – отрывисто ответил Панин, неохотно принимая и эту меру предосторожности, и иронический тон своего собеседника. – Благодарить мог бы разве за приказ немедленно выехать из Петербурга в деревню… Сегодня утром получил.
– Я знаю. Ничего не мог поделать.
– Я тебя и не виню.
– Едва ли он будет с тобой говорить, – сказал Пален, подумав. – Он очень зол на тебя… Лучше бы ты и не являлся, а написал письмо Гагариной. Графине передай моё искреннее участие. Впрочем, за тебя я могу лишь порадоваться. Отдохнёшь душою от этого сумасшедшего дома… Да и голова останется на плечах, чего нельзя с уверенностью сказать о других (он привстал и заглянул вниз). Но для дела твой отъезд – истинное несчастье. Ещё хуже, чем эта глупая смерть Рибаса… Нам не везёт.
– Я присутствовал при этой г л у п о й с м е р т и, – сказал, хмурясь, Панин. – Вернее, я не отходил от него с той минуты, как он впал в беспамятство. Это было ужасно… Рибас бредил и мог проговориться… Я безотлучно был при нём, следил за каждым его словом, заглушал его голос, когда входили близкие… Разве теперь можно кому верить?
– Враги его у нас говорили, будто он не надёжен, – сказал Пален. – Ходил, ходил такой слух…
Панин вспыхнул.
«Точно такой же слух ходит о тебе», – подумал он с раздражением.
– Р и б а с ничего дурного не сделал, – сказал сухо Панин. – А вот кто может поручиться, что надёжны те молодчики, которых ты ежедневно вербуешь?
– Никто не может поручиться.
– Так что же ты делаешь? – с горячностью произнёс Панин. – Я не скрываю, не я один удивляюсь.
– Укажите мне, пожалуйста, другой, безопасный способ привлечения людей к заговору. Я с удовольствием приму… Какие вы удивительные люди, – сказал Пален. Он снова привстал, заглянул вниз через перила (в вестибюле по-прежнему не было никого). Я отлично знаю, что вы все мною недовольны. Отчего же вы не возьмёте дела в свои руки? Я охотно уступлю. Может быть, Талызин с братьями-масонами? Или князь Платон, а? Или – чего же лучше – ты сам?
– Ты прекрасно понимаешь, что это невозможно, – ответил, сдерживаясь, Панин. – Меня высылают из Петербурга, да я штатский человек. Руководить военным заговором может только военный с большим именем.
– Так возьмите Зубова, ведь он генерал-фельдцейхмейстер.[256]256
…ведь он генерал-фельдцейгмейстер… – то есть «полный» генерал в артиллерии и инженерных войсках с 1699 по 1796 год. (В Табели о рангах отнесён к чинам 2-го класса.) Павел I, упразднив этот чин в армии, оставил звание генерал-фельдцейгмейстера как почётное именование младшего сына в императорской семье. С 1798 года это звание носил четвёртый сын императора Павла, Михаил Павлович.
[Закрыть]
– Полно шутить. Зубов воин из будуара императрицы и… Ну ты сам знаешь. Талызин – храбрый и п о р я д о ч н ы й человек (Панин невольно подчеркнул это слово), но он молод и неопытен. После смерти Суворова ты один имеешь должный авторитет в офицерстве…
– Тогда предоставьте мне поступать так, как я считаю нужным. С тех пор как существует мир, заговорщиков, думаю, вербовали именно так, как их вербую я. Других способов я не знаю. Разумеется, риск есть, страшный риск… Тайная канцелярия, правда, ничего не делает помимо меня… Что?
– Ничего, – ответил Панин, стискивая зубы.
– Тебе не нравится? Талызину тоже не нравится, – (он сказал пренебрежительно: dem Talysin). – В остальном вы не похожи друг на друга, а в этом сходитесь. Хороши бы мы были, ежели б я не стоял во главе Тайной канцелярии. Могу тебя уверить, что вы с Талызиным уже висели бы теперь на дыбе… И не вы одни…
Он помолчал.
– Я говорю, за Тайную канцелярию я более или менее спокоен. Но кто же может поручиться (как ты справедливо выражаешься), что один из тех молодчиков, которых я вербую ежедневно, не донесёт обо всём прямо государю? Никто не может поручиться. Очень трудно устроить заговор с ручательством… Я каждое утро, выходя из дому, готовлю себя к тому, что больше никогда не вернусь. Каждый день жизни я рассматриваю как дар судьбы. Вполне возможно, что государь сегодня же пошлёт за Аракчеевым. Может, он уже послал. Знаю, что он подозревает о заговоре… Он всех подозревает, – но больше всего… больше всего тех, кто действительно в заговоре участвует. От природы он человек неглупый. Быстро теряет рассудок, но, кажется, не совсем ещё потерял. Я знаю, он хочет заменить меня Аракчеевым. Тогда с вами будет разговор.
«С в а м и? Отчего же не с н а м и?» – спросил себя Панин.
– Пока всё же он ещё м н е верит… Ты только и умел с ним поссориться. Это очень нетрудно. Вы обвиняете меня в двоедушии, я это прекрасно знаю… Я всё знаю – больше, чем вы, быть может, думаете. Однако на моём двоедушии держится всё дело. Каких усилий мне всё это стоит, как мне всё это гнусно и гадко, не стану говорить. Но я это делаю для России…
В глазах Панина что-то мелькнуло.
– Я это делаю для России, – повторил Пален, чуть повысив голос и отчеканивая каждое слово: Was ich tue, das tue ich fur Russland…[257]257
То, что я делаю, я делаю для России… (нем.).
[Закрыть] Я знаю, моё немецкое имя внушает вам недоверие. У русского дворянства недоверие к людям с немецким именем – старинный и неизменный признак либерализма… Твою матушку звали, однако, баронесса Вейдель. Но, разумеется, решающее значение имеет кровь отца, – сказал он с насмешкой. – Иначе, может быть, и русских среди нас не осталось бы… Всё-таки, поверь мне хоть в этом, я такой же русский патриот, как вы с Талызиным. Шестой десяток живу, служу России, как могу, и ничем, слава Богу, пока русского имени не посрамил.
– Да кто же сомневался?..
– Ну, тем лучше, если никто не сомневается. Так повторяю, пока Павел мне верит. Но, в самом деле, к т о м о ж е т п о р у ч и т ь с я, – (он опять иронически подчеркнул это выражение), – что один из завербованных мною молодчиков сегодня же, да вот здесь на представлении, не доложит всего государю?
– И что же тогда?
– Тогда пришлось бы действовать решительно: тут же, – сказал Пален равнодушно. – Боюсь только, как бы после этих решительных действий солдаты не подняли нас на штыки… Ну да что говорить заранее! Пока никто не донёс. Разумеется, – сказал он, смеясь, – я не так уж во всём открываюсь молодым шалопаям, о которых ты говоришь и без которых, к сожалению, нельзя осуществить дело. Жаль, что покойный Фонвизин – тот, что комедии писал, – не видал меня с некоторыми из них. Я иногда сам себе напоминаю не то заклинателя змей, не то Месмера, не то злодея из пьесы сочинителя Коцебу. Это прекрасно действует почти на всех… Кстати, ты не знаешь господина фон Коцебу?
– Того, что заведует немецким театром? Встречал, кажется.
Пален опять засмеялся.
– Знаешь ли ты, чем он сейчас занят? Павел осчастливил его литературным заказом. Ему приказано составить от имени государя вызов на дуэль всем монархам.
– Что такое?
– Я говорю, государь вызывает на дуэль всех европейских монархов.
– Какой вызов? Это шутка?
– Вовсе не шутка. Впрочем, не знаю – разве у него разберёшь? Как бы то ни было, Коцебу приказано составить вызов, который будет напечатан в русских и в иностранных ведомостях.
– Да кому вызов? Какая дуэль? Что за вздор!
– Знаю только, что я и Кутузов – секунданты. Принимаю поздравления.
– Да где ж это видано?
Пален пожал плечами.
– Где видано, чтоб мёртвым людям делали выговор? Объявил же он выговор умершему Врангелю. Где видано, чтобы высылать так послов… Да вот опять вышло хорошо: он поругался со своим гостем, с шведским королём. Они, видишь ли, не поладили. Наш изображает из себя Фридриха II, а тот мальчуган – Карла XII… Что же ты думаешь? Королю не велено давать есть, будет голодать всю дорогу. Разве ты ещё не слышал?
– Несчастная страна, – сказал со вздохом Пален. – Его по человечеству жаль.
– Кого? Шведского короля?
– Государя, разумеется.
– Разве что п о ч е л о в е ч е с т в у.
Панин быстро на него взглянул.
– Мало ли в России сумасшедших. Их зверски бьют, на них надевают смирительные рубашки. Конечно, по человечеству и их жалко… Почему е г о жалеть больше? Те хоть безобидные.
– Что Александр? – спросил, помолчав, Панин.
– Всё тянет… Этот мальчик умён и очень скрытен. Сам не знаю, как быть. Без него действовать трудно, а он упорно не даёт ответа. Видишь ли, ему очень хочется стать царём. И очень не хочется стать отцеубийцей… Что ты морщишься? Я правду говорю… Конечно, его положение тяжёлое… Хуже моего! – вырвалось вдруг у Палена. – Вот он и думает, как бы так сделать, чтобы и царём стать, и отца не обидеть. Ему так хотелось бы, чтобы мы свергли Павла без него… Так, видишь ли, свергли, чтоб он ничего не знал. Тогда он мог бы, в порыве сыновнего возмущения, ну, не казнить нас – он юноша не кровожадный, – а, скажем, сослать подальше. Перед историей это было бы крайне удобно. Но нам совсем неудобно, – добавил он, усмехаясь. – Я вынужден поэтому всё беспокоить его неприятными разговорами. Ещё придётся поговорить… Жаль, что нельзя при свидетелях. Этот мальчик очень хитёр.
– Как бы мы не ошиблись в расчёте?
– Не думаю. Но, разумеется, власть должна быть у них вырвана. В этом ты совершенно прав. Я знаю твой проект конституции. В общем одобряю, но есть серьёзные недостатки.
Он кратко и точно изложил недостатки выработанного Паниным конституционного проекта. Панин внимательно слушал и удивлялся дельности возражений, здравому смыслу этого человека.
– Мы, конечно, не знаем, как к нашему делу отнесётся русский народ, – начал Панин.
– Русский народ? Вероятно, нехорошо отнесётся. Я думаю, народ любит Павла: любит именно потому, что мы его ненавидим, – другой причины я не вижу. К счастью, не так важно, что думает народ…» Его нигде, кажется, ни о чём не спрашивают, а особенно в таких делах, да ещё у нас в России… Войска, гвардия, это так.
– Я иного мнения, – ещё больше хмурясь, сказал Панин. – Может, ты находишь, что народ любит и палки, и крепостное право?
– Да, это очень серьёзный довод. Мы отменим и палки, и крепостное право, но нам потребуются годы. А народ ждать не любит. Поэтому рассчитывать на проявления народной благодарности не следует. Я даже принял кое-какие меры предосторожности.
– Почему потребуются годы?
– Если освободить крестьян без земли, они возьмутся за вилы.
– Надо, значит, освободить их с землёю.
– Ты Дугино отдашь?
– Дело не во мне и не в моём Дугине… Нужно найти общее решение, которому я подчинюсь, как другие.
– Зачем непременно общее решение? Если б ты хотел отдать своим крестьянам Дугино, ты давно мог бы это сделать. Как ни относиться к нашему самодержавию, надо всё же признать, что оно никогда не запрещало частным лицам заниматься благотворительностью, – сказал Пален. В тоне его теперь, как и у Панина, звучала явная враждебность. – Во всяком случае, я решительно тебя прошу не поднимать вопроса о крепостном праве… До тех пор, пока мы не доведём дела до конца. Я прямо скажу: ты отобьёшь от комплота девять десятых участников. У нас состав пёстрый. Одни принимают участие в деле по самым высоким патриотическим мотивам, как ты. А другие – потому, что подкуплены на английские деньги. Одни хотят завести конституцию или даже республику, а другие смертельно боятся, как бы Павел не освободил крестьян.
– Назови имена. Я не желаю участвовать в деле с такими людьми… И об английских деньгах я слышу впервые.
– Я никак не предполагал, что ты подкуплен. И меня, как ты догадываешься, не подкупили. Что до английских денег, то беды никакой нет, ежели и правда. Лишь бы стать у власти, а затем мы отобьём у господ англичан охоту вмешиваться в наши дела… Впрочем, большинство у нас составляют люди, которым одинаково мало дела и до крепостного права, и до конституции, и до Англии. Большинство – это молодые люди, которые пойдут свергать царя, как ещё недавно шли шалить в корпусе. Всё равно: сейчас мы все союзники. А дальше будет видно… Нечего переделывать людей, бери их такими, каковы они есть, ежели ты хочешь быть политическим деятелем.
По побледневшему лицу Панина он увидел, что раздражение завело его слишком далеко. «Да, конечно, это не следовало ему говорить. Он хоть и молод, но занимал важнейшие государственные посты».
– Ну, что ж нам тут спорить на сквозном ветре, – изменив тон, благодушно сказал Пален (точно они только что заговорили на этом месте). – К тому же ты это понимаешь лучше меня. Ты так долго изучал все эти вопросы. Ich habe nur die P f i f f i g o l o g i e studiert,[258]258
Я изучал только х и т р о у м и е (нем.).
[Закрыть] – сказал он весело (Панин знал, что это слово, от pfiffig – «хитрый», было любимым выражением Палена). – Главное моё соображение: нет у нас конституционалистов. Ты, я, Яшвиль, ещё два-три человека. Воронцов? И то не знаю. Едва ли даже Талызин? Да и у каждого конституционалиста, верно, свой проект конституции. Сговориться будет не так просто.
– Мы убедим других.
– Надеюсь, убедим: гвардия в моих руках.
Он опять пожалел о вырвавшемся у него слове, увидев снова раздражение и недоверие на смягчившемся было лице Панина. «Однако я всё хуже собой владею», – подумал он с неудовольствием.
– Ну да сначала сделаем дело, – сказал Пален. – Ты когда едешь? Завтра?
– Да, кажется.
– Счастливого пути… До его о т р е ч е н и я… Когда он отречётся, я тебя вызову… Мы немедленно тебя вызовем, – поправился он. – Пойдём, однако, он скоро приедет. И то ему, верно, сегодня же донесут, что я долго с тобой разговаривал…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































