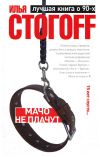Текст книги "Побежденный. Барселона, 1714"
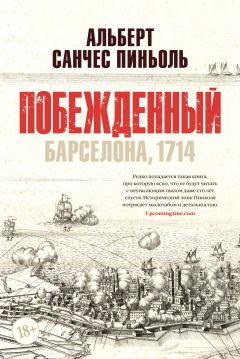
Автор книги: Альберт Санчес Пиньоль
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 16 страниц]
Надо признаться, что у меня всегда было доброе сердце.
* * *
Моя повозка удалялась от Тортосы настолько быстро, насколько позволяли раненые лошади, и тут-то я понял, что затеял весьма рискованное дело. На дорогах то и дело встречались патрули войск Альянса или Двух Корон, которые вступали друг с другом в перестрелку, стоило им встретиться. Несмотря на это, воюющие армии не были главной моей заботой. Южная часть Каталонии в то время представляла собой край, измученный войной, где разгуливали банды грабителей, разбойников, дезертиров шести или семи разных национальностей, не говоря уж о моих дорогих микелетах, которые были похлеще остальных. Я ехал один, но в компании такого соблазнительного предмета, как сундук с деньгами, а для защиты у меня имелся только один пистолет. Редко в жизни мне доводилось так радоваться закату. По правую руку я заметил дорожку посередине пшеничного поля, заросшего сорняками. Пожалуй, можно спрятаться и провести ночь там. Жнецы вовремя не пришли, и колосья качались на невероятной высоте, поэтому могли служить мне прекрасной ширмой. Поле заканчивалось возле старой канавы для полива растений. Лучше не придумаешь: здесь будет вода и для меня, и для лошадей. Я освободил животных от мучившей их сбруи.
Мне еще не удалось закончить все приготовления, когда появился этот человек.
Он пришел по той же дорожке, по которой приехал я. Его фигуру скрывал длинный черный плащ, а голову покрывала треуголка, надвинутая по самые брови. В этакой одежде он казался черной птицей, парившей низко над полем. Я вскочил одним прыжком и схватился за пистолет, который оставил в повозке. Что здесь делает этот тип, так далеко от человеческого жилья и так близко от поля сражения? Я прицелился в него:
– Покажите руки! Кто вы?
Он не остановился и произнес только одно слово:
– Pau.
Я не понял, назвал он свое имя или сообщил о своих намерениях (по-каталански «pau» означает «мир», но испанское имя Пабло на нашем языке звучит точно так же). Не расслабляясь, я обратился к нему с вопросом, столь же двусмысленным, сколь и язвительным:
– Вы что, упали с лошади?
Незнакомец не замедлил шага, но улыбнулся и приоткрыл полы плаща, чтобы показать руки. Оружия я не увидел. Когда он поднял руки, широкие рукава его рубашки соскользнули. И тут, моя дорогая и ужасная Вальтрауд, моим глазам предстало зрелище, которого больше мне никогда не довелось видеть: десять Знаков, один за другим, украшали его правую руку. Десятый Знак сиял почти у самого сгиба локтя.
Кожа, которую украшала эта татуировка, казалась очень дряблой и не соответствовала внешности незнакомца, казавшегося человеком немолодым, но полным энергии и крепким физически. Десять Знаков! Инженер, достигший идеала, превосходный маганон. Мое недоверие сменилось удивлением и восхищением. Он по-прежнему улыбался все той же ничего не значившей улыбкой и, когда мы оказались лицом к лицу, произнес безразличным тоном:
– Ну а вы?
– Ваш покорный слуга, – таков был мой ответ.
Я закатал правый рукав и показал свои пять Знаков.
Он сделал еще полшага вперед и сказал:
– Откуда вы едете?
– Из Тортосы.
– Куда направляетесь?
– В Барселону.
– Зачем?
– Там живет мой отец, там мой отчий дом.
– Вы в этом уверены?
– Да.
– Ни в чем нельзя быть уверенным.
Этот разговор был скорее похож на допрос, но Отмеченный никогда не задает вопросов Отмеченному высшего ранга. А тот, в свою очередь, должен знать все о своем подчиненном и говорит о себе, только если сочтет необходимым. Я не мог отвести глаз от его десятого Знака, а он в это время забыл о моей персоне и занялся изучением моего маленького лагеря: повозки, канавы, высокой пшеницы, которая стеной окружала нас.
Без всякого сомнения, мне встретился Десять Знаков. Он не просто смотрел, но слушал глазами: каждый предмет, каждое насекомое, весь мир, окружавший нас, сам воздух открывали ему свои тайны и с радостью добровольно исповедовались ему. Потом мой гость сделал повелительный жест, словно просил оркестрантов замереть. Он несколько минут разглядывал мою повозку, а потом спросил:
– Что вы везете?
– Ничего, – соврал я.
– Вы правы, – сказал он.
Несмотря на все уроки Базоша, услышав его слова, я вздрогнул.
Ночь была душной. Мой гость снял плащ, закатал рукава рубашки, и я снова устремил взор на его предплечье.
Сугубо практичный мир инженерного дела, которому обычно было чуждо всякое употребление символов, в данном случае шел на небольшую уступку. Драгоценный десятый Знак был гораздо меньше размером, чем все предыдущие, и имел столько уголков, что общий рисунок казался окружностью. Получалось, что, когда инженер достигал совершенства, наградой ему служил Знак, очень похожий на первый, – простой кружочек.
Он спросил меня:
– Кто ваш учитель?
– Им был Себастьен ле Претр де Вобан. Он умер.
– Славный инженер, да, прекрасный инженер, – прошептал он с уважением. – Он живет в вас. Помните об этом.
– К моему большому сожалению, – решил пояснить я, – этот пятый Знак мне не принадлежит. Я не сдал экзамен, потому что не смог найти нужное слово.
– Тогда продолжайте его искать.
– Я решил отстраниться от всего этого, – был мой ответ, – но, даже если бы захотел продолжать этот путь, кто бы мог подтвердить мне пятый Знак? Вобан умер, а других учителей я не знаю, да и не хочу снова иметь наставников. С меня довольно.
На губах его снова появилась улыбка.
– Все так говорят, пока не коснутся небес кончиками пальцев. И если это случится, вам будет легче пожертвовать своей жизнью, чем оторвать руку от этого чуда.
Несмотря на все уважение, которое я к нему испытывал, мне не удалось скрыть от него улыбку недоверия. Он заметил это и заговорил громче. В его голосе зазвучали такие властные ноты, что ему подчинился бы сам король:
– Если вам понадобится учитель, вы его найдете, и не важно, будет ваш наставник Отмеченным или нет. Отказаться от поиска Слова невозможно, и, когда оно вам откроется, вы поймете, что заслужили свой пятый Знак.
Я захотел ему возразить, но не нашел достаточно вежливых слов, а кроме того, только он имел право решать, когда начинается и кончается наш разговор.
– Постелите здесь одеяло.
Я подчинился.
– Ложитесь и закройте глаза. Спите.
Прежде чем услышать последнюю гласную слова «спите», я уже видел сны.
Было бы очень интересно рассказать здесь, что мне снилось той ночью. Но к несчастью, мне не дано было запомнить тот сон. В моей памяти сохранились лишь какие-то неясные картины: смутный образ обнаженной девушки с сиреневой кожей и густо-черными волосками на лобке на фоне каких-то пожаров. На протяжении нескольких недель я пытался вспомнить свой сон полностью. Девушка смотрела на меня такими грустными глазами, каких я не видел никогда в жизни. Внезапно на нее нападали полчища белых жуков – они окружили ее со всех сторон и начали карабкаться по щиколоткам. Она молила меня о помощи. Но потом все рушилось, прежде чем сон приходил к своему завершению. Я делал невероятные усилия, думал снова и снова, вызывая в памяти эти образы сотни раз.
В последующие дни, к сожалению, часы бодрствования готовили мне так много сюрпризов, что сон ускользал от меня, как срывается с крючка рыбка. Мне пришлось смириться с неудачей.
На следующий день я снова запряг лошадей и отправился в Барселону, не проверив даже, на месте ли сундук. Десять Знаков подобные мелочи не интересуют.
Сейчас, восемьдесят лет спустя, восемьдесят оборотов Земли вокруг Солнца спустя, мне кажется, я догадался, кем был этот гость, явившийся мне в сумерках. Разрешите мне перевести дыхание.
Нет, то было не человеческое существо, а сам Mystère, который прогуливался по миру с равнодушием пасечника, который оглядывает разворошенные соты. И вдруг одна пчелка привлекла его внимание и он решил рассмотреть ее повнимательнее.
Наверное, ему просто было скучно.

14
Все утро я ехал на своей повозке по дороге между двумя склонами, поросшими сосняком. Ближе к полудню я нашел то, что было мне необходимо и могло меня спасти.
Справа от меня вдруг открылась небольшая равнина, на которой я увидел почтовую станцию. Главное здание было низким глинобитным сооружением, длинным и прямоугольным, под тростниковой крышей. Перед ней какой-то старик копал яму, намереваясь похоронить в ней труп мула. Я остановил лошадей, сошел с повозки и обратился к нему.
Мне пришлось выдать себя за скромного торговца, который хотел присоединиться к каравану мирных жителей. Старик был глух как тетерев.
– Защиты ищете? – пронзительно закричал он, приставляя ладонь к уху на манер слухового рожка. – Ну что ж. Там, в доме, у меня есть ребята, которые часто охраняют караваны. Чем больше будет путешественников, тем дешевле вам их услуга обойдется. Они здорово умеют договариваться с солдатами, из какого бы войска они ни были.
– Не дадите ли вы мне напиться? – спросил я, протягивая ему пару монет. – У меня в горле пересохло.
– Идите и налейте себе сами, хотя на этой жаре вино уже стало теплым, – ответил старик, указывая на здание. – Но послушайте, если вы поможете мне закопать мула, можете пить сколько хотите и задаром. Приезжают сюда, – пожаловался он, имея в виду своих клиентов, – и только поставят своих лошадей и мулов, как те дохнут от изнеможения! А мне что с ними делать? Вы мне на этот вопрос можете ответить, а? А? А?
Ну да, в тот момент мне еще только и не хватало хоронить всякую падаль. Я не стал тратить время на извинения и пошел к зданию.
Внутри мне открылась сцена, напоминавшая тайную вечерю. За большим столом сидели двенадцать здоровых детин, пьяных вдрабадан. Они пили и перекрикивали друг друга. Половина компании сидела ко мне спиной, а лиц остальных я с порога различить не мог. Поначалу они не обратили на меня особого внимания, и я к ним тоже не присматривался.
Я подошел к стойке, которую сделали, положив на бочонки плохо обструганные доски. На столбе возле стойки на цепочке висел кувшин. Я сделал пару глотков отвратительного вина, настоянного на травах, но тут кто-то за моей спиной сказал:
– Эй, приятель, иди сюда! Наше зелье будет получше этой кислятины.
Мне не мешало наладить с этими ребятами хорошие отношения, и я уселся на середину скамьи: шестеро незнакомцев оказались передо мной, а еще по трое сидели по правую и по левую руку. И вот тогда я присмотрелся к их лицам.
Шрамы. Серьги. Густые бороды, которыми, казалось, можно было полировать мрамор. Мешки под глазами и взгляды, примерявшие, куда тебе лучше вонзить нож: ближе к уху или прямо под подбородок. Неужели это и был конвой, организованный честными жителями из ближайшего поселения? Самого невинного из них, наверное, не меньше пяти раз спасали от виселицы. А прямо напротив меня сидел он, мой старый приятель – Бальестер.
Я, должно быть, побелел, точно отварная спаржа, а Бальестер посмотрел на меня с ненавистью, глубокой и пронзительной, и произнес только четыре слова:
– Это предатель из Бесейта.
Моя дорогая и ужасная Вальтрауд уже забыла, кто такой Бальестер. Но ведь он появился в моем рассказе совсем недавно! Всего несколько страниц назад я рассказывал об этом молодом фанатике, микелете, которого арестовали бурбонские солдаты, об этом парне с таким зверским нравом, что ему бы доставило огромное удовольствие сделать себе из моей кожи носовой платок.
Слова Бальестера означали конец попойки. Все двенадцать апостолов варварства, как один, повернули головы ко мне. Я не мог произнести ни слова. В обычных условиях мои чувства, воспитанные в Базоше, предупредили бы меня о присутствии Бальестера еще до того, как я перешагнул порог этой глинобитной постройки. Но мое отречение от инженерного дела и мое желание заполучить охрану подешевле превратили меня в жалкого крота. Мне было страшно и одновременно невыносимо стыдно.
Бальестер вытащил огромный и очень, очень острый кинжал – скорее всего, тот самый, которым он в Бесейте перерезал глотку испанскому капитану. Я попытался убежать, но не смог преодолеть даже половины расстояния, отделявшего меня от двери. Четыре ручищи поставили меня на колени, а Бальестер подошел ко мне со спины. Когда кончик его кинжала нащупал мою яремную вену, я взвизгнул:
– Подождите! У меня для вас кое-что есть!
Если вам когда-нибудь доведется оказаться в подобной ситуации, послушайте моего совета: не тратьте время на ерунду и используйте самые привлекательные выражения.
– Я везу клад! – закричал я, хотя мое горло сдавливали кинжал, к нему приставленный, а также страх. – Он здесь, поблизости!
Мы вышли из дома все вместе, тринадцать человек. Я шагал, задирая подбородок, потому что лезвие ножа направляло его к небесам. Старик по-прежнему копал яму для мула. Из глаз у меня текли слезы.
– Не осложняй нам жизнь, – сказал Бальестер. – Говори быстрее и сможешь выбрать сам, как мне тебя убить.
– Моя повозка! – воскликнул я, указывая на нее. – Там вы найдете кое-что интересное. Господом Богом клянусь, что это правда!
Трое парней Бальестера влезли в повозку. Старик продолжал работу, болтая свои глупости, равнодушный ко всему происходящему. Голова его, видно, совсем не варила, и он не понимал, что вокруг творится, если это не касалось дохлой клячи.
Ребята Бальестера нашли под одеялами сундук.
– Пятьсот ружей! – завопил один из них в полном восторге, кидая в Бальестера пригоршню монет. – На эти деньги мы сможем купить пятьсот ружей!
– Я украл эти деньги у бурбонских свиней! – воскликнул я, стараясь извлечь для себя выгоду из их радости. – Я настоящий патриот и только и думаю о том, как покрепче насолить этому сопляку Филиппу и его деду!
Пока они наслаждались неожиданно свалившимся на них сокровищем, я придумал себе весьма сложную историю, будто бы я служил шпионом Женералитата, саботировал начинания бурбонских демонов и был надеждой и опорой правого дела Австрийского королевского дома. Причиняя мне вред, они совершали страшную ошибку и гнусное преступление. Моя тайная миссия заключалась в том, чтобы добраться с моим грузом до Барселоны, где меня ожидали министры Женералитата. Я даже предложил им сопровождать груз и пообещал солидное вознаграждение за оказанные услуги, если они с честью выполнят свою задачу. Бальестер свалил меня наземь ударом своего кулачища.
– Повесить его, – вынес он приговор.
Я отчаянно завопил. Из глаз у меня полились слезы, ручьи слез, мои мольбы о пощаде сотрясали воздух. Я освободился от сдерживавших меня рук и бросился на колени перед Бальестером, говоря ему, что все мои родные погибли и я один остался в живых, чтобы служить поддержкой старости моего дорогого отца, человека небогатого, мирного, честного и настоящего патриота.
Молить палачей о пощаде кажется делом совершенно бесполезным, но почему же тогда люди унижаются в подобных ситуациях на протяжении всей истории рода человеческого? Я открою вам тайну: эти мольбы действуют.
– Послушайте! – умолял я. – Вспомните, что в Бесейте вас должны были повесить незамедлительно и только мое заступничество спасло вас от смерти! Из-за меня вам подарили несколько часов жизни и ваши друзья смогли вас выручить. И так-то вы мне платите за добро! Отправляете на смерть того, кто спас вам жизнь!
Я так низко склонил голову, что мой нос почти касался земли. Плевок Бальестера попал на траву прямо перед ним.
– Ну ладно. Твой сундук меня сегодня порадовал, – сказал он. – Вали отсюда. Не хочу пачкать об тебя свои руки.
Звуки вырывались из его горла, сухие и колючие. В ушах у меня до сих пор звучат слова, которые ударили меня, точно камни из пращи:
– Fot el camp, gos. (Пошел прочь, пес.)
Меня раздели догола, хотя моя одежда не представляла никакой ценности. Мне кажется, что обычай раздевать помилованных врагов среди микелетов имел некое символическое значение. Они не побрезговали даже моими подштанниками, измазанными глиной и дерьмом за двадцать дней работ в окопах. Я инстинктивно прикрыл срам руками, повернулся спиной к своим мучителям и помчался прочь, подгоняемый их хохотом.
– Эй, вы! – закричал вдруг Бальестер, когда я оказался уже достаточно далеко, обращаясь ко мне неожиданно вежливо. – Вы грамоте обучены?
Я остановился, по-прежнему прикрывая руками срамное место, обернулся к нему и пробормотал:
– Конечно, я умею писать. И даже на нескольких языках.
Он жестом велел мне снова приблизиться к нему и его свите. Я подчинился – а что еще мне оставалось делать? Бальестер приказал своим людям сорвать доску с моей повозки, протянул ее мне вместе с острым железным колышком и сказал:
– Вырежьте здесь: «Я – пес-предатель». По-французски и по-испански.
– Вы позволите мне спросить, – прошептал я, сглатывая слюну, прерывающимся голосом, – зачем вам нужна эта надпись?
– Я передумал, – произнес он самым любезным тоном. – Раз ты умеешь писать, мы тебя повесим, и мне хочется, чтобы все знали, за что. Когда твой труп будет висеть на дереве, мы перекинем через твою шею веревку и повесим на грудь эту табличку.
Колышек и доска выпали у меня из рук. Я его умолял, плакал, рыдал, снова встал на колени. Бальестер возвел взгляд к небу и вздохнул, словно что-то обдумывая. Мне показалось, что он смягчился, но разбойник произнес:
– А латынь ты знаешь? Ну так напиши еще и по-латински.
Я вырезáл букву за буквой, не переставая рыдать и молить о пощаде, а микелеты Бальестера надрывали животы от смеха.
– Поднимайся-ка, браток! – скомандовали они мне весело, когда я закончил свою работу.
Мне связали руки за спиной и крепко схватили за подмышки. Самым высоким деревом поблизости оказалась смоковница. Кто-то из разбойников повесил мне на грудь табличку. Полоумный старик закричал нам из ямы, которую по-прежнему копал:
– Эй, вы! Столько крепких ребят, а бедному деду некому помочь!
Один из микелетов захотел перекинуть веревку через высокую ветку, но был так пьян, что никак не мог добиться своей цели, – он спотыкался и падал навзничь, вызывая новые взрывы смеха.
– А вы знаете, какую глубокую яму надо вырыть, чтобы туда уместился мул? – продолжал жаловаться старик. – Я тут тружусь под палящим солнцем, на этакой жаре. Плохи мои дела!
Мы умираем только один раз, а, на мое несчастье, мне достались в палачи пьяные в дугу неумехи. После нескольких неудачных попыток им наконец удалось перекинуть веревку через самую высокую и толстую ветку смоковницы. Мне на шею накинули петлю, и парочка здоровяков, не теряя времени на церемонии, просто потянула за другой конец.
– Я знаю, что вы хорошие ребята! Пла́тите сполна да бедных путешественников, которые сюда забредают, сопровождаете бесплатно. Но я стар, беден и выбился из сил! А этот мул такой огромный!
Я взлетел на пару метров над землей, и мой язык вывалился изо рта. Живешь и не знаешь, какой длинный у тебя язык, пока не окажешься на виселице. Удавка задерживает кровь в голове, и лицо у тебя краснеет. Я болтался между ветвями нагишом, и вдруг струйка мочи прочертила параболу в воздухе. Разбойники так заржали, что покатились по земле от хохота.
Микелеты были так пьяны, что никто не вспомнил о том, что смоковницы – деревья ненадежные и ветви у них хрупкие. Стоило мне оказаться на самом верху, как раздался сухой треск и ветка сломалась. Я с шумом рухнул на землю среди щепок и шершавых листьев.
Хохот моих мучителей был, наверное, слышен до самой Тортосы. Отсмеявшись, они просто развернулись и уехали прочь. Таковы были микелеты.
– Figa tova! Figa tova! – насмехались они надо мной, удаляясь верхом и, естественно, увозя с собой мою повозку и сундук с деньгами.
(Выражение figa tova переводу не поддается. По-каталански слово figa женского рода и означает «инжир», а слово tova значит «мягкий». Однако сочетание этих двух слов – оскорбительное прозвище для чувствительных девиц, которые воображают, что знают все на свете. Таких, как ты, к примеру.)
– Эй, ты, лентяй! – закричал глухой и безумный дед. – Вместо того чтобы на земле валяться, мог бы мне немного помочь.


Vidi
Увидел
1
Ну хорошо, согласимся на том, что мое возвращение к родным пенатам оказалось не столь славным, как приезд Одиссея на Итаку. Одет я был не лучше какого-нибудь попрошайки, потому что мне удалось раздобыть только жалкие лохмотья. Так я вернулся в Барселону после четырех долгих лет скитаний: война закончилась для меня поражением и неожиданно превратила меня в нищего. Но хуже всего было другое: мою руку украшал не заслуженный мною пятый Знак.
Однако забудем на некоторое время о злоключениях Суви-Длиннонога. Я возвращался в свой родной город, в древнюю Барселону, к ее шумам, запахам и узким улочкам. К ее порту, к ее беспорядочной жизни. Город казался мне плодом моего детского воображения, и образ его представлялся мне даже более смутным, чем образ покойной матери. В голове моей всплывали лишь воспоминания детства (не забывайте, что я покинул родительский дом совсем мальчишкой), но теперь все мои чувства обострились под влиянием Базоша и стали совершенно особенными. В некоторой степени все было для меня новым, потому что мои исключительные способности восприятия действительности и прошедшие годы позволяли мне смотреть на виденные раньше пейзажи глазами иностранца.
Вы, наверное, ждете от меня сейчас пространного описания Барселоны начала века, но я не хочу наводить на читателя скуку. Я сохранил карту того времени, присовокупим ее к тексту – и готово дело.
На карте не обозначены городские стены, и это как раз очень кстати: представьте себе мое настроение в те дни – меньше всего на свете мне хотелось возвращаться мыслями к инженерному делу. Я хотел забыть навсегда о Базоше, о Жанне, о словах Вобана («Вы не сдали экзамен»), о Слове.

Как видите, город делился на две части большим бульваром, который назывался Рамблас[60]60
Изначально на месте современного бульвара Рамблас была канава, по которой во время сильных дождей стекала к морю вода; улица на этом месте возникала постепенно с XIV века – с тех пор, как Рамблас, ранее отделявший пригороды (упомянутый ниже припортовый район Раваль) от города, включили в городскую территорию.
[Закрыть]. Справа от него жилая застройка была гораздо плотнее, чем слева, где тянулись огороды и сады, что могло быть весьма полезным в случае осады.
Я покинул Барселону ребенком, а возвращался зрелым мужчиной, хотя и потерпевшим в жизни поражение. И можете мне поверить, за всю жизнь я не видел более веселого города, населенного таким количеством иностранцев, даже в Америке! Чужеземцы приезжали, оставались здесь жить и укоренялись на этой земле. Решив остаться здесь навсегда, они придавали своим фамилиям каталонскую форму, чтобы не выделяться, а потому никто не знал, где родился его сосед: в Италии, во Франции, в Кастилии или в какой-нибудь другой, более экзотической стране. И если кастильцев всегда волновала чистота крови и отсутствие в ней каких-нибудь мавританских или иудейских примесей, то каталонцев вовсе не заботило происхождение их соседей. Никто не мешал жить вновь прибывшим, если только у них в карманах водились денежки, а сами они не были занудами и не докучали никому своим религиозным бредом. Такая обстановка, в которой чужеземцев принимали, ничего особенного от них не требуя, вызывала в них желание стать частью этого сообщества, и метаморфоза происходила уже в первом поколении. Мой отец тому примером.
Благодаря наследию католицизма, каждый второй день календаря был праздничным. (Должен же Ватикан давать людям какие-то преимущества – недаром у него столько последователей во всем мире.) К этим праздникам следовало добавить десятки знаменательных дат, которые изобретались то и дело: например, нужно было воздать благодарность за исцеление короля или горожане отмечали день явления святой Евлалии[61]61
Святая Евлалия (290–303 н. э.), она же Евлалия Барселонская – раннехристианская мученица, одна из покровительниц Барселоны.
[Закрыть] слепому пьянице. Но не стоит заблуждаться на этот счет. Каталонцы всячески способствовали празднествам, потому что видели в досуге возможность заработать.
Праздники, которыми изобиловал календарь, обязывали людей тратить огромные деньги. Барселонские ярмарки и карнавалы славились на весь мир. О эти карнавалы! Кастильские аристократы, такие строгие и непорочные, по возвращении из Барселоны рассказывали об увиденном с возмущением. Богачи и бедняки, мужчины и женщины – все вперемежку, в толпе – танцевали до рассвета на улицах. Это же недопустимо! Благородные кастильцы признавали только один цвет одежды – безупречный черный. Когда в 1710 году я очутился в Мадриде, меня поразила чернота отцов города. В Барселоне все было наоборот. В город завозили более трехсот видов тканей; чем больше у тебя было денег, тем больше цветов сочеталось в твоей одежде – и танцуй на площади до упаду.
Порт едва справлялся с огромным количеством грузов, которые привозили со всего мира. Только имбиря можно было насчитать до двенадцати видов. Когда я был маленьким, однажды отец задал мне знатную трепку, потому что я принес с рынка не тот рис, который он мне велел купить. Немудрено мне было ошибиться: рис продавался сорока трех типов, на любой вкус и на любой кошелек.
Немного я видел городов, где бы жило столько курильщиков. В лавках можно было найти даже больше сортов табака, чем риса. Привычка дымить настолько распространилась, что, несмотря на очевидную ее пользу для здоровья, епископу пришлось дать распоряжение в виде специального церковного указа, запрещавшего священникам курить – по крайней мере, во время службы!
У гостей, бывавших в Барселоне до 1714 года, всегда создавалось впечатление, что в городе царит некий хаос, в котором сочетались разврат, роскошь и вседозволенность. Барселонцы работали не покладая рук и одновременно веселились до упаду. Женералитат взял себе за правило не вмешиваться в народные развлечения. Я приведу вам один пример: бои камнями.
Граница между народным праздником и массовым насилием очень тонкая, не толще волоса. Когда мой отец был мальчуганом, барселонские студенты очень любили устраивать баталии, во время которых запускали друг в друга камнями. Сражения эти представляли собой дуэль между двумя командами, по доброй сотне участников с каждой стороны. Команды соперников собирались на каком-нибудь пустыре, становились друг против друга и по сигналу начинали забрасывать булыжниками противников. Камни летали тысячами, и чем больше их попадало по головам врагов, тем лучше. Может быть, вы спросите, по каким правилам велось это благородное состязание. Ответ прост: никаких правил тут не было. Та группа, которая не выдерживала напора и пускалась наутек, считалась потерпевшей поражение, а та, которой удавалось удержать позицию на пустыре, – победительницей. Совершенно естественно, что бой заканчивался парой дюжин раненых, покалеченных на всю жизнь и даже парочкой мертвецов.
Некоторые священники, из самых нюнь, жаловались на жестокость этих сражений. Нельзя ли по крайней мере смягчить правила игры и заменить камни апельсинами? Они так настаивали, что студенты в результате поступили так, как свойственно каталонцам: выразили свое согласие, но не подчинились. В начале боя они вели себя цивилизованно и использовали апельсины, но только до тех пор, пока эти боеприпасы не заканчивались. А потом пускали в ход камни. Церкви пришлось заткнуться и не читать нотаций, потому что это развлечение пользовалось невероятной популярностью: никогда не было недостатка в зрителях, заключаемых пари и болельщиках. И ни для кого не секрет, что студенты любят пошутить: очень часто, когда на пустыре собиралась большая толпа зрителей, обе группы сговаривались и, вместо того чтобы нападать друг на друга, объединяли усилия и с хохотом забрасывали камнями ни в чем не повинную публику.
Под предлогом боя камнями порой студенты выбирали в качестве поля боя окрестности университета. В таких случаях группы противников заключали неожиданно братский союз и приводили здание – как снаружи, так и внутри – в плачевное состояние. Все занятия прекращались до восстановления мебели, и вот ведь какая штука: бои камнями на территории университета всегда происходили как раз перед экзаменами. Немудрено, что папаша отправил меня во Францию: я был рослым парнем и всегда ввязывался в драки – в один прекрасный день я бы неминуемо оказался в первом ряду метателей булыжников (безразлично, какой команды) и мне бы размозжили голову. Как бы то ни было, когда я был мальчишкой, бои камнями уже начали выходить из моды. Но в одном я не сомневаюсь: если Иисусу Христу удалось спасти блудницу от града камней, то только потому, что в Иудее не было барселонских школяров.
Что же до проституток, то одним из недостатков тогдашней Барселоны был строжайший запрет на дома терпимости. Правила этого добились своими кознями черные накидки (так называл народ епископов из-за цвета их одеяний). Даже за тавернами и постоялыми дворами специально следили, постоянно выискивая подозрительных женщин. С моей точки зрения, эта неумеренная слежка за несчастными потаскушками явилась особой уступкой черным накидкам со стороны накидок красных (так в народе называли членов правительства – из-за традиционных алых тог каталонских судей). Поскольку богачи и знать первыми пропускали мимо ушей проповеди священников против игры и роскоши, правительство удовлетворило желание Церкви приструнить хотя бы несчастных и беззащитных проституток.
Это отнюдь не означает, что в городе не было шлюх. Конечно они никуда не делись! В городах, где есть дома терпимости, проститутки сидят внутри и носу на улицу не показывают, а в городах, где борделей нет, их можно найти на любом углу и в любой час. Стоит запретить одну из древнейших профессий, как начинающие шлюхи выискивают тысячи уловок, чтобы заниматься своим делом втихаря.
Итак, я сказал, что бродил по городу, собираясь с духом, перед тем как отправиться домой, как вдруг услышал барабанный бой, который с каждой минутой звучал все ближе. Люди, толпившиеся на Рамблас, упали на колени.
Новости о поражении при Тортосе дошли до города еще до моего приезда. В подобных случаях барселонцы устраивали крестный ход и несли во главе его свою главную святыню – хоругвь святой Евлалии. Разрешите мне сказать о ней несколько слов, потому что святое знамя жителей Барселоны того заслуживает.
Если говорить о самом полотнище, то ничего особенно примечательного в нем не было, хотя оно сильно отличалось от современных знамен. Все прямоугольное знамя из шелка занимал портрет молодой девушки в сиреневом одеянии с грустными глазами. В этом образе было что-то невероятно языческое. Лучше всего художнику удался ее грустный взгляд.
Согласно традиции, каталонские короли должны были собственноручно передать это знамя своему старшему сыну и наследнику. Говорили, что войска, несшие это знамя, были непобедимы. (Враки, поверьте мне: в каталонской истории на одну победу приходится десять поражений.) Как бы то ни было, хоругви святой Евлалии люди поклонялись с рвением, которое намного превосходило обычное уважение к войсковым знаменам, и с этим нельзя спорить. Когда знамя проплывало над толпой, барселонцы крестились, стоя на коленях, и молили о защите и благословении. И если вас не покоробит моя мысль, скажу, что поклонение этому образу имело мало общего с религиозным экстазом, потому что он изображал не просто святую, а дух самого города.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?