Текст книги "Зона обстрела (сборник)"
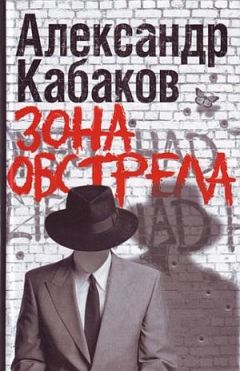
Автор книги: Александр Кабаков
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 9 (всего у книги 26 страниц)
(второй удаленный автором из ноутбука, но сохранившийся таинственным образом фрагмент:
зажглись фары, и он обрадовался – такси или не такси, значения не имеет, но сейчас его можно тормознуть и уехать.
Ильин шагнул навстречу огням, поднял руку, сумка начала сползать с плеча, он сделал движение, чтобы удержать ее, поскользнулся и, уже падая на мостовую, сообразил, что шофер его не видит за сплошным снежным туманом…
…Много будет народу, – подумал Ильин и усмехнулся этой суетной и неуместной мысли, вернее, ему показалось, что усмехнулся, потому что он не мог уже усмехаться раздавленным лицом, залитым кровью, снежной грязью и еще какой-то жидкостью, которая всегда заливает убитых и, возможно, это есть просто воды реки Стикс…
– конец второго варианта судьбы)
вспыхнули желтые фары другого такси, Ильин нашел в сумке деньги – почему они лежали мятой кучей на дне сумки, а не в бумажнике, он не знал – и добрался домой, проспав всю дорогу.
61
Пил он и на следующий день, и на третий, а на четвертый ему, как и следовало ожидать, стало совсем плохо, приезжал врач с обычными в таких случаях средствами, и некоторое время Ильин, совершенно трезвый и потому не очень размышляя о поставленной цели, почти автоматически, занимался важными своими делами – точнее, сворачивал все дела.
62
Он заметил, что с тех пор, как перестал называться цифрой и принял свое настоящее имя, почему-то сделался груб и сильнее ругался матом. Это его не огорчило, но удивило – он не считал раньше такой язык истинно органичным для себя.
63
Между тем время шло, и он почувствовал некоторую дополнительную неловкость ситуации: безумное и шокирующее решение, если уж объявлено, должно бы выполняться сразу, а у него все затягивалось, возникали новые осложнения, и он никак не мог даже приблизительно, хотя бы для себя, назначить срок. Дни, казалось бы, совсем недавно наполнились новым содержанием – место службы с утра до вечера, обязательных встреч и редких коротких прогулок без цели заняли прогулки многочасовые, встречи все более случайные, а служба вообще исчезла и не вспоминалась, будто ее и не было никогда, растворилась… Но эта новизна почти сразу же стала однообразием. И по утрам Игорь Петрович с привычным раздражением и усталостью, как прежде о своей каторге обязательств, думал об уже почти наступившей свободе – собственно, свобода времени уже наступила, свобода обстоятельств действия тоже была практически достигнута, поскольку прервались все отношения и связи, осталось только совершить короткое путешествие до свободы места – но чувствовал он не свободу, а обреченность.
Да и одиночество понемногу перестало его радовать и утешать, а все более давило, даже пугало, как в незапамятные времена, и, обрывая и укоряя себя, он начал задумываться о будущей безнадежности свободы – которая может оказаться ничем не лучше разрушенной им безнадежности рабства.
64
Возможно, такое удрученное состояние Игоря Петровича объяснялось тем, что я его совсем забросил – особенно с тех пор как он отказался от данного ему мною Номера Первого и стал просто Ильиным, живущим свою жизнь. Занялся важными переменами собственной судьбы, перестав непрестанно впадать в сочинение сюжетов и сюжетцев, в эти сновидения наяву, которые, чего уж хитрить, в основном навязывал герою я, используя его – как постоянно использовали его и многие другие – как средство решения своих проблем.
Теперь он превратился, начал превращаться, из средства в цель, его существование приобрело для него (и, соответственно, для этой истории) основную ценность, а привыкать к тому, что ты и есть главное в твоей жизни, вообще тяжело. Кто-то успевает это понять еще в молодости, кто-то с этим даже рождается, а кому-то, как Игорю Ильину, требуется для такого прозрения почти весь жизненный срок, да и того не совсем хватает.
65
Что, безусловно, радовало его, так это легкость, с которой теперь переносили новое положение вещей люди, поначалу пораженные и сильно расстроенные его почти состоявшимся уходом.
Относительно женщин он уже много лет не обольщался, твердо зная, что их основной инстинкт выживания преодолевает все. Нисколько не был к ним в претензии за это, не ждал и не опасался всерьез, что они как-нибудь повредят себе от отчаяния, что потеря лишит их жизненных сил. Он уже много видел вдов, оставленных жен, брошенных любовниц и понял: самое страшное, что с ними происходит после того, как они утрачивают мужчину, это недолгая растерянность. А затем даже слабые и потому более других привязанные к любимому возобновляют отношения с миром почти на прежнем уровне, сильные же нередко начинают проявляться так, что вскоре достигают всего, о чем раньше мечтали, но не предпринимали усилий, чтобы осуществить, – возможно, подсознательно берегли энергию, пережидая, пока мужчина сделает для них все, что успеет, чтобы потом самим продолжить движение.
Такое его представление о женщинах, повторю, нисколько не мешало Игорю Петровичу ими увлекаться, любить, ценить как лучшую, если не главную часть мужской жизни и принимать как абсолютно естественную, неотъемлемую и даже привлекательную часть их сущности описанную живучесть.
И сейчас он спокойно наблюдал, как жена (правда, он никак не мог вспомнить, какая это из жен, мешал тот самый повторяющийся сон, в котором они все время менялись местами) обживает новое положение. В доме даже в то небольшое время, которое он там проводил, мелькали какие-то люди, которых он раньше никогда не видел, казавшиеся ему странными, а некоторые и неприятными, но с женою, очевидно, знакомые хорошо. Звонили у дверей, он слышал, как жена открывала, слышал приветствия, смех, потом голоса понижались и доносилось только бормотание, невнятная беседа, в которой отдельных слов было не разобрать, – впрочем, он, конечно, и не старался, заранее раз и навсегда сказав себе, что это уже совершенно чужое.
Однажды вдруг донеслось отчетливо: «Вроде бы с Ленинградского… все тянет, жалеет уже, наверное, испугался…» Тут он действительно испугался – откуда знают? кто это говорит с женой? что следует из их осведомленности? Ильин вышел из комнаты, проходя в ванную, искоса взглянул. Жена и гость – он мог бы поклясться, что это первая жена, хотя не разглядел точно – сидели на кухне, пили кофе. Гость был совершенно незнакомый, бесцветный пожилой мужчина, плохо одетый – это Игорь Петрович заметить успел – и с очень невыразительным, простым лицом. На кухне замолчали и сидели в тишине, пока он не вернулся из ванной в свою комнату и не закрыл за собой дверь, потом бормотание, уже совсем еле слышное, возобновилось. Ему вдруг стало ужасно обидно, особенно потому, что это оказалась первая жена, и когда дверь хлопнула за визитером, он было собрался выяснить отношения – в конце концов он не сделал ей ничего такого, чтобы она обсуждала его характер и поступки с посторонними, – но жена, как и следовало ожидать, была на самом деле не первая, а последняя, у которой-то, он признавал, имелись все основания, связанные и с его поведением, и с ее психологическим складом, чувствовать себя обиженной и вести, особенно теперь, собственную житейскую политику. То, что он принял ее за первую, давным-давно никак не участвующую в его судьбе и мыслях, Ильин мог объяснить только разгулявшимся неврозом. Постепенно он успокоился и почти забыл этот эпизод.
Но после этого начал бояться во время своих постоянных бесцельных блужданий по городу встретить другую женщину – представлял себе, что и она будет в какой-нибудь компании. Почему-то воображался именно тот мужичок, что сидел на кухне, линялый не то блондин, не то седой, с правильным и пустым лицом, неподвижным и вялым. Вспомнилось, что как раз от таких терпел самые главные поражения, необъяснимым образом они оттесняли его – те считаные разы, когда это случалось, удачливыми соперниками бывали именно белесые и пустолицые – от женщин, в деловых же обстоятельствах побеждали всегда.
При этом женщину он мысленно почему-то называл Леной, даже Ленкой, хотя пьяный разговор в кафе совершенно вылетел из головы, будто его и не было.
Ну, и конечно, встретил ее.
На ярком солнечном свете, посреди заполненной дневной толпой центральной улицы выглядела она ужасно.
Морщинки и сосудики только и были видны, да еще повисшие по сторонам подбородка щечки, будто сползшие с обтянувшихся скул, да красный носик, да воспаленный острый подбородок. И фигура вся, следуя как бы движению щек, оплыла книзу. И, вдобавок ко всему, она была так несвежа, будто не помылась утром, будто серая пыль лежала и на морщинках, и на сосудиках, и на волосах. И одежда была ужасна – изношена и затерта, вся в каких-то волосках и нитках, вообще заметных на черном, а при солнечном свете особенно. И, когда поцеловались, он почувствовал сквозь духи запах из ее рта – не то чтобы дурной, как пахнут плохие зубы, а специфический запах, исходящий обычно от мужчин с нездоровым и измученным желудком, – запах сырого мяса.
– Когда едешь? – спросила она деловито, словно все уже было решено, причем не им, а как бы ими вдвоем. – Я слышала, в воскресенье ночным?
Он не успел не только ответить, но даже плечами пожать, как вдруг ее лицо напряглось, взгляд, устремленный за его спину, застыл, она по-дружески быстро приложилась к его щеке и, со словами «ну, позвони, еще поговорим», быстро обошла его, как обходят замешкавшегося, неловкого встречного прохожего. Он, изумленный, оглянулся и увидел блондина с правильным, но вялым лицом, на котором если и можно было что-то прочитать, то угрюмое недоумение – и она спешила навстречу этому блондину, зачем-то с двух шагов махая ему рукой, будто через улицу.
Ильин неожиданно для себя расстроился так, что слезы выступили. Он закурил, постоял, глядя мокрыми глазами, сквозь мерцающие, сдуваемые ветром капли, в пустоту перед собой. Она теперь представлялась ему прелестной, чуть состарившейся девочкой, помятость, запах, изношенность мгновенно забылись. Да если бы он был с собою в этот момент до конца откровенен, он должен был бы признать, что никакая и не Лена это была, а совершенно другая женщина, которую – он знал – только что видел в последний раз и опять отдал белесому ничтожеству.
Вот кто исчезал после прощания начисто, это друзья и коллеги. Не звонили, не встречались, будто он уже действительно находился от них далеко, уехал. Если же раздавался звонок и слышался мужской голос, то это обязательно был голос малознакомый, долетевший вдруг из какой-нибудь совсем старой жизни, одной из тех жизней, которые сами по себе кончились много лет назад, исчезли без всяких решений Ильина – просто время их миновало. Игорь Петрович говорил любезно, но коротко и ничего не отрицал. Да, уезжаю, ну, так получилось, спасибо, что позвонил. Бог даст, свидимся. Пока.
Замерзнув во время блужданий под декабрьским ветром, грязным снегом и косо летящим в лицо дождем, он заходил выпить кофе и съесть что-нибудь сладкое – из-за отказа от алкоголя все время не хватало сахара. Сидел над пустой чашкой, курил. Мыслей не было вообще никаких, только удивление: как это раньше в голове все время что-то происходило? Картинки какие-то возникали, сюжетцы и сюжеты, целые складные истории, настолько складные и понятные, что не было необходимости додумывать их до конца… Теперь было чисто.
К вечеру в воскресенье он остался дома один.
66
Тишина стояла такая, что даже человеку более уравновешенному, чем Игорь Петрович, и находящемуся не в столь трудных для нервов обстоятельствах, стало бы не по себе.
Он никак не мог сообразить, куда девались даже животные, которых всегда было полно в доме. Где маленькая черная дворняжка, которую нашел убитой возле дачных ворот, почему прячутся толстая кошка, умершая так неожиданно в прошлом году, и старый сиамский кот, давно похороненный во дворе, на этом месте теперь построили новую трансформаторную будку, зачем жена увезла всех остальных, еще живых?
Что женщины разъедутся к этому моменту, он предполагал, никому не нужны лишние сцены во время прощания, все эти тихие рыдания, притрагивания к ледяному твердому лбу, к скрюченным рукам с криво воткнутой свечой, все эти примиряющие перед общим горем, полные ненависти объятия друг с другом. Но не представлял себе, в какой окажется полной пустоте и невыносимой тишине.
Можно было бы сделать музыку погромче и даже самому подпевать знакомой мелодии, но он не захотел – просто прилег немного отдохнуть перед дорогой, может, подремать…
Но и заснуть не смог тоже, лежал в оцепенении, но не спал.
Прислушивался к тишине. Даже лифта не было слышно, даже гул машин, не прекращающийся обычно и ночью, не доносился с ближней улицы. С трудом поднес к глазам руку, посмотрел на часы – пожалуй, пора, чтобы
(третья забракованная развязка, восстановленная по памяти:
не спешить потом.
Вещей у него было немного, прилетев, он собирался просто снять теплую куртку и свитер, а кроссовки, джинсы и майка вполне сошли бы на первый день даже для тамошней жары. Поэтому сумка оставалась полупустой – свитер и куртку вполне можно будет запихнуть перед прилетом.
Машина мчалась по пустой, сверкающей мокрым и чуть подмерзшим опасным асфальтом Ленинградке, пронзала ярко освещенный тоннель и неслась дальше, оставляя позади все – город, людей, жизнь… За поворотом прорезались уже огни гостиницы, аэропорта, мерцали в небе красные точки на крыльях набирающего высоту джета, струились вдоль шоссейного полотна ленты разделительных фонарей…
…Вот, пожалуй, и все, подумал он, защелкнув ремень и откинувшись к спинке сиденья, прикрывая глаза в полусвете ночного самолетного салона. Теперь почти ничего не изменится, если этот сарай даже рухнет. Только лучше бы над морем, а то если сейчас, то найдут, опознают…
…Много народу будет, подумал он и едва заметно усмехнулся, не открывая глаз и потому не видя, что за окошком, у которого он сидел, вдруг вспыхнул, сорвался и снова полетел за мотором длинный огонь…
– конец третьего неудачного варианта)
не торопиться и не нервничать, если машина не придет вовремя.
Игорь Петрович запер за собой дверь, положил ключи в карман, решив их выбросить из вагонного окна где-нибудь на средине пути, и спустился пешком по лестнице, не вызывая лифта, хотя сумка – с чего бы это, только смена белья, носки, рубашка и свитер, – была тяжелая. Но не хотелось нарушать тишину.
67
На вокзальной площади было необыкновенно пусто даже для позднего зимнего вечера. Вместо ожидаемой озабоченной толпы, словно объединенной каким-то будущим совместным делом, Ильин увидел редкие тени, бестолково и медленно перемещающиеся в темно-синем дрожащем воздухе от одного освещенного участка к другому. Оставленные машины образовали плотные ряды, казалось, что эти предметы вообще не имеют отношения к людям и не могут передвигаться, а стояли и будут стоять здесь вечно. За вокзальными зданиями не угадывались платформы и пути – скорее можно было представить себе за ними пустую степь, или лес, или даже замерзшую воду, запорошенное тонким снегом ледяное поле. Площадь поэтому выглядела центром крепости, окружавшие башни и приземистые дворцы укрывали ее от враждебного и опасного внешнего пространства, а шпиль гостиницы за мостом поднимался, как вершина собора, оставленного неприятелю.
Ильин подумал, что, наверное, теперь площадь всегда такая. Он в последние годы ездил мало и помнил это место по старым временам, когда поезда набивались битком, трудно было купить билет, народу везде было тесно. Вероятно, и другие теперь ездят реже, и причин для движения, и возможностей стало меньше…
Перебрасывая тяжелую сумку из руки в руку, Игорь Петрович направился туда, где, как он предполагал, у перрона уже стоит его поезд – раньше его подавали для посадки задолго до отправления. Пассажиры успевали рассесться по купе, переодеться и даже, выпросив стаканы у хмуро позволявшей такую вольность проводницы, еще стоявшей на платформе у тамбура, начать непременное, иногда на всю ночь, дорожное пьянство. Морские полковники, возвращавшиеся из Генштаба в Адмиралтейство, актеры между съемками и театром, влюбленные пары… Никто из них не шел сейчас рядом с Ильиным.
Он миновал старый вокзальный вестибюль и теперь, слыша громкий стук своих каблуков – такая здесь была плитка на полу, – двигался по длинному залу, устроенному уже на его памяти на месте крытых перронов, которые, соответственно, сдвинулись ближе к цели классического путешествия.
Здесь, возле высокого и узкого постамента, с которого бессмысленно сурово смотрел на случившееся бюст, я ждал своего героя, чтобы присутствовать при его попытке к бегству, при последней его попытке настичь время. Слава богу, наша фамильная точность сократила ожидание, он появился даже раньше срока, мой бывший № 1, Ильин Игорь Петрович, московский служащий, пожилой мечтатель, тихий бунтарь, потерпевший окончательное поражение в своей долгой борьбе с пустотой.
Сейчас, наверное, как обычно бывает, когда он остается один, уже начал раскручиваться в его голове какой-нибудь сюжет, подумал я – и ошибся.
Ничего, совсем ничего не было в его голове. Просто он шел, смотрел по сторонам, продолжая удивляться почти полному отсутствию народа, только какой-то мужик топтался возле памятника, и чувствуя, как в затылке начинает гудеть поднимающееся давление – потому что не сплю в непривычно позднее время, сообразил Ильин.
Так он достиг противоположного площади конца зала и обнаружил, что двери, ведущие отсюда на платформы, закрыты, заперты наглухо и, судя по стационарному указателю обхода со стрелкой вправо, заперты давно.
Мир продолжал меняться все то время, что я провел, отвернувшись от него, подумал Ильин, мир вообще меняется, стоит от него отвернуться, позади тебя он совершенно другой, чем ты увидишь, даже резко оглянувшись, люди успеют сделать иные лица, а вещи – занять иные места…
Так, мимоходом, он сформулировал вывод, сделанный им давно, но никак не укладывавшийся до этого в слова, но теперь не придал этому никакого значения. Уже было все равно.
Он пошел в сторону стрелки. Пришлось вернуться до середины зала, почти до памятника, где все околачивался тот мужик, слишком прилично одетый для вокзального бомжа, – и тут Игорь Петрович обнаружил небольшую дверь, ведущую наружу, возле нее тоже стрелку и надпись «к поездам». Он вышел в синюю тьму и тут же попал на обычный привокзальный базар.
В два ряда тянулись ярко освещенные изнутри ларьки и магазинчики. Дрянь, продававшаяся в них, от этого яркого желтоватого света казалась сверкающей роскошью. В узких промежутках между ларьками шелестел под сквозняком мусор, спали мелкие бродячие собаки, рылись бродяги – здесь было немного оживленнее, чем на площади и внутри вокзала. По этой аллее между ларьков Ильин пошел туда, где, по его представлениям, должны быть поезда. Он старался не глядеть по сторонам, потому что бродячих собак было жалко, к тому же они напоминали об оставленных им животных, мусор был отвратителен, а бродяги еще отвратительнее. В свете из ларьков были хорошо видны их ужасные разбитые лица со странно осмысленными выражениями – озабоченности, интереса, размышления… Однако, как обычно бывает, когда стараешься не смотреть вокруг, все лезло в глаза, и помимо воли Ильин все замечал.
Так он заметил и какое-то движение на куче мусора в щели между двумя закрытыми и потому темными ларьками и сразу, еще издали, понял, что там происходит: бомжи занимались любовью. Мелкий снег падал на зеленоватую плоть, тощие голые ноги гребли по мусору, и бормотание доносилось оттуда, но никто из идущих мимо не видел этого либо люди просто не обращали внимания.
Игорь Петрович ускорил шаг, чтобы быстрее миновать отвратительное место и даже прикрыл на ходу глаза, удивляясь при этом себе. Он вспомнил, как раньше, в его наконец завершающейся жизни, которая делилась всегда на две части: одна проходила среди достойных женщин и в приличных романах, другая же была полна мелкого и омерзительного разврата, к которому он тогда относился как к неизбежной составляющей физиологического существования, как к грязным подробностям гигиены, – вспомнил, как тогда действовали на него подобные картины, и удивился, что теперь не испытал ровно ничего, кроме естественной тошноты.
Значит, подумал он, и с этим действительно покончено, как я и предполагал.
И немедленно подвергся испытанию со стороны другого своего порока.
Уже почти у самого поворота к платформам в левом ряду стекляшек он увидел обычную забегаловку. Внутри освещенной коробки несколько человек стояли у протянувшейся вдоль стен узкой доски, ели сосиски, политые багровым соусом, драли куски жареной курицы и пили водку, темная тень которой просвечивала сквозь белые пластмассовые стенки стаканчиков.
Игорь Петрович глянул на часы. Времени до отхода было еще много, действительно рано приехал. С полминуты он колебался: во-первых, и с выпивкой отношения за последние годы сложились уже новые, если раньше он всегда был готов проглотить рюмку, и другую, и третью, совершенно не задумываясь о дальнейшем, поскольку ничего особенного из выпивки и не следовало – или ему казалось, что не следовало – то теперь он постоянно помнил о наказании дурнотой, дрожью, отчаянием; во-вторых, больно грязным было заведение… Но эта слабость оказалась более живучей, чем, как только что окончательно выяснилось, покинувшая его навсегда половая одержимость, – механически отметил Игорь Петрович и вошел.
Неловко перехватывая сумку, он расплатился за сто граммов и бутерброд с сомнительно розовой рыбой на бумажной тарелке, поочередно отнес выпивку и закуску на доску, в угол, и собрался уже по-быстрому со всем покончить, как обратил внимание на мужика рядом – конечно же, это был тот самый, от памятника!
Нельзя сказать, что Игорь Петрович очень удивился или тем более испугался. В конце концов, сегодня в его судьбе происходило важное, даже самое важное событие – она должна была полностью перемениться или даже прекратиться, сменившись совершенно другой – и некоторые странности, сопровождающие такое свершение, он готов был принять. Тем не менее он посмотрел на преследователя с демонстративным удивлением, подняв вопросительно брови.
В ответ мужик деликатно улыбнулся, приподнял и слегка качнул в сторону Игоря Петровича свой стаканчик – точно так же, как это делал в таких обстоятельствах сам Ильин, – и негромко пожелал удачной дороги. Ильин молча ответил тем же движением, и они выпили.
– Что ж, – сказал, чуть скривившись от проглоченного напитка, но ничем не закусывая, нежданный провожающий, – всё успели сделать?
– Вроде всё, – ответил Ильин, уже вовсе не раздумывая о природе собеседника и причинах его появления, какая разница, – вроде бы всё… А если что и не сделал, обойдется… Всего никогда не переделаешь, а уж раз решил кончать, надо кончать.
– Это верно, – убежденно кивнул мужик, – верно… Значит, до главного уже додумались. Ну, тогда и правда пора. Вот только одно еще хочу спросить: вы за эти последние дни насчет себя к какому-нибудь выводу пришли? То есть я имею в виду, хороший вы были человек или не очень, или просто говно, и зло вы делали только по слабости или намеренно тоже? Собственно, на этот единственный вопрос у меня нет ответа потому, что вы сами его никогда себе не задавали, оттого и некая пустота возникала всякий раз, как я пытался разобраться в вашем, извините, не подберу других слов, внутреннем мире. То, что вы называете сюжетами и сюжетцами, да еще банальные полудетские рассуждения о банальных же предметах – а больше ничего, пусто…
Игорю Петровичу показалось вдруг, что разговор этот уже не раз бывал прежде и что мужик ему смутно знаком, но распутывать дежавю было уже некогда. Он снова посмотрел на часы.
– Да, время, – сказал сосед, – вы ведь хотите успеть…
Он, очевидно, понял, что ответа на свой вопрос не получит, и уже смотрел не на Ильина, а в стекло перед собой.
– Не знаю, – сказал № 1. – Мне кажется, что я был не злой… А относительно пустоты вы правы, конечно, правы, только я на это вот что могу возразить: а разве есть другие? Разве в вас не пустота, и только мелочи какие-нибудь в ней болтаются, вроде моих сюжетцев, или ваши собственные… А во многих и того нет. Насчет же добра и зла – это вы зря, это совсем из другой оперы, по-моему. Вот уеду – все и выяснится. Оставшиеся решат…
Он кивнул все так же глядящему на свое отражение в стекле человеку и вышел. По радио как раз объявляли о начале посадки на его поезд.
Вступив на длинный, влажно блестящий перрон, он почувствовал вдруг давно не испытываемое, ушедшее вместе с частыми путешествиями: какую-то детскую гордость уезжающего. Она возникала всегда, но особенное ощущение избранности появлялось именно здесь, перед этим имперским путем, на чистом во все времена вокзале, среди приличной публики. Главная в стране ночная дорога была когда-то едва ли не единственной доступной роскошью, теплые вагоны, век не менявшийся уют…
И тут же, в тени указателя с номером и временем отправления его поезда, он увидел ее.
Вероятно, он обратил внимание на фигуру в темном потому, что она сделала небольшое движение, как бы собираясь преградить ему путь.
– Извини, пришла, – тихо сказала она, не приближаясь, но ее слова были хорошо слышны. – Просто так…
– Что ж ты извиняешься, я очень рад, – он отвечал, никакой радости не чувствуя, а только легкую досаду, все уже было кончено, он уже был в дороге, – и ты не расстраивайся…
– Я не расстраиваюсь, – она действительно улыбнулась, и под косым светом, идущим от вокзальных больших окон, ее глаза блеснули сухо, ясно, по-дневному. – Чего расстраиваться? Все обойдется, ты прав…
– Столько лет, – вдруг, неожиданно для себя, сказал он, – а что на самом деле я про тебя знаю? Ничего…
– А что же про меня знать? – Она пожала плечами, подошла чуть ближе, притронулась к его руке, в которой он держал сумку, чуть поскребла по ней ногтями, такая у нее была привычка. – Я человек легкий, легкомысленный, сама не очень задумываюсь о жизни, чего ж обо мне думать?.. И о каких годах ты говоришь? Мы же познакомились на прошлой неделе… Ну, счастливо. Пока.
Он было сделал попытку обнять ее, но она уже отстранилась, повернулась спиной, быстро пошла прочь – и он увидал, что это действительно та самая, как ее, Лена, кажется, и какие, правда, годы он придумал?
Его вагон был второй с головы поезда, и идти предстояло долго. Возле каждых вагонных дверей стояли группками люди, курили, разговаривали, кто-то высматривал запоздавших провожающих, в нескольких компаниях разливали прощальную бутылку – пили почему-то все шампанское…
Теперь он смотрел внимательно – и не зря.
В слабеющем по мере того, как он удалялся от вокзала, свете он увидал возле одного из вагонов жену. Она стояла с какими-то не знакомыми ему людьми, но немного в стороне, участия в разговоре не принимала, вглядывалась в лица спешивших мимо отъезжающих – очевидно, ждала, когда пройдет он. Зачем-то она надела серую замшевую куртку с меховым воротником, в которой уже провожала его двадцать лет назад. Возможно, чтобы он сразу заметил ее и вспомнил… Она никак не обнаружила, что увидела его, не двинулась с места, но, когда он проходил мимо, оказалась рядом, близко.
– Ты все придумал, – сказала она. – Ты придумал, что всюду опаздываешь, ты решил, что везде поспеваешь к шапочному разбору… Я знаю, это твоя теория, но она глупая, ты пришел вовремя и еще все успеешь… Вернешься, устроишь все. А я…
– Теперь уже я точно ничего не успею, – перебил он. – И не вернусь, ты что, так и не поняла, что я уже не вернусь? Мы все поспели к шапочному разбору, целая страна, мы всегда начинаем, когда остальные уже заканчивают. А поздние гости вечно скандалят… Ну ладно, что же теперь говорить! Прости.
– Не спеши, – сказала она, – только не спеши.
Он шагнул, оглянулся… Как и следовало ожидать, это была первая жена. Длинное и узкое пальто было на ней, а никакая не куртка, но воротник действительно был меховой, пушистый. Просто он не разглядел в таком свете. Надо было бы вернуться, попрощаться по-человечески, осмотреться – может, и последняя тоже здесь…
Но времени уже не оставалось, и он пошел дальше, не глядя по сторонам, не обращая внимания
на подмигнувшего ему из какого-то тамбура знакомого, который хотел знать все обо всех,
на подругу всей Москвы, было кинувшуюся к нему с объятиями и фальшивым возгласом «Илья!» – ну как можно пожилого человека называть идиотским прозвищем,
на Юрку, неодобрительно, по обыкновению, наблюдавшего очередную ни к чему не ведущую эскападу приятеля,
на начальника, доброжелательно помахавшего рукой из-за каких-то солидных спин возле международного вагона,
и на всех остальных.
68
Ночью с тихим лязгом поехала в сторону дверь, режущий свет ворвался из коридора и тут же перекрылся расплывающимися силуэтами, с таким же лязгом дверь закрылась, зажегся тусклый свет под потолком купе, и он увидел возле своего лица руку, опускающую защелку.
Странно, подумал он, необъяснимо, я ведь сам опустил ее перед тем, как лечь, как же ее открыли снаружи? Или я забыл? Выпил много, забыл, что же это я… Так ведь все пили, сегодня же…
Бабки за квартиру, сказал один из вошедших, шлепнув Ильина ладонью по лбу, слегка, как шлепают плохо соображающего ребенка, бабки за квартиру, за дачу, давай быстро бабки и свободен.
Второй склонился, толкнув в тесноте первого, над столиком, рассматривая лежавший там, рядом с пустой бутылкой и смятой оберткой от бутербродов, бумажник.
Здесь хуйня какая-то, сказал второй, смотри, да, триста баксов и рубли, и все.
Где бабки, спросил первый, бабки, рубишь, деньги куда положил, Игорь Петрович?
Он выдернул из-под головы Ильина подушку, так что задралась простыня и показался матрац.
Я не продавал квартиру, сказал Ильин, все осталось – и квартира, и дача, вам неверно сообщили, больших денег у меня нет.
Лучше ты бы отдал, сказал второй, неловко протискиваясь от столика, меняясь с первым местами, и давил бы себе дальше до Питера.
Ильин приподнялся, чтобы предложить им обыскать все и убедиться, что ни квартиры, ни дачи он не продавал, что ушел, все оставив, как и решил еще когда-то, когда впервые задумался об уходе, но голова закружилась, все же много выпил перед сном, его качнуло, и он сильно ударился всею правой стороной лица – лбом у виска, и скулой, и углом губ, и подбородком – о стальную раму дверного проема, отшатнулся от склонившихся над ним не видимых против света лиц разбойников и снова ударился, теперь уже затылком о металлическую оправу ночника над полкой…
Он вспомнил, как однажды поскользнулся на улице и так же, всею правой стороной лица ударился о столб.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































