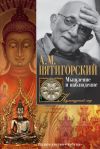Текст книги "Буддийская философия мысли"

Автор книги: Александр Пятигорский
Жанр: Религия: прочее, Религия
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 16 страниц)
6.9. Крайне неправильно утверждать, что буддийские учителя древности понимали мир как бытие дхарм или как состоящий из дхарм. Они не думали, что познают в дхармах или с помощью дхарм. Это не было ни чисто дхармической онтологией, ни чисто дхармической эпистемологией. В контексте нашего метафилософского подхода можно утверждать, что, терминологически говоря, дхармы не содержат в себе никакой информации о мире или психологии людей, ибо дхармы не конкретны. Напротив, они настолько неконкретны, насколько это можно себе представить. И это объясняется их (разумеется, кроме асанскрита-дхарм) связанностью с мыслью и/или сознанием, которое само по себе совершенно неконкретно в том смысле, что оно покрывает все то, что в нашей философской терминологии считается как сознательным, так и несознательным, как субъективным, так и объективным, как материальным, так и нематериальным и т. д.[205]205
Я осознаю, что из-за этого можно подумать, что несвязанность с мыслью можно считать чем-то конкретным или по крайней мере допускающим конкретную интерпретацию, но я думаю, что «доказательство от противного» почти не используется в буддийском теоретизировании.
[Закрыть]5 Например, говорить, что «эмоция – это мысль», буддистически возможно лишь потому, что эмоция – это дхарма (в более широком смысле, конечно), а каждая дхарма – в некотором смысле мысль. То есть эмоция (а точнее говоря, конкретная эмоция) – это дхармический объект, и в силу своей «дхармичности» она столь же «сознательна», как и сами мысль или сознание.
6.10. Я понимаю, что последний момент представляет для исследователя некоторые непреодолимые препятствия, особенно потому, что в дальнейших и поздних разработках буддийской теории сознания универсальное самосознание мысли утверждалось с такой силой, что фактически полностью исчезло различие между мыслью, объектом которой сама же она и является, и мыслью, объектом которой является что-то другое. Самое главное здесь то, что если (и когда) такое различие существовало – а оно действительно было повсюду в Абхидхамме, – то всякую мысль, которая сама себя не осознает, неизбежно относили к одному и тому же уровню, что и эмоцию, ощущение, эффект, инстинкт или любой другой умственный, психический или биопсихический феномен, сколь бы примитивным и элементарным он ни был. Однако при этом следует напомнить, что коренным отличием Абхидхаммы от почти всякой европейской эпистемологии является то, что в последней сама приставка «само» в связи с сознанием означает мыслящий «субъект» или «личность», тогда как в первой она означает направление мысли на себя. Но даже в первом смысле самосознание нельзя применять к дхармам, и как раз в этом смысле мы думаем о Нирване как о дхарме, а не как о «мысли». Можно даже рискнуть сказать, что дхармы – это не мысль в том смысле, что они о себе не мыслят, сколь бы нелепо это ни звучало. Но мысль наблюдателя может мыслить о себе (а не о нем) в смысле дхарм, то есть в смысле своей связанности со всеми мыслимыми объектами (включая мыслящие).
Так, например, мысль (citta) – это дхарма (или вид дхарм, указанный как Δ 5 в абхидхаммическом списке) для наблюдателя мысли (а не «его» дхарма), если он наблюдает мысль вообще. [ «Вообще» означает здесь, что мысль наблюдается не как объект мысли самого наблюдателя или «личности» (puggala), а как один из абстрактно понимаемых «дхармических объектов».] В случае подобного рода наблюдения наблюдатель не только не может приписывать «эту мысль» себе, но даже осуществить «идеальную» замену, говоря: «Если бы я был той личностью, которой можно приписать эту мысль…» – ибо здесь вообще не может быть такой «личности». И дхарма «мысль» мыслилась бы вне всякой мыслимой рефлексии, а тем самым как совершенно безличная (но никак не наоборот). Как «состояние сознания» «мысль» не может быть мыслима в контексте рефлексии, а потому ее можно приписать «кому-то» только посредством каких-то других вещей или сил (которые сами не являются состояниями сознания), например таких, как карма. Буддистически говоря, это можно пояснить тем фактом, что в итоге Нирвана – ничья, что можно сказать и обо всех дхармах как таковых.
6.11. Тем не менее в поздней и современной Абхидхамме дхаммы иногда получают чисто натуралистическое объяснение и превращаются в измеримые фундаментальные сущности, лежащие в основании всего феноменального мира. Несмотря на все оговорки и пояснения со стороны современных исследователей буддизма тхеравады, что в дхаммах мы имеем дело с чистой психологией, это не помешало им превратиться в своего рода «психологическую онтологию». Я думаю, что это хотя бы частично обусловлено влиянием некоторых европейских эпистемологических тенденций. Но при этом кое-что по-прежнему очень трудно объяснить, и я попытаюсь интерпретировать это посредством метафизического сравнения терминов онтологии и «своей природы» (svabhāva).
6.11.1. Почти повсюду в теоретических контекстах европейской культуры – независимо от всевозможных различий между ними – понятие «онтология» подразумевает некое абстрактное, неконкретное качество, которым могут быть наделены или не наделены вещи и события, но которое остается универсальным и универсально применимым и позитивно, и негативно. «Реализм-номинализм», «рационализм-эмпиризм», «монизм-дуализм», «материализм-идеализм» – во всех этих оппозиционно отмеченных контекстах «бытие» неизменно сохраняет это качество уникального предиката, приписываемого то одному, то другому. И логическому анализу остается лишь исследовать степень универсальности и/или реальности того, с чем мы имеем дело в каждом конкретном случае предикации «бытия» – от «чистой онтологии» бытия Бога как одного из Его совершенств до «бытия» как вторичного по отношению к мышлению в картезианской формуле. Дхарме, по крайней мере в контексте Абхидхармы, не может быть неконкретно предицировано «бытие». Поэтому такое немного искусственное высказывание, как «дхармы есть…», или даже такая их «квазионтологическая» интерпретация, как «(есть) только дхармы» (dharmamātra), неизбежно поставили бы нас в крайне тривиальное положение. Это потому, что дхармы не могут быть, но есть тем, чем они есть, и так, как они есть (то есть в смысле yathābhūtatā). Можно, конечно, утверждать, что время «существования» «дхармы мысли» равно 1/1021 секунды, но на самом деле в этом теоретическом контексте это не означало бы никакого «бытия», длящегося 1/1021 секунды[206]206
Я опять придерживаюсь здесь совершенно формального и натуралистического отношения к современным абхидхаммистам. См., например: Discourse on Elements (Dhātu-Kathā) (c. XXVII, 96).
[Закрыть]6. Более того, это даже не означало бы, что «бытие такой, как она есть» этой дхармы включает в себя эту длительность, ведь в смысле «как она есть» это не имеет вообще никакого значения. Так что можно сказать, что, даже когда дхармы «есть», им нельзя предицировать «бытие», ибо в этом случае важно не «есть», а «когда» [в смысле «случая», а не длительности].
6.11.2. Взятая лишь в отношении дхарм, свабхава считается их собственным бытием в том смысле, в котором они не отличаются друг от друга, однако если понимать их все как разделяющие это одно бытие, их «дхармичность» (dharmatā или tathatā всех дхарм), они будут очень сильно отличаться от всего, что не есть дхарма. Поэтому в последнем смысле их «бытие» рассматривалось бы не как их бытие, а как их бытие тем, чем они есть, в отличие, например, от кармы, духкхи («страдания») или любой другой мыслимой вещи, не относящейся к дхармам.
6.11.3. Следовательно, в смысле вообще «бытия» дхармы не есть, тогда как в смысле собственного бытия их нельзя классифицировать даже на санскрита и асанскрита, ведь здесь это фактически одно и то же. Их классификация весьма условна и относительна, другими словами, их можно классифицировать тем или иным образом, но всегда с указанием, что при классификации они обязательно мыслятся или созерцаются как связанные с чем-то, что по крайней мере в этот конкретный момент не является дхармой или, возвращаясь к нашей предыдущей проблеме объекта, не является «дхармическим объектом».
6.12. Одной из самых простых и вместе с тем самых загадочных вещей[207]207
Здесь «вещь» – это не «объект» в том смысле, в котором последний употреблялся до сих пор. Как не используется она и абхидхаммически, ибо здесь это не вещь в смысле Абхидхаммы, а объект моего мышления об Абхидхамме. Пытаясь установить некие методологические связи между абхидхаммическим подходом и своим собственным, я подчеркиваю отличие моей идеи объекта мышления (viśaya) от объекта мышления в самой Абхидхамме (vatthu).
[Закрыть]7 во всей Абхидхамме является то, что дхаммы считаются уже существующими, но мысль при этом объявляется возникающей.
Учитывая, что одно дело – думать о мысли в ее связи с дхармами, и совсем другое дело – думать о дхармах[208]208
Дхарма выступает в этой интерпретации как состояние сознания в понимании буддийской философии вообще, независимо от различий между школами, тогда как дхамма здесь – это технический термин, используемый в контексте только палийских текстов Абхидхаммы. При этом я полностью осознаю, что во многих текстах Палийского канона «дхамма» фигурирует в смысле «дхармы», например, в начальных строфах «Дхаммапады» (I, 1.2).
[Закрыть] в их связи с мыслью (первое рассматривается в Эссе 4 о «возникновении мысли»), и, сосредотачиваясь на втором, я могу сказать, что возникшая мысль является в Абхидхамме единственным первично данным фактом. Без него нечего наблюдать, понимать или созерцать. В этом факте заключена вселенная объектов и субъектов[209]209
«Субъект мысли» здесь, то есть в рамках метафилософского подхода, означает, что я (или любой другой внешний наблюдатель) выбираю думать о мысли как приписанной кому-то, кто может оказаться мною либо кем-то еще. Эта атрибуция, однако, весьма вторична по отношению к самому наблюдению мысли.
[Закрыть], либо внешний наблюдатель может ее оттуда извлечь, будь то наблюдатель вообще мысли, собственной мысли или какой бы то ни было мысли. То есть без возникновения мысли в Абхидхамме нет вообще никакого поля наблюдения, а без внешнего наблюдения не может быть и никакой Абхидхаммы как систематической экспозиции (или фиксации) теории дхамм.
Так, говоря о возникновении мысли как о факте[210]210
Мне кажется, что сам термин «возникшая» (uppanna) в контексте таких соображений можно рассматривать или, по крайней мере, истолковывать как «факт».
[Закрыть], можно сказать: «там есть мысль», или «там нет мысли», или «это та или иная мысль», или, как говорится в «Дхаммасангани», «первая мысль, вторая мысль, третья мысль и т. д.». Дхаммы же представлены там как разнообразные дискретные формы, в которых каждая мысль получает свое истолкование непрерывности и процесса. Таково ограниченное и относительное определение дхамм. Относительное, потому что они рассматриваются здесь не как таковые, а только в их связи с мыслью или с ситуацией, когда и где мысль уже обнаружена в своей фактичности. Это требует более подробного разъяснения.
6.12.1. Во-первых, никакая дхамма не может быть фактом per se, ведь одну дхамму нельзя мыслить существующей, потому что мысль не интерпретируема в смысле одной дхаммы, а только в смысле сочетания бесконечного числа дхамм одного или нескольких видов (гораздо чаще нескольких, чем одного).
6.12.2. Во-вторых, мысль дана в наблюдении как отдельный факт или, скажем, в отдельных фактах, последовательная смена которых извне (эмпирически или идеально) устанавливается наблюдателем, который действует, говорит и мыслит отдельно от наблюдаемого. Тогда как непрерывность дхамм постулируется как предусловие всякой мысли, будь то мысль наблюдателя или наблюдаемого. Мы можем думать о различных последовательностях дхамм как об отдельных, но лишь после наблюдения самого факта мысли, тем не менее мы можем знать, что та или иная последовательность дхамм уже существовала до начала наблюдения и будет существовать после его окончания, так что сама проблема «другости» в контексте такого рассуждения не имеет никакого значения. В отличие от идеи Уильяма Джемса, что психическая и ментальная жизнь человека проявляется в состояниях сознания, учителя Абхидхаммы утверждали, что то, что мы считаем психической и ментальной жизнью, фактически представляет собой проявление непроявленных дхарм. То есть любая мыслимая работа мысли понимается как «дхармическая», потому ее нужно интерпретировать как в смысле дискретности (прерывности) состояний сознания, так и в смысле их непрерывности, если мы решили интерпретировать процесс мысли, а не только акт ее возникновения. Но главное здесь то, что к дхармам по-прежнему невозможно применить никакие эпистемологические критерии, потому что эти критерии действуют лишь внутри системы интерпретируемых объектов, но совершенно не действуют в отношении вещей, составляющих основу интерпретации, ибо последние относятся к совсем другой системе6[211]211
Лилиан Силберн глубоко ошибается, когда она пишет, что «в своей прерывности и чистоте дхаммы полностью недостижимы для работы мысли» (Silburn L., 1955, p. 171). Ведь дхаммы связаны как с наблюдающим, так и с наблюдаемым мышлением, и тем самым о них нельзя думать ни как о познаваемых, ни как о непознаваемых, раз они не включены в систему познания. Ее критика Ст. Шайера бесплодна в двух аспектах: во-первых, тексты Абхидхаммы (как и ее собственные тексты) по крайней мере формально являются «работой мысли», нацеленной на понимание значения дхаммы; во-вторых, Абхидхамма и сама еще не знает методологического различия между системой объектов познания и системой познания: хотя там проводится весьма четкая граница между фактами и их интерпретациями.
[Закрыть].
6.12.3. В-третьих, – и я считаю это особенно важным – фактичность мысли, когда эта мысль интерпретируется в смысле дхамм, нельзя понимать в терминах психологического эмпиризма. Напротив, даже когда она не используется в своем дхаммическом смысле (то есть не выступает как один из видов дхамм), мысль (citta) везде в Абхидхамме предполагает гораздо большую степень абстрактности, чем любая эмпирическая идея мысли.
6.13. И наконец, предикаты дхарм не делают их содержательными, даже если они и подразумевают некое содержание как таковые. Так что из выражения «дхармы настоящего, прошлого и будущего» нельзя вообще ничего заключить о возможности различных интерпретаций этих трех «видов» состояний сознания в терминах содержания. То же самое относится к попыткам интерпретации первой строки «Дхаммапады» «Дхармы произведены умом и т. д.» или утверждения, что «все дхармы беззнаковы (alakkhana)». Потому что в случае последнего примера нам придется признать, что само значение «беззнаковости» существует только в отношении дхарм, и никак иначе. [В отличие, скажем, от значения «смертности» в утверждении: «все люди смертны».] То есть практически все предложения, в которых «дхармы» выступают в роли субъекта логического построения, являются простыми тавтологиями. Поэтому значение связанного с «дхармами» предиката нельзя редуцировать к какому-либо «содержанию», кроме самих дхарм.
Так, утверждение «все сущее есть дхарма» означало бы, что все, мыслимое в терминах содержания, мыслимо только в контексте определенных состояний сознания, то есть дхарм, но не наоборот. Это и имел в виду У. Джемс, утверждая, что то же самое может быть «Я» в одном состоянии сознания и чем-то еще в другом. [Отсюда легко «заключить», что, с одной стороны, нет такого состояния сознания, как «Я», и, с другой стороны, что в терминах содержания «Я» (равно как и «Не-Я») может существовать (то есть «мыслиться как существующее») лишь в связи с той или иной дхармой. Но ни «Я», ни «Не-Я» не становятся особым содержанием какой-либо дхармы.]
Употребление слова «содержание» – это лишь элемент метафилософского подхода, потому что все содержание мысли, буддистически говоря, относится к совсем другому уровню, нежели сама мысль. Если взять его отдельно от мысли, «уровень содержания» в нашем исследовании неизбежно вытесняется в область «как бы психологии».
6.14.0. С точки зрения Абхидхармы время не рассматривается как феномен, что неудивительно, поскольку, не являясь одним из состояний сознания (дхарм), оно также не может быть редуцировано ни к одному из них, ни к какой-либо из их комбинаций. И в этом случае нам приходится снова возвращаться к мысли, в смысле которой время могло выступать чем-то как бы положительно мыслимым, хотя и необязательно одним из объектов мышления. Говоря это, я не исключаю возможности или даже необходимости других подходов к проблеме времени в буддизме. Более того, я бы даже предложил следующую весьма условную схему подобного «буддистического» исследования.
6.14.1.
(1) Во-первых, нужно исследовать условия мышления о времени, а значит, можно предположить несколько разных случаев, ситуаций или содержаний, в которых и в отношении которых время следует предицировать как содержание мышления.
(2) Во-вторых, нужно наблюдать случаи, когда само мышление в различных его актах и случаях можно интерпретировать как другое (то есть то или иное, а не то же самое) в отношении времени[212]212
См. выше 6.2.1(1) и примеч. 33.
[Закрыть].
(3) В-третьих, мы перейдем к ситуации, когда мышление, взятое в одной из его модальностей, объективно понималось бы как время. Другими словами, в мышлении есть некая психологическая субъективность, объективируемая (или натурализуемая) как время. (Время как эпифеномен мышления.)
(4) В-четвертых, мы вернемся к рассмотрению состояний сознания (дхарм) в их связях с мышлением, содержание которого включает в себя время.
(5) В-пятых, мы изучим состояния сознания в отношении их собственного времени или безвременности.
(6) В-шестых, можно завершить введением метафилософского положения об абстрактной возможности построения структуры сознания (а не состояния сознания – это различие здесь чрезвычайно важно), которая включала бы время в качестве своего собственного объективного содержания. Это положение вряд ли можно считать буддистическим – а тем более «буддийским», – но при этом мы все же можем сослаться на метафизику йогачары, где время рассматривается в качестве одного из «содержаний» неиндивидуального сознания-вместилища (ālayavijñāna)[213]213
Боюсь, здесь нам придется различать между «индивидуальным» в смысле «субъективного» и «индивидуальным» в понимании проявления высшей объективности. Я думаю, что алая-виджняну, даже взятую в ее индивидуальном аспекте, нужно понимать в последнем смысле.
[Закрыть].
6.14.2. Говоря об условиях мышления, когда время выступает как его объект и содержание, мы находимся в положении, которое само по себе одновременно и субъективно, и объективно. Субъективно, потому что, думая о времени, наше мышление обязательно сосредотачивается на неких рефлексивных процедурах, связанных с длительностью нашего собственного или чьего-то еще мышления, или любого акта мышления, предшествующего, совпадающего или следующего за любым актом не-мышления. В последнем случае время рассматривалось бы как время последовательности или серийности мышления. Однако все сильно указывает на то, что время одних лишь актов не-мышления не предусматривает никакой последовательности или серийности. [Так, последовательность Текстов (sūtrānta) или их экспозиций (dharmaparyāya) темпоральна лишь вследствие их подчеркнуто сознательного характера.]6[214]214
Более того, порой, как в «Ваджраччхедика-праджняпарамите», идея прошлого, настоящего и будущего фигурирует в связи с тем же самым текстом (то есть тем же sūtrānta), говоримым, понимаемым, слышимым или поясняемым в разное время.
[Закрыть]В чисто буддологическом понимании саму идею всех Будд прошлого, настоящего и будущего можно считать одним из таких условий мышления о времени. То есть, думая обо всех Буддах, привносят идею времени – а не наоборот. Значит, время не может здесь быть независимым объектом мышления, потому что оно зависит от своих условий6[215]215
Мы видим это и в «биографии» любого Будды (этим я имею в виду «все Его существования»), где время требуется лишь для того, чтобы установить фазы Его буддства. Эта идея полностью противоположна гуссерлевой феноменологии, где время выступает «сферой» для уникальных биографических ситуаций, обретая тем самым уникальность своего собственного бытия. См. у Альфреда Шюца (Schutz A., 1973, p. 308–309).
[Закрыть].
6.15. Скрытый постулат о мышлении
В одном из своих метафизических эссе М. Мамардашвили говорит: «Разве не удивительно, что такой вещи, как мышление, просто не может быть, хотя мы знаем, что, скорее всего, оно есть»? В буддизме мы не обнаруживаем никакого инструмента для работы с мышлением, несмотря на то что йогическое понятие мышления в нем постоянно присутствует[216]216
«Мышление, если спросить философа, представляет собой что-то очень сложное, поэтому лучше его об этом никогда не спрашивать. Философ – единственный человек, который не знает, что такое мышление…» (Jung C. G., 1976, p. 11). Ладно, предположим, что Юнг мог знать, как мыслил тот или иной человек, но отсюда он не мог знать, каким образом случалось то или иное мышление или даже случалось ли оно вообще. А учителя поздних школ махаяны знали, по крайней мере, что две (или более) мысли не составляют мышления, но остаются сознанием: «То, что называется „сознанием“ (vijñāna), является „продолжающейся мыслью“» (Awakening of Faith, p. 49).
[Закрыть].
С точки зрения эмпириста, эта невозможность слишком очевидна, чтобы в ней усомниться, ибо мышление нельзя обнаружить путем нашей рефлексии над своим мышлением. А в абхидхаммическом подходе ситуация с мышлением еще сложнее. Ведь в Абхидхамме эта рефлексия всегда как бы уже объективирована как то или иное состояние ума, а значит, само мышление нельзя обнаружить в (а не путем, как в предыдущем подходе) нашей или чьей-либо еще рефлексии над мышлением. Теорию дхамм вряд ли можно представлять как метод анализа или интерпретации одних лишь рефлексивных процедур. Дело в том, что рефлексия над мышлением, хотя она и присутствует по крайней мере в шести из 56 дхамм, по-прежнему выступает в качестве «недхармического» и тем самым полностью субъективного состояния ума. Тогда как само мышление нельзя зафиксировать в дхармическом анализе каких-то рефлексивных процедур, ибо его присутствие в них чисто объективно и не подлежит никакой рефлексии. Я предполагаю, что некоторые учителя Абхидхаммы могли видеть это еще во времена составления самых ранних «списков дхамм». Мы можем даже утверждать, что, несмотря на то что оно понималось, классифицировалось и обозначалось посредством таких квазисинонимических терминов, как «мысль» (citta), «ум» (manas), «сознание» (vijñāna) и в поздней махаяне «сознательность» или «мысленность» (sems-nyid), само мышление оставалось неотождествленным или даже не отождествимым с какой-либо абхидхаммической или абхидхармической категорией или понятием. Более того, когда мы говорим «объективная», это подразумевает превращение определенной вещи из «субъективной» в «объективную», чего можно достичь посредством дхармического анализа, либо посредством процесса дхьяны, либо как-то еще. Но когда мы говорим, что мышление невозможно, то предполагаем, что это мышление, независимо от того, может оно быть или нет, нельзя мыслить иначе как первично объективное или что его объективность первична. В таком случае дхармы рассматривались бы как вторичные объективации мышления, а рефлексивные процедуры – как его субъективные интерпретации.
Понимать мышление как невозможное трудно еще и потому, что само по себе мышление, вообще говоря, не является естественным. Более того, оно крайне неестественно, при условии, разумеется, что оппозиция «естественное – неестественное» относится к нашей собственной культуре и не имеет никакого отношения к культурному фону раннего исторического буддизма. [Где то, что мы называли бы «естественным», выступает, конечно же, как «обусловленное». Так, страх (bhaya) Будда описывал как возникающий даже у высокоопытных аскетов в силу воздействия на них некоторых условий (крайнего одиночества, джунглей, духов и призраков в лесах и пустынях и др.), но не по причине их собственной «человеческой» природы и т. д.] То есть, буддистически говоря, мышление не приходит как дождь, ведь даже если мы не знаем его причин, предполагается, что они существуют. Мышление как таковое (то есть отдельно от его направления, характера и т. п.) просто случается, и единственную, хотя и весьма отдаленную аналогию этому «случанию мышления» можно усматривать в процессе дхьяны в его самом общем понимании. Дхьяна, конечно, не даст нам ключ к пониманию проблемы мышления, но может косвенно указывать на некоторые возможности этого понимания. Говоря это, я прежде всего имею в виду существование особых дхьянических текстов, которые не только содержали в себе (или являли собой) объекты или терминологические фиксации дхьяны (особенно сати, йогическое «обратное вспоминание»), но и служили своего рода основой для мышления. То есть, когда и если осуществлялось мышление, оно осуществлялось в рамках и в терминах этих дхьянических текстов, что никоим образом не предполагает, что их можно считать «текстами мышления». Ибо «текст мышления» подразумевает, что некое мышление (или мышление некоего типа) уже случилось либо до текста, либо в совпадении (или единстве) с его возникновением. Но мне кажется, что в случае буддийской дхьяны эти тексты, устные либо письменные, существовали в качестве «бессодержательных» единиц чисто потенциального и непроявленного мышления, которое могло находить или не находить в них свое осуществление. Так, взяв в качестве примера «Дхаммасангани», можно рискнуть утверждать, что даже опытный йог не смог бы реконструировать текст этой книги из матики, хотя, может, и можно, зная эту книгу, актуализировать весь текст (в обратном вспоминании) как текст мышления, следуя матике. Иначе говоря, в европейской философской традиции сколь угодно краткий или сжатый текст все равно можно рассматривать как «текст мышления», то есть любой текст можно по крайней мере гипотетически отождествить с текстом мышления и как таковой – продолжить или прервать, воспроизвести или уничтожить. Тогда как в традиции Абхидхаммы никакой текст мышления нельзя ни создать, ни уничтожить, ибо он существует в своей потенциальности, которая сама по себе не текстуальна.
Так, метафилософски говоря, мы можем предположить, что в европейской культуре (в широком понимании) каждый текст может быть представлен в виде осуществленной культурной рефлексии над мышлением, которое само по себе не существует вне этой рефлексии, которое возникает и исчезает вместе с этой рефлексией, а потому совершенно невообразимо без текста его (то есть мышления) культурной реализации. В буддийской традиции сама идея культуры полностью синонимична традиции как таковой, и, следовательно, физически текст не имеет почти никакого значения для потенциального существования мышления. Всякий реальный текст дается нам как мыслимое (слышимое, читаемое, записываемое, созерцаемое и т. д.) содержание. Но именно через эту мыслимость, а не через текст или его содержание, раскрывается невозможность самого мышления – не только невозможность его мыслимости, но и невозможность его бытия. Потому что не существует ничего между объектом в содержании и текстом, посредством которого это содержание (или, точнее, мы сами) могло бы найти его выражение. Поэтому классический дуализм «уровень содержания/уровень выражения» совершенно неприменим к проблеме мышления.
Метафилософски говоря, можно также заметить, что любая феноменология – это всего лишь исследование способов или методов (или, скажем, законов или правил), посредством которых мысль можно интерпретировать в ее культурных фиксациях (называемых «понятиями», «концепциями» или «идеями»). Придавая сделанному выше замечанию более «общий» (и более кантианский) характер, можно даже утверждать, что каждый феномен – это мысль, уже истолкованная в смысле содержания, а все такие понятия, как «текст», «содержание», «форма», «знак» и т. п., оказываются терминами интерпретации мышления, а не терминами самого мышления. Более того, с буддистической точки зрения их можно даже рассматривать как противопоставленные мышлению, учитывая рефлексивный и тем самым субъективный характер всех абстрактных интерпретаций мышления в целом. [Я бы даже усматривал в таких йогических формулировках, как, например, «флуктуация мысли» (cittavrtti), оппозицию мышления как такового всевозможным его интерпретациям как чего-либо другого.] Поразительная идея формалистов-йогачаринов, что всякие мысль или сознание – «самоосвещаемы» (svaprakāśa), имела совершенно объективное значение. То есть она никогда не имела ничего общего с «субъектом», будь то «я», «ты» или «мы». Потому что именно мысль, а не «я» или «ты», мыслилась как осознающая себя. И поэтому Джинендрабуддхи в своем комментарии обозначает это состояние субъективного осознания идеи словом «буддхи», используемым в качестве термина вторичной интерпретации мышления[217]217
См.: Stcherbatsky Th., 1930, р. 389, 400.
[Закрыть]. Один из важнейших моментов в философии Абхидхаммы, а именно абсолютно дискретный характер состояний сознания (дхамм), находит полную аналогию в абсолютной отдельности всех мыслей друг от друга в пространстве и времени. Так, мысль (citta) возникает внутри события или случая (samaya), где и когда она связывается с дхаммами, объектами (ārammana), субъектами (puggala) и кармой. Но даже при таком квазиреалистическом описании мысль никогда не становится (bhavati) тем, чем она есть (hoti), какими бы блестящими ни были соображения на этот счет г-жи Рис-Дэвидс. По сути, она не может быть даже в виде единичного акта или момента мысли. Поэтому она может лишь случаться, или «из ниоткуда» втекать в «поток мысли», учитывая, что последний – это не более чем еще одно интерпретативное понятие, которым формально устанавливается субъективно приписываемая непрерывность дискретных состояний и вещей. Мышление можно теоретически представить как находящееся либо в интервале между его пребыванием в «нигде» и его попаданием в поток, либо в интервале между одной мыслью и другой, но так, похоже, не пытался размышлять никто из учителей Абхидхаммы. Но тогда возникает совсем другая проблема: как перейти оттуда, где мышления нет, туда, где мышление есть? Для Декарта, равно как и для Виттгенштейна, такой переход был бы невозможен. Ведь любое указание на точки или моменты «без мышления» для любого из них было бы пустым, хотя и по совершенно разным причинам. Для Декарта это невозможно онтологически (то есть независимо от его методологии) по причине параллелизма двух «бытий», сознательного и естественного: они не могут пересекаться – и это понимается объективно. Виттгенштейн же, в отличие от буддизма, само мышление полагает полностью естественным, а точнее, оестествленным понятием: мое мышление столь же естественно, как и моя речь (и язык мой тоже столь же естественен, как и моя речь). Но там, где он не может засечь мышления, ему приходится вводить какие-то другие способы объяснения, почему он этого не может.
Виттгенштейн пишет о людях, выглядящих как автоматы: «Как если бы они действовали не по своей воле…» (Wittgenstein L., 1978, р. 99). Но разве эта воля не обнаружима? Иными словами, ее можно проследить. [Буквально: можно наблюдать ее следы, или, скорее, следы или симптомы ее отсутствия, нежели наличия. И тогда он говорит: «они ведут себя как автоматы…»] Но волю никогда не осуществить в ее действительности, кроме тех случаев, когда проявляется действительность ее отсутствия. И конечно, Виттгенштейн не мог рассматривать ее иначе как личную волю, бытие которой сомнительно, тогда как его собственное бытие несомненно и потому «описуемо». Так что воля – это вещь, которая может быть или не быть, хотя ее нельзя осуществить как, скажем, одну у всех людей. Тем более что для Виттгенштейна другая воля должна была отмечаться скорее ее отсутствием, нежели наличием, тогда как его собственная воля чувствовалась (за пределами его философского исследования, то есть неописуемая или «невыразимая») как наличная по причине его… мышления[218]218
В этой связи нужно добавить, что даже такому «лингвистически настроенному» философу, как Виттгенштейн, не удалось избежать своего рода сильнейшего скрытого психологизма. Остро (и в шутку) критикуя его за «важную, но неуместную догадку» об эмоциональных спутниках мысли (между прочим, весьма не чуждая буддизму идея!), Эрнест Геллнер считает это частью или аспектом виттгенштейнианской «натурализации» всех идей. Гораздо важнее, однако, что такая натурализация неизбежно принимает форму психологизма или даже превращается в философию ума. Будучи «простым и усталым» философом (!), приходится признать (просто и устало), что мысль является чем-то менее естественным, чем чувство, а «ментализм» является важным и неизбежным спутником «лингвистицизма». На что философ вайбхашики-йогачары VII или VIII века н. э. неустанно возражал бы, говоря, что важно лишь то, имеем ли мы дело с мыслью или с ее объектом (будь то чувство, стол или мысль), и что ни один объект не может быть более или менее естественным, чем другой. См.: Gellner E., 1979, р. 220.
[Закрыть]. Иначе говоря, она могла осуществляться в факте его мышления, которое иначе никогда не достигло бы «поверхности» его текста и навсегда осталось бы чем-то крайне скрытым и потенциальным в глубинах его ума. Чем-то, о чем ему пришлось бы молчать.
Однако для того, чтобы признать наличие «другой воли» или хотя бы ее возможность, наблюдатель должен допускать чье-то другое мышление о ней. [Из одного только наблюдения за самонаблюдением никакой воли не вывести.] Возвращаясь к старому буддийскому аргументу, можно было бы сказать, что, хотя «желание действия» и можно вывести из факта внешнего (наблюдаемого извне) движения, и то же самое с мыслью, речью и т. д., это будет лишь формальное желание, считающееся внутренним компонентом внешнего действия. Какой-то более глубокий фактор остается пока нераскрытым, ожидая своего обнаружения и анализа в поздней Абхидхарме, где «возникшую мысль» с ее спутниками будут рассматривать как совпадение, вызванное этим самым фактором васаны (bags), понимаемым как объективная воля. Для Виттгенштейна она всегда субъективна, то есть это его собственная воля. И потому он не учитывает «мышления», говоря о людях, выглядящих как автоматы, то есть лишенных своей субъективности, а о себе при этом постоянно говорит лишь в терминах субъективности. Противоположная позиция кратко показана, например, в «Бодхичарья-аватаре» (см. 4.2), в которой «автоматы» описываются как лишенные сознания, а не воли, ибо мышление как феномен не может само собой стать, но может случиться, то есть попасть в поток посредством васаны. Ведь, как было показано выше, поток есть не что иное, как объективация мысли или сознания в его квазивременном аспекте, в то время как мышление обязательно требует работы постоянно действующего фактора.
Мое весьма расплывчатое предположение состоит в том, что в некоторых текстах Палийского канона (не только в Абхидхамме) самым важным считается своеобразие мышления, а не его типология. А именно такие «точки фиксации» мышления, где оно не может соотноситься с общим типологически, не происходит от какого-либо прототипа исторически и не должно редуцироваться логически к какому-либо исходному принципу. Рассмотрение мышления в таких фиксациях можно считать одной из метафилософских задач. Я бы даже предположил, что столь широко известный и превратно понимаемый феномен, как самадхи (и особенно сатори в дзен-буддизме), можно представить как ту абсолютную остановку мышления, внутри которой всякий, кто попадает туда, не мыслит своим собственным уникальным образом. Образом, который отличается от любого другого образа не-мышления гораздо больше, чем один образ мышления может отличаться от другого.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.