Текст книги "Это невыносимо светлое будущее"
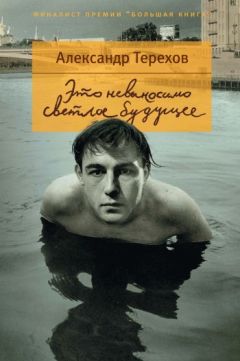
Автор книги: Александр Терехов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Он вернулся к нам летом. Я вот только забыл когда – в конце июля или начале августа, вот так где-то. Тогда уже настала для нас жуткая скука – все деды страшно скучают. Ничего внутри уже не остается, кроме тоски по дому. Тоски, знаете, не обычной такой, не по квартире или друзьям, бабам или магнитофону. Тоски по другой жизни, и не разберешься – то ли это тоска, то ли ненависть к тому, что уже осточертело. И каждый дед в эту пору бесится по-своему.
Коровин вдарился в загулы и пьянки, на гауптвахте его называли уже по имени-отчеству и берегли именные нары. Игоря Петренко под конец службы подстерегла невеселая весть от его бабы – что-то вышло у них не так, и Игорь теперь то зверел, как свежий, намучившийся шнурок, то спал в любую удобную минуту. Я стал врубаться старательно в службу, получил младшего сержанта, дали мне в подчинение отделение. Показатели у моей смены на боевом дежурстве были лучшими в роте. На День авиации я сдал на первый класс. Короче, старался, как мог, рвал изо всех сил, чтобы уйти домой раньше всех, в заветной «нулевой» партии на дембель. Это было трудно, в нулевке всегда только три места, причем одно из них изначально закреплено за водителем командира части. Да я еще политинформации читал, навострился выступать на общие темы на комсомольских собраниях и перед субботниками. Замполит вроде меня оценил и пару раз приглашал на деликатные разговоры, когда в роте было пустынно, но я вежливо отказывался с улыбкой – подальше от греха.
Когда моя смена отсыпалась перед ночным дежурством, я забирался в ленкомнату листать ветхие подшивки газет и поглядывал на тротуар, по которому ходила на работу и обратно красивая жена очкастого майора Наташа. Я выдохся немного и стоять караулить ее на улице уже было лень, но смотрел по-прежнему, в ее походке и величии мощного, сильного тела было что-то обещающее потом – и ведь живет кто-то с такими женщинами, занимается с ними любовью, эх, даже обидно как-то.
А Серега Баринцов бесился меньше всех, он стал совершенно прежним ленивоватым, румяным, потолстел, он был вылитый кот и игрался во все, что хотел: наводил внезапные гонения на салабонов, разыгрывая настоящие трагедии в лицах, дергал без устали шнурков, обвиняя их в несуществующих провинностях и упущениях по службе, облазил все кинотеатры, посетил общагу медичек с Коровиным, после чего я весь вечер смеялся до слез, когда он рассказывал про это дело. Вечерами мы подолгу трепались. Я для компании приглашал со второго яруса салабона Васю Смагина по кличке Членкор. Вася был писарем, печатал про нашу часть заметки в окружной газете и знал массу интересных вещей. И вот как-то в июле или августе Баринцов мне сказал, что привезли обратно Раскольникова. Я как раз вставал с кровати – отсыпался после ночной смены. Намотал полотенце на шею и пошел к канцелярии. И правда: стоит у стеночки совсем белый, печальный Раскольников со свежим синяком под глазом и вещмешком за плечами. На меня только покосился. А напротив него топорщит уже свои грозные усы Петренко и спрашивает ласково и обещающе:
– Ну что, Раскольников… Там лучше было?
Васька Смагин, сшивавшийся при канцелярии, рассказал мне достоверно, что там приключилось у Раскольникова. Он заболел легкими, и его отправили на месяц в Тамбов – на целый месяц! То ли он там столько лечился, то ли просто отирался, упрашивая главного врача, не знаю. Обратно из госпиталя его проводили одного. На прощание сказали: будешь ехать через Москву – сдай анализы в нашем филиале и пришлешь нам потом результат, мы глянем – здоровый ты или еще нет, может, обратно придется класть. Он анализы в Москве сдал, а результаты должны были быть готовы только на следующий день. И он решился ждать, хотелось, наверное, опять в больницу залечь, надеялся. А отпускной у него уже оказался просроченным. И он, вместо того чтобы дома отсиживаться, торчал, как столб, на Павелецком вокзале. Там его патруль и замел. Подержали сутки в Алешинских казармах и отфутболили в часть. Отличная часть, испортив себе столь серьезным нарушением всю годовую отчетность и перечеркнув все надежды на успехи в соцсоревновании, совершила увлекательный марш-бросок с полной выкладкой. Актив части от имени благодарной общественности поставил Раскольникову синяк под глазом на память, а командование волевым решением избавилось от паршивой овцы – вернуло его нам.
После обеда мы зашли в чайную посидеть. Тут к Петренко подкралась делегация шнурков: Ланг, Джикия, Вашакидзе, Коробчик.
– Игорь, – осторожно начал Ланг. – Пусть Раскольников пашет. Он же на нас стучал, как щука. Своих закладывал. Он всю жизнь где полегче искал – пусть хоть сейчас узнает, какая служба есть.
– А мне это как-то так… – просто сказал Петренко. – Пусть пашет. Лишь бы мне через это дембель не обломили.
Игорь очень волновался за свой дембель – он тоже метил в «нулевую» партию и мечтал получить «старшину» по дембелю.
– Так, ну а ты что надулся, Олежа? – спросил меня Игорь, неприятно сморщившись. – Не нравится? Но ведь он и правда все время пахать не хотел. Все как-то по-другому хотел, а? И шнурье все равно бы его достало, как бы я им ни сказал…
– Бичи, давайте еще «пепси» возьмем, – улыбнулся примирительно Серега Баринцов. – Помянем душу ефрейтора Раскольникова.
Я быстро потом успокоился. Сильно бить Раскольникова не стали. Шнурки придумали хитрее – Раскольникова припахивали салабоны. Им говорили так: «Иди попроси Раскольникова помыть туалет. Не пойдет – сам будешь мыть и по лбу получишь». Это было зверски смешно, когда весь испуганный и затюканный салабон Курицын подходил тихонько к дедушке Раскольникову и начинал лепетать: «Там в туалете… Может, поможешь, а? Помоги…» Раскольников сильно краснел, пытался отвернуться и что-то делать: разбирать свою тумбочку под строгими взорами наблюдавших это дело шнурков, бормотал, что уже сегодня помогал и не может именно сейчас, а Курицын тупо ныл: «Помоги, а?» И так долго, шнурки уже начинали что-то шипеть, и Раскольников, сгорбившись, шел, а за ним, еще больше сгорбившись, крался салабон Курицын, озираясь по сторонам, – ничего ему за это не будет, еще не кончилась эта странная затея дедов и шнурья?
Это был настоящий спектакль. И салабоны потихоньку смелели. Говорили мне, что даже стукнул кто-то из них нашего ефрейтора – и на это деды смотрели сквозь пальцы.
Историй смешных с ним приключалось полно. Вот однажды Раскольникова старшина положил спать на свободное место Вашакидзе – у Раскольникова постоянного места не было. Ночью из рейса приехал друган и дразнитель нашего каптера Вашакидзе – кардан Коробчик – и первым делом отправился будить своего товарища. Раскольников всегда спал, укрываясь с головой, скорчившись как-то на бок, будто пытаясь пропасть в этой кровати.
Коробчик уселся осторожно на кровать, но Раскольников наверняка сразу же проснулся и с замершим сердцем ждал, что его ждет: работа, «темная» или просто какая-нибудь ласковая шутка бессонного дедушки. Коробчик осторожно прицелился пальцами и схватил через одеяло предполагаемого Вашакидзе за нос – Раскольников решил, вероятно, что настал его конец: он взметнулся, как ошпаренный, и прямо с одеялом выскочил на середину прохода, немного взвизгнув. Коробчик остолбенел. Ему даже как-то неловко стало.
Мы с Серегой лениво смеялись. Вася Смагин рассказывал нам про американских президентов – нам что-то не спалось.
Вася был интересный парень. Он всегда ходил с доброй улыбкой, не отказывался, если дедушка просил подписать душевно и красиво открытку или девушке письмо накатать с любовью и тоской. Он к каждому дедушке подходик найти умел – то про дом расспросит, про работу на гражданке, личной жизнью поинтересуется – и слушать так умел, что казалось, что именно это Васю в данный момент волнует больше всего на свете. Я в свое время тоже так прожить пытался, но у меня как-то через силу выходило, слишком ненавидел, а у Васи как-то легко. Деды его немного оберегали, и если получал, то тайком от злящихся на него шнурков, я даже не знал, как они позаботятся о Васе, когда дембельнемся, – простят ли…
И что поражало в Васе, так это его странная манера: он как-то очень подробно интересовался, кто каким был по салабонству, кого сильней били, кто пытался подлизываться, как ломают людей, кто с кем дружил и как, кто каким шнурком был, и из какого салабона выходит авторитетный дед, и что такое вообще авторитетный дед. Я сам после этих вопросов стал как-то задумываться. Но вот что он, интересно, подумал, когда узнал, что Петренко, Баринцов, Раскольников и я – из одного взвода в учебке, и я там был комсоргом? Вот что при этом было в его голове? Уж больно он задумчивый был, когда про это расспрашивал. У меня при этом ничего в голове не было.
И когда Вася увидел сцену Раскольникова с Коробчиком среди ночи, у него вырвалось вдруг:
– Какая страшная судьба…
– У кого? – переспросил я. – У Раскольникова?
– Да.
– Почему это? – глухо спросил Баринцов и подтянул одеяло повыше, его лицо было в тени.
– Парень стучал на своих. Парень теперь гребет за это, – вздохнул я. Когда я говорил с Васей, у меня всегда было ощущение, что говорит во мне кто-то другой.
– Ничего страшного. Не страшней, чем у каждого, – добавил из темноты Баринцов.
Вася быстро и готовно согласился, кивнул и продолжал говорить про то, как убили президента Джона Кеннеди. Он умел быстро забывать свои слова и менять темы разговора, так и не поймешь толком, что же он хотел сказать. Потом я как-то мельком увидел, что Вася подходил к Раскольникову и о чем-то его коротко спрашивал, и с болезненным интересом разглядывал нашего ефрейтора, не особенно приближаясь к нему, будто зная о смертельной болезни своего собеседника. Вася был очень похож на меня. Это меня и тянуло к нему.
Скука скукой, но все шло спокойно.
Зато после приказа все как с цепей посрывались. Ветеранам стало уже невтерпеж, по роте поползли слухи, кто в какую партию запланирован домой и кто чем этого добился: кто стучал замполиту, кто рвал задницу перед старшиной, кому поставлен какой дембельский аккорд – то есть, что надо сделать, чтобы отправиться домой не тогда, когда с неба повалит снег, чем пугали зашивонов. Те, кто уходил позже, стали ненавидеть тех, кто уходил раньше. Если и раньше особой дружбы не было, теперь вообще волками стали глядеть друг на друга. И поэтому все осточертело еще больше.
Через десять дней после приказа командир перед частью объявил, что в «нулевку» идут трое: его водитель, старшина Петренко и младший сержант Мальцев – я, то есть. И мне стало покойно-покойно – вот и все, все закончилось. Я стал по вечерам тщательно готовить парадку. Я стал думать, когда прощаться с красивой женщиной Наташей – женой майора. От салабонского упоения следа не осталось, но цветы подарить и слова те самые сказать хотелось.
Баринцов ржал надо мной:
– Я же говорил – какие цветы?! Надо было пузырь и – прямо на квартиру, вперед в атаку. Что ей с цветов? Ей знаешь чего надо, а? Ей, может, с солдатом и поинтересней. Для экзотики, ха-ха…
А вот мне так хотелось. Рассказал про свой план Ваське Смагину. Ваську не поймешь – улыбнулся и промолчал.
У меня голова иногда как будто кипела: впереди – институт, ребята, девчонки – ух, держитесь, девчонки, выбирайте из себя самую красивую и загадочную, чтобы волосы длинные и волной, да и те, кто похуже, не тужите – и на вас хватит! И я буду солидный, спокойный, мужественный, настоящий мужик! И жизнь простая и понятная основательно, так!
Вам этого не понять.
Даже мне сейчас трудно это понять. Как я жалею, страдаю, что прошло, делось куда-то, истаяло то ощущение легкости, оторванности, когда понимаешь и говоришь всем: люди, мне на все плевать – как я одет, что про меня скажут вслед, что придется мне есть и придется ли, сколько у меня денег и что вокруг – мне плевать! Самое главное, я иду, куда хочу. Я сплю, сколько хочу. И мне плевать на всех вас, на всех и каждого!
А ветераны бесились, и это закончилось плохо.
За неделю до ухода «нулевки» четырем ветеранам, пославшим за водкой духа Швырина, пообещали продолжить службу до белых мух. Среди великолепной четверки оказался и Серега Баринцов – он сразу почернел лицом и стал засыпать лицом вниз. Про водку кто-то стуканул. Сомнений в том, кто – не было. Ночью Петренко с двумя ветеранами устроил «темную» Раскольникову. Тот не пытался сопротивляться, когда его, завернутого в одеяло, тащили по проходу, пиная ногами, в тишине казармы был слышен только тихий скулеж, будто животного. Петренко особо не прятался. Он громко сказал: «Не вздумай, падаль, повеситься. За твою паршивую душу попасть в дисбат охотников нет. А стучать можешь, гнилье!»
Раскольникова немедленно положили в санчасть – у него было много сильных ушибов и легкое сотрясение мозга. Командование объяснило это падением с лестницы. Петренко ждал с минуты на минуту, что его «нулевка» накроется, но было тихо. Раскольников промолчал. Или командование поняло, что если тронут еще кого-то, то Раскольникова вообще убьют.
Мне было очень жаль Серегу Баринцова – он резко увял, лежал часами, смотря над собой, внешне спокойный, будто ждущий срока своего со смирением.
– Ничего, – говорил он. – Все равно мы дома будем.
«Нулевка» уходила в понедельник, рано утром. В пятницу я купил у гарнизонной старушки двадцать один тюльпан и ждал утром у КПП Наташу.
Она шла одна. Как я и хотел. Как и мечтал эти полтора года. Она смотрела поверх всех, надменно сжав губы, она будто плыла над всеми, сквозь всех, не меняясь гордым лицом, она шла, будто нес ее ветер, что дул в спину, вот так она шла, выставляя белые тягучие ноги в разрез плаща. И была все ближе, и рядом, я как толкнул себя:
– Извините, – напряженно начал.
В спину мне уставился весь наряд на КПП. А она даже не поняла сначала, что это ей сказали, она чуть даже прошла мимо, но тут, нахмурившись, покосилась на меня – это ей? Нет?
– Извините, – повторил я, как заведенный. – Я вас задерживаю, извините…
У нее было вежливое, спокойное лицо, в которое я не мог заставить себя взглянуть, от нее пахло духами, я заканчиваю службу, у меня потная ладонь, в которой цветы, как ей сказать это больное, томительное все…
– Вот. Возьмите, пожалуйста. И спасибо вам. – Я попытался протянуть ей букет.
– Что? От кого? Кто вам сказал? Знаете, что ему скажите… – неприязненно вздохнула она, сдвинув выщипанные брови к переносице.
– Нет! Это – только от меня. Да и от всех, я хочу… Спасибо!
– От вас? Вы подождите, за что спасибо-то? Что вы волнуетесь так. – Она поглядывала на букет, как на грязного котенка, а у меня было ощущение, что я падаю в нее, прямо в это прекрасное лицо, невероятно живой поворот головы и единственный голос, который будто говорит то, что было когда-то твоим.
– Это вам за красоту, – ляпнул я. – Возьмите, пожалуйста. Не обижайте меня, – добавил вообще жалко, даже самому стало стыдно, и все совал ей букет.
– Ну, хорошо, хорошо, – быстро проговорила она. – Я возьму. Давайте с вами так договоримся. Мы цветы отдадим этим ребятам на КПП – пусть они тут поставят, сюда на окошко. И всем, кто будет проходить, будет приятно, вот так… Хорошо, да?
– Да. Так, – кивнул я, вздрогнув оттого, что почувствовал касание ее тела в мягком движении, которым она взяла букет.
Она сунула букет усатому прапорщику в руки, тот еле сдерживал ржание, дежурные за окном вообще стонали от смеха в голос.
И тут из черной «волжанки» высунулся черноволосый холеный старлей – адъютант институтского генерала:
– Наташа, поедем? Нет?
Он отпустил шофера величественным жестом и подошел к нам.
– Цветочки? Кто дарит?
– Да вот, – протянула Наташа свою белую руку, похожую на лебединую шею, в мою сторону. – Мальчик вот этот… Говорит, за красоту. – И она коротко усмехнулась.
Я поднял лицо – вокруг ее глаз были видны морщины.
– Ва-енный? – протянул адъютант, насмешливо приподняв брови. – Это ты, что ль? Ведь ты, наверное, месяц деньги копил? Да какой месяц, полгода! Да? Ну, ты чего стоишь? Шагай давай. На чем хоть экономил? На подворотничках? Да у тебя и сейчас подшивочка-то… да-а, шейку не моем?
Наташа вдруг откинулась назад и захохотала чужим, крикливым голосом:
– Отстань от мальчика, он помоется!
– Давай иди, – отпустил меня старлей по-хорошему. И он отвернулся, а я стоял, я не мог понять, как люди ходят.
Старлей даже рад был этому и зашипел мне:
– Товарищ солдат, вы что, ходить разучились? С тобой что, позаниматься?
И тут я улыбнулся прямо в его холеную морду. Господи, да ведь уже всё, всё!
– Позанимайся!
Наряд на КПП открыл рты.
– Что-о?! – завопил старлей. – Какой части? – Я с лету назвал пять цифр, которые старлей немедленно записал в блокнотик, и заорал еще: – Я тебе настроение испорчу, сынок, шагом марш отсюда! – И он толкнул меня в плечо.
Вот этого не надо было делать.
Я шагнул назад и снизу с наслаждением ударил кулаком в его красивое смуглое лицо, по электрическому звонку в шесть утра, по одинокому куску сала в картошке, по портянкам с синеватыми разводами, по мордам, мордам, мордам и маминому голосу из белого конверта, по ушедшей жизни и растоптанному внутри, по двадцати одному тюльпану, которые получат ночные проститутки, подползающие к КПП после двенадцати, по себе, по тому, кем я никогда уже не буду.
Старлей вскрикнул, отшатнулся и стал ловить дрожащими руками свою фуражку – у него было удивительно глупое лицо. Наташа застыла с какой-то брезгливой гримасой, обезобразившей до неузнаваемости ее лик, но мне некогда было всем этим любоваться и разглядывать детали – я бежал вдоль забора, мне надо было преодолеть забор в глухом месте и успеть на построение – впереди меня ждало последнее дежурство.
После построения я сразу же рассказал все Сереге.
– Чепуха, – отрезал он и усмехнулся. – Не найдут. Чего тебе бояться, нет времени, чтобы тебя найти, два дня осталось, Только не трепись сам – отвел бы меня в туалет, там бы и рассказал, а то встал посреди казармы… Молодец, короче. Повидал свою любовь. Два дня всего!
На смене я совершил немало смешных вещей – просил прощения у свежих шнурков, одарил значками Ваську Смагина, приехавшего оформлять стенды смены, пронес на себе до туалета Курицына, я был в запале каком-то, гасил его – ходил по мокрому осеннему лесу, глазел на сосны, клены, остатки синего неба в истрепанных облаках, как клочьях тополиного пуха, я прощался и расписался кирпичом в туалете: «Осень 1983 – осень 1985 гг.».
– Мальцев! – позвал меня с крыльца дежурный по связи. Я прошагал за ним в комнату личного состава. За столом сидел командир части в шинели, замполит, слева стоял старшина и мой адъютант с натянутым лицом.
– Этот, – просто сказал адъютант. – Спасибо, что нашли. Лихо!
– Ну вот так давайте решим, – сказал командир, будто не видя меня. – Сейчас на дежурной машине в роту – собрать вещи, освидетельствовать состояние здоровья и пять суток на гауптвахту. А там видно будет. Хорошо?
Старшина посмотрел мне прямо в глаза и свистящим шепотом добавил:
– Когда снег пойдет – тогда ты маму и увидишь.
В роте я обнял Петренко – больше я его никогда не увижу, он уходит завтра. Махнул головой Баринцову – он меня дождется.
Серега строго сказал мне:
– Мы найдем эту сволочь. Он пожалеет, что родился, этот стукач.
В санчасти фельдшер Серега проверил мое давление и, когда сестра вышла, спросил:
– Хочешь, завернем твою «губу»?
– Нет.
– Чего зеленый такой? – спросила насмешливо медсестра. – Не уходи, посиди еще на лавочке в коридоре. Я тебе хоть витаминчиков принесу. Хулиган.
Сопровождавший прапорщик болтал с медсестрой про какую-то Светку, а я вышел из кабинета, пошел к окну – я хотел посмотреть вниз с четвертого этажа. Окно было раскрыто, на подоконнике в синей пижаме стоял Раскольников и заделывал замазкой щели на растворенной раме – скоро зима. У него было странное лицо – светящееся каким-то покоем под синим небом. Я шел к нему нескорым шагом, а когда дошел, схватил его за обе ноги и, упираясь плечом, стал вытеснять его затрясшееся тело на гибкую жесть подоконника.
– Ты что? – страдал он. Но не кричал – стонал.
Баночка с замазкой звякнула осколками внизу, за ней из его рук, вцепившихся в меня, выпала отвертка.
– Скажи мне, падла, или я тебя убью! Это ты на нас стучишь?! Это ты, гнус, нас закладываешь? Скажи мне, тварь, или я убью тебя! – Я говорил спокойно – голос мой был глухой.
– Ну!!! – Я дернул его изо всех сил.
Он закричал:
– Ну, я! Я!
Я замер, разжал руки, и он повалился прямо на пол, он не мог стоять, у него дрожали колени, он обхватил их руками и прятал свое безумное лицо.
– На витаминчики, солдатик, – позвала меня из кабинета медсестра.
После «губы» я вернулся спокойный, как лед. Я понял, что ничего у меня уже не будет.
Серега был на смене, и, дожидаясь его, я стирал «хэбэ», черное после работ на «губе», сдал в каптерку парадку, которую готовил к дембелю, – чьи-то умелые руки свинтили эмблемы и вытащили пластмассовые вставки из погон – ладно.
Смена выпрыгивала из машины, кардан Коробчик послал какого-то салабона за горячей водой. Я стоял у крыльца, меня все обходили.
– А где Баринцов? – спросил я Смагина, вытаскивавшего из кузова какой-то транспарант.
– Баринцов дембельнулся, – осторожно улыбнулся мне Смагин. – Он же в «нулевке» ушел.
Я отвернулся и прошел несколько шагов в сторону по черному асфальту. Смагин настойчиво добавил:
– А ты помнишь, он ведь и отпуск первым из шнурков получил. Раньше всех, да?
Он очень ждал, каким я обернусь к нему, и удивился, увидев мою улыбку. Ну и что… Какая разница.
Полтора месяца я ходил через день в наряд по кухне вместе с духами и салабонами. Последний наряд был в конце ноября за день до дембеля.
– Олег, там тебя зовут, – сказал салабон Швырин и неопределенно махнул головой.
Я обтер руки о засаленный фартук и вышел из мойки на сырой ноябрьский простор.
Это был Раскольников в парадке и с чемоданчиком.
– Это я, – сказал он.
Я кивнул – это понятно.
– Я хотел тебе сказать, что…
– Это понятно, – сипло сказал я. – Я знаю.
Нет сини в ноябре. Небо, как снег, на котором хозяйка выбила пыльный ковер.
– Ну, что ты стоишь? – спросил я у него.
Он повернулся и ушел.
Замполит позвал меня к себе, когда документы были уже на руках и можно было ехать.
– Ну, Мальцев, что делать собираешься после дембеля? В институт? Не забыл математики? За что примешься?
– За жизнь, – пожал я плечами.
– Слушай, Мальцев, – сказал замполит запросто. – Не езди к Баринцову. Ну, ты ему морду набьешь или он тебе набьет – что толку-то?
– Да, – сказал я. – Конечно.
Дома я был на третий день. С вечера хмарило небо – оно темнело, как свежий асфальт. Мать стелила постель и плакала, включив воду в ванне. Отец сидел, положив тяжелые руки на стол, и смотрел на горлышко бутылки – всё.
– Ленка Звонарева выросла-то как. Ты и не узнаешь, – сказала мать, пронося в комнату подушки. – Такая, прям, стала…
– Ну а ты теперь что? Сразу в институт? Или съездишь куда отдохнешь? Или к другу-приятелю. Я вот в пятьдесят четвертом после демобилизации, это тогда еще Египет начал…
– Сразу в институт.
Я вышел подышать во двор. Сильно холодало. Мимо прошли две девицы и громко засмеялись в подъезде, зашептав: «Мальцев уже вернулся».
Мальцев – это я.
Я лег спать – как головой в колодец.
Рано в шесть утра я проснулся, смотрел на потолок, потом встал, напился воды и подошел к окну.
Мать смотрела мне в спину. У этого окна она ждала меня.
Небо устало прогибаться над грязью и черными трепетными ветвями. Незаметно, густея на глазах, кружась, переплетаясь, полетел вниз первый снег – легкий, пушистый, сразу тая внизу, как призрачная сеть покрывая все, как косые мягкие пряди любимых волос, колыхаясь на ветру, – шел снег.
Я постоял, посмотрел на снег и пошел спать дальше.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































