Текст книги "Это невыносимо светлое будущее"
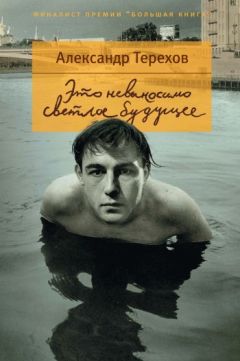
Автор книги: Александр Терехов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 11 (всего у книги 29 страниц)
Бабаев шел по летному полю и нес свое имущество: чемоданчик и печатную машинку. Увидел ее, перепрыгнул ограждение и побежал навстречу.
В коммунальной квартире на Арбате они зажили втроем, третий – сын Майи Михайловны восемнадцати лет, пребывавший некоторое время в неведении: «А-а Эдик у нас еще долго будет жить?» – «Гм-м… А ты бы хотел?» – «Конечно!» – «Я за него замуж собираюсь». – «Что?!! И свадьба будет?» Долгожданный и негладкий развод Эдуарда Григорьевича с Ларисой отпраздновали в кафе и на следующий день расписались, свидетели напутствовали молодых: «Да, пора-а, давно уж пора грех-то прикрыть!», одобрительно кивая невесте, выделявшейся среди прочих невест восьмимесячной беременностью.
Лариса через четыре месяца вышла замуж, Варвара Шкловская быстро вышла замуж, «все получилось как в водевиле», очень долго еще Эдуард Григорьевич называл жену по имени-отчеству, она объясняла это старомодностью.
Час ждал Катьку Филатову у факультета, сидел – то град, то дождь, студенты – дети с бубенчиками, курят и матерятся.
Девчонки, немного похожие на наших. Мальчишки, похожие на нас. А уже умер Бабаев, и для него цветенья уже никогда не будет. Барышня моя второй день плачет с удовольствием, разборчиво, на улице не отпускает руку и сторонится игр, слово любимое «ба-ма!», когда упадет.
После смерти ничего не осталось, жена моя в те времена в шестнадцатый раз двенадцатым способом пробовала вести учет наших трат и, доказывая успехи своей, недолго протянувшей, статистики, предоставила мне бумагу с доскональными расчетами. И там: два крестика и цифры расходов. Это что за крестики? Я сама знаю. А все-таки? Я знаю, что это. А почему мне нельзя сказать?! Когда ходили на Бабаева. Цветы, такси. Она сказала, словно мы ходили на лекцию, сказала, как говорила всегда. Хотя мы ходили на похороны.
Я помещу в этом месте четыре строки из стихов Бабаева:
А чудо, может, только в том,
Что, связь времен храня,
Наш опыт прорастет зерном
Для будущего дня.
Кто-то написал из седобородых проигравших мальчишек (такие садятся за студенческие мемуары): «Где профессор, там и университет». То есть в земле.
Засека – это вокруг города поваленный лес, упавшие деревья, чтобы врагу не проехать. Мертвые защищают город. Наши мертвые защищают пустой город.
Бабаев мечтал многое издать, написать – им владели желания, он мечтал, чтобы выпускникам университета вручали особый сборник Пушкина. Яростные поклонники Эдуарда Григорьевича из числа студентов, похоронив Бабаева, залетали с этой идеей бодро и настырно, как мухи, – лучшего памятника Э.Г. Бабаеву не придумать! – писались письма, велись разговоры с деканом, планы рисовались, достигались договоренности, не утихали звонки – зимой мухи разлетелись по углам и уснули, и я точно так.
Пять тысяч долларов – для рукописи воспоминаний (Бабаев оставил, как и хотел, книгу для издания «на потом»), бесплатного издателя не нашли, за деньги – пожалуйста, пять тысяч долларов, тираж две тысячи, иллюстрации. Майя Михайловна и Елизавета Эдуардовна глядели невесело, но я набычился: найдем-найдем! Дайте мне просительную бумагу с умным описанием содержания и пятью громкими подписями, откройте расчетный счет и ждите. Как не найдем?! Шах с видимой легкостью вышиб из «Московского комсомольца» четырнадцать тысяч долларов на ремонт класса машинопис и на факультете, а для издания Бабаева, любимца студентов, надо всего-то пять тысяч!
План мой был прост (понятно, что провалился) – я обойду всех знакомых по редакциям, я обзвоню всех, кто называет себя учеником Бабаева и скорбел о его смерти, они подымутся и убедят свое начальство – десять редакций должны дать по пятьсот долларов на святое дело. По капле!
И начал долбить.
Берестов с самого начала загляделся в другую сторону, что-то постоянно отвлекало его внимание, он жил своим творчеством, даже не интересуясь поступлениями на посмертный бабаевский счет. Следом отвалился друг и земляк Меликян вместе с «Известиями». Поплакали о нищете «Московские новости» (я звонил заместителю редактора, женщине по фамилии Телень). Отказали «Собеседник», «Огонек» и «Комсомольская правда», «Столица». Без радости выслушали «Независимая газета» и «Книжное обозрение». Лучшая ученица Шаха Надька Ожегова-Явдолюк (служила в PR-конторе, про своих буржуев сказала сразу: не дадут) посоветовала: ткнись в «Тверьуниверсалбанк» – и дала пригласительный на банкет, где гуляли банкиры: там проблеял все, что мог, и меня послали, и черт с ними, но Ожегова, тонкая, ранимая, чтящая вроде бы память Эдуарда Григорьевича, зажирела так, что даже не спросила: получилось или нет? чем же еще помочь? Мне казалось: все обязаны помогать. Я ж не себе!
Шах ничего не делал сам (это немного смущало), но Шах помогал: привез меня зимним вечером во дворец «Аргументов и фактов», хозяин миллионных тиражей, буржуй Старков принимал нас в холодном кабинете размером в банкетный зал для провинциальной свадьбы, листал, взмыкивая, листочки Владимира Владимировича (Шах привез на продажу идею дочернего издания про любовь), перевел глазки на меня: «И Сашу ты предлагаешь сделать главным редактором?», я включился: нет, у меня другое, и уже заученно затвердил: Бабаев, факультетская легенда, недавно умер, вот ходатайство на ваше имя от факультета, академиков и классиков – дай, короче, пять тысяч долларов.
«Но ведь это же сумма!» – значительно сказал бледнощекий Старков и за согласием повернулся к Шаху. «Давайте тогда так, мы дадим тысячу двести. И пусть другие дадут. Шапка по кругу», – и еще десять минут расспрашивал счастливого человека (меня!), а где можно купить «ОМ», такой журнал, новый вышел, в киоске у метро? а у какого, к примеру, метро? на «Красных воротах»? я прямо сейчас шофера отправлю – ему так не терпелось, я, бетонобойной бомбой пробив этажи, упал в приемную Манна, хозяина «СПИД-инфо», есть такая газетная империя (плюс магазины детских игрушек), я слышал, что Манн не из быдла, что отец его профессор МГУ и писал про Гоголя, Манн без тоски выслушал меня, я по слогам «Ба-ба-ев» (вдруг слышал он когда-то от папы или скажет папе потом, а тот воскликнет: как же, как же!): дадим, присылайте факс с расчетным счетом. Я с крыльца усмехнулся бледному небу: а? Кто говорил, что буржуям легче дать на лифчик, чем на книгу? Половина есть!
Два месяца секретарша Манна усыпляла меня: факс получила, завтра ему покажу, нет, он не приезжал, еще не смотрел, я еще не забирала почту, пришлите факс еще, решение не принято – а потом забыла, о чем речь. Урод помощник Старкова месяц потянул время (ему звонила дочь Бабаева, каждый день, я ж ей хвастал: я договорился, а вы дожимайте!) и обрубил: сейчас подписная кампания, у нас совсем нету денег. Меня обманули. Точнее сказать: не заметили. Я не смог.
Шестьсот долларов – вот все. Симон Львович Соловейчик, газета «Первое сентября». Незадолго до смерти он отказал Бабаеву в публикации стихов, может, ему хотелось закрасить, извиниться, а может, по своей доброте – я мало знал Соловейчика, он казался живым человеком.
Я в деталях, подробнейше повествовал все открывающиеся мне человеческие подлости (обыкновенную жизнь) В.В. Шахиджаняну, ожидая, что терпение его лопнет, всемогущая рука произведет волшебный взмах и откроется чье-то щедрое сердце, но Шах не шелохнулся, в его отдаленных репликах чуялось что-то не сочувственное моему делу (может, думал, с моей рукописью так бы ты не носился, несмотря на… – эх, правда), он берег свои возможности на свой век, а остаток века мог быть разным. Я заткнулся, перестал звонить вдове и дочери Бабаева, убедившись в своей ничтожности, и через пять лет в Петербурге нашелся человек (Н. Кононов), издавший воспоминания Эдуарда Григорьевича за свой счет.
Весной я оглянулся на свой дом, в окнах сидели старухи и смотрели на землю, как желтые листья.
Предпоследний раз мы встретились с хохлом в метро, он ждал меня у первого вагона на «Китай-городе» в синей рубашке и синей джинсовой куртке, я подумал: это машинист вышел из кабины.
Он уже подвыпил и кричал в подземном переходе, удивляясь моим сандалиям: «Тебе что? Носки лень стирать?», он работал рядом, в редакции газеты садоводов, но работу показать не мог – в кабинете торчал напарник, и мы отправились в «Русское бистро», хохол отважно взялся платить. Я выпил три кваса, он бутылочку рябиновой и кружку медовухи и еще повторил. Мы сидели на втором этаже, поглядывая на окна его кабинета – там горел свет, торчал напарник. Я молчал. Хохол рассказывал: ходил на похороны Геры Верченко – в «Коммерсанте» напечатали некролог, что Гера нелепо погиб. Оказывается, его заколол ножницами будто бы из ревности азербайджанец, торговавший машинами. Хохол поразился: какими надутыми стали наши однокурсники! Серега Плужников растолстел и отпустил бороду. Магай с Ефремовым трясли огромными галстуками и представлялись рекламистами. Еще одна красавица стала хозяйкой рекламного агентства. Толстушка Светка Буркова с вечно прыщавым лицом выбилась в руководители пресс-службы «Северстали» – хохол (от смущения уже поддавший до поминок с жителем Камчатки Малковым) вился около нее, но его оттирали, он через плечи закидывал удочки: вас, кажись, зовут Светой? Я фамилии только не помню. А чо, помните, к вам летчики ходили в комнату? «А на морде у нее на каждом сантиметре вот такой слой крема какого-то дорогого – блестит!»
Никто особо хохла узнавать не хотел, но он упрямо поплелся в журфаковский ресторан на поминки: «А почему я не пойду? Я его на субботнике строил! Я Верченко плохо знал, но я же пришел выпить!» Малков плакал: хотел заработать на мебель на обналичке шахтерских денег, а деньги ухнули все вместе с банком, и тут же в ресторане потерял оригинал-макет подарочной книги камчатского правительства, что привез печатать в Москву, Ма-гай не пил, хохол (не мог вспомнить имя) показывал ему: пей! – и чтобы продлить радость, пристал к двум наряженным казакам, крепким и плечистым: угощайте, ребята! Соревнование началось. Первый казак через час признался, что лично взорвал памятник Николаю II в селе Тайнинское. Хохол закричал: ты зачем лампасы нацепил? Ты что, генерал? Тот не отвечал – упал на пол. Второй заметил: ты нас провоцируешь! Нет, сказал хохол, ты вот что, сходи-ка бутылку еще возьми и закуски, чтоб мы уж выпили хорошо. Казак ушел. И пропал. Официант принес листочек на подносе – четыреста тысяч старыми рублями: вы здесь кушали? Ну мы, отвечал хохол, бери с того, кто лежит, а я пойду (у хохла оставалась десятка, десятку он не тратил, десятку в подобном состоянии он показывал таксисту: вези на Лосиноостровскую, я там вынесу денег еще – и падал спать на заднее сиденье, на Лосиноостровской просыпался, выскакивал из машины и убегал прятаться в лес), официант позвал швейцаров, очень мордастых, «Уж на что я вежливый, но они такие, что я не сдержался и матом их обложил», – и хохла вышибли.
Чем ты зарабатываешь, хохол? Это спросил я.
На Лосиноостровскую зашел Виноградов – он присосался к Министерству путей сообщения и сумками возил деньги по редакциям – оплачивать материалы, защищавшие железнодорожников от наездов Чубайса. Хохол надулся: а мой друг Шпаков, между прочим, работает в пресс-группе президента (Шпаков за пять лет каторги за сто пятьдесят долларов в месяц высидел двухкомнатную квартиру в Митине, из окна которой виден Красногорск), готовит Ельцину вырезки из газет (газеты без вырезок Шпаков приносил почитать хохлу, тот лежал на диване сутками и читал), любую информацию может, между прочим, сунуть президенту под нос под видом газетной вырезки, и никто не проверит, но это дорого, о, как дорого стоит – тысяча долларов! – а в «Известиях», между прочим, работает ответственным секретарем Анатолий Друзенко – уроженец, между прочим, Ивано-Франковска, как и хохол (это все, что хохол знал про Друзенко).
Виноградов подскочил и побуксировал хохла в ресторан. Хохол, ученный горьким опытом, периодически уточняя: «Так ты говоришь, деньги у тебя есть?», назаказывал шашлыков с осетриной и лично убаюкал бутылку «Смирновской», Виноградова принудил выпить две и наел долларов на триста.
Виноградов через день принес бумажку. Что это? Это заметка, нужно опубликовать в «Известиях». Четыреста долларов, сказал хохол. И спал дальше. Прошло две недели, Виноградов позвонил: нет, не надо, публикация признана преждевременной и только навредит. Хохол зловеще: «Что значит «не надо»?» Что теперь – из полосы вырезать? Типографию остановить? Миллионный тираж гнать под нож?! Что значит, не обижайся?! Тут не в обиде дело! Еще четыре сотни.
Напарник свалил, погасив свет, мы поднялись и завернули к хохлу на работу, он размахивал руками: тут такая баба в соседнем кабинете: трахать можно! Помоги мне компьютер освоить, я самоучитель купил, а все говорят: надо с игр начинать – вот я и начинаю с игр – следующие полчаса хохол играл в раздевание красавиц, но спьяну никак не мог прорваться дальше второго уровня и клял бабу из соседнего кабинета – она набирает по двадцать тысяч очков, а у него вон, всего четыре! Позвонил бывший пограничник Лагутин, мы лет много не виделись, он знал, что зайду к хохлу, долго мекали-бекали, а твоя уже ходит в школу, какое это счастье – детки; вдруг я вспомнил: Костян, а помнишь ли ты двух баб с факультета почвоведения, что к нам ходили на первом курсе, одна чмошная, а вторая красивая, представлялась болгаркой. «Албеной представлялась! – взорвался Костян. – Такая женщина! Я из-за нее усы сбрил! Но женщины коварны…» Я закричал: а помнишь, мы говорили им: оставайтесь ночевать, они сказали: сейчас позвоним домой и вернемся… Лагутин кричал в ответ: «Да я ей духи подарил «Тет-а-тет», советско-французские, а это по тем временам… Но женщины коварны», – заключил Костян и дальше мне рассказывал, что в бизнесе его всегда обманывают лучшие друзья, «Это чего-чего там он говорит?» – оторвался хохол от раздевания красавиц, а потом женился на горластой бабе, лазил по приставленной к подоконнику доске, заглянуть в окно роддома, сыну купил детский мотоцикл, уехал за женой в Уфу, продавал газеты, приезжал в Москву на заработки, развелся и появился передо мной год (теперь уже два) назад уже в обличье рекламного агента, весело и стеснительно: «Принес тебе рекламу туристических фирм. Вот. Три модуля. Всего на пятьсот шестьдесят долларов. Тока, Александр, такая просьба… Ты рекламу напечатай, а деньги я заберу у туристов сам, а тебе тогда, короче, после выхода номера принесу, ладно?» Мы еще посмеялись, не могу сказать, что я жалел, – хохол не был моим другом (я живу без друзей), я бы не плакал над его смертью, что мне его жизнь? – чужая история, да еще скучнее прочих потому, что немного знакома, как и моя – ему, меня даже не смущала сумма (ведь он же прикинул ее, верно? сидел и думал: хватит? стоит ли ради таких денег?), за которую он выключал меня из своей жизни, но все-таки, все-таки – «Что было в юности, то будет вечно», тут ничего не выберешь по своему вкусу. Рекламу я поставил, больше мы не виделись.
Заправлю ручку чернилами. Подумал: пишу «не так», рука еще не поверила, что – все, умер и больше не будет. Солнце, голубое, но все же холод, с Аськой села теща, мы уже опаздывали (куда-то за универмагом «Москва»), карман раздувала верстка (так совпало, потом сразу ехать в издательство, раз в пять лет, но именно сегодня, и никуда не сунешь, а так похабно нелепо – с набитым карманом), на частнике («Пятерочку?») – доехали, но нет там цветов, мы не можем ведь без цветов! – троллейбуса не дождался, хоть был рядом – эти бы минуты в тишине – а вместо: бешено ждали следующего троллейбуса, бегом в магазин – хризантемы, две белые розы, опять частника, ехать оказалось за угол, открыв дверь, одной ногой бороздя землю, не отпуская машину: «Не подскажете, больница?» – «А больница не работает». – «А морг?!» – «Одноэтажное вон». Вон во дворе кружок людей, сто-двести, здесь.
Под небом (как мало осталось смотреть на него напрямую, не сквозь монетки, дубовую доску, два метра глинистой земли) то птицы затевали петь, то шуршала цветочная фольга, то сирена заводилась в припаркованных машинах, ходили мимо строители, плохо слышно, преподаватели, что ли, говорят, от музея Толстого, от Ясной Поляны, обрывки какие-то: «Двадцать пять лет Эдуард Григорьевич отдал…», «От Толстого – «зеркала революции» он вел нас к подлинному Толстому…», «Мы вдохнули при нем…», профессор Есин: «Эдуард Григорьевич постоянно жил в мыслях и думах о литературе. И в последний день, когда он прилег отдохнуть, он думал о ней же», и из того же гвардейского полка: «Эдуард Григорьевич мог запросто подойти к студенту, что-то спросить…» Берестов вышел и громко и правдиво: «Не забывайте, что он поэт. Над всем, что он делал, была поэзия», – ну, и, конечно: «Я понял, что все писал для него». Выступил из людей поэт Субботин и по бумажке: наша первая встреча, Эдуард Григорьевич прочел мне свою статью обо мне, и я… Я косил глазом: где знакомые? – как же мало людей, стиснутые воронкой, теснотой, хороводом, при значительном деле, при ком-то. Вокруг того, кто внутри. Жена протиснулась к Шахиджаняну, он неузнавающе взглянул: с какого курса? – и она уехала избавлять тещу от гнета искренних желаний и горшков. Все заструились класть цветы, и я протискивался, злясь на встречных, страшась оказаться последним на общем обозрении, со своей позорной версткой, обернутой в грязную газету (два раза выпала на снег), как бутылка раздула карман, гроб, но я еще помнил себя (цветы как трава), свои положил в ноги – не увидя, только что-то глубоко там, побелевшее, задавлено, как тяжелой плитой, втиснуто.
Отплыл к Шаху, подошел Дмуховский, вытирая глаза, неузнанный католик Хруль, Шах зацепил барыжного на вид Меликяна, он взял нас в машину, и Берестова, и дорогой говорили о своем, все только «Эдик, Эдик…», словно он сел в тюрьму, «Хорошо, что есть Лиза. Лизу он воспитал для себя». У ворот Донского вылезли, Берестов обнял меня и поцеловал, как-то весело вглядываясь. Холодно, и я задрожал. Люди собирались в кучки, дружно и накоротке, как самые загадочные люди на свете – доноры, сдающие кровь за деньги (я – дважды, чтобы закрыть прогул физкультуры), похожие на отставных спортсменов, шел обходом поэт Субботин, прокручивая каждому запись: «Я знаю, что сейчас не время, но завтра Лев Адольфович Озеров проводит мой вечер в филиале Литературного музея, приходите, пожалуйста…» Я думал «жена Бабаева» про какую-то оглушенную старуху, которую водили под руки, но уже у входа в крематорий узнал Майю Михайловну: свежая, в круглой черной вязаной шапочке, на шее аккуратный шарф, она стояла почти совершенно одна и бодро курила. И все пошли внутрь. В пародийно церковный крематорий. К невыносимой тетке: «Смерть вырвала из рядов… Всем – большого здоровья. Чтобы эта беда была последней. Всего доброго», люди, заметно поредев, опять сошлись и притихли, словно ожидая сигнала запеть, и тогда я поднял глаза – разве такой? – белое, чужое, подбородок, покойницки опущенный на грудь – всего мгновение, к гробу шагнула Майя Михайловна, слушая традицию (жена должна проводить последней, поправить, пригладить) – встала в изголовье и наглухо закрыла, расправляя, сминая, расправляя покрывало с какой-то опытностью (я присвистнул, сдувая пылинку с пути пера), вступили намеченные на закрытие сезона люди: молодой преподаватель (в смысле подхватить выпавшее знамя) и старый друг; по первому вопросу: «Я, к сожалению, не много знал Эдуарда Григорьевича, но эти десять лет…», вторым – Меликян: «Эдик, как нам тебя не хватало. А как теперь не будет хватать…», мужчины, приготовьте крышку (я в теплом доме, у ног батарея – за окнами ветер), закрывайте, в самый тот миг тетка снова открыла рот: «Там корзиночку с цветами подвиньте, пожалуйста», – это и стало последними словами. Студенты схватили корзину и отдали Берестову. Конвейер включился, лента поехала в железную пасть.
Дошли с Шахом до метро и стояли меж двух воющих направлений, я, согреваясь, страшно живо, жадно, захлебываясь, перебирал и путал свои жилищные планы, мечты, тайны: Владимир Владимирович, умер сосед от пьянки, надо комнату присоединять, а потом две комнаты приватизировать и менять на двухкомнатную далеко или с доплатой, но близко, или сделать ремонт, или покупать третью комнату у соседа, но он, тварь, заломит, или покупать ему квартиру, но, тварь, далеко не поедет, а если покупать на полной стоимости, не останется на ремонт, брать ссуду, но тогда я никогда не уволюсь, или выживать эту тварь: он же сам жить не будет, а квартирантов пускать не давать, убрать его стол с кухни или пускай участвует в ремонте мест общего пользования, комната будет пропадать – ему ж выгодней станет переехать в другую коммуналку или не приватизировать, а сперва разделить лицевые счета на Бутырской и свои доли там подарить, но налог на дарение… Шах внимательнейше слушал меня, запрокинув голову, поезда выли и грохотали в оба уха (ехать нам в разные стороны), выслушал и сказал: «Вам осталось денег подкопить и книжки писать, пока не станете стареньким. А это будет очень скоро».
У Бабаева есть стихи о песнях, под которые он рос:
Вступали голоса внезапно,
Все про войну и про войну:
«Дан приказ: ему на запад,
Ей – в другую сторону…»
Иные школьные уроки
Припоминать нам не пришлось.
А песни были как пророки:
Все, что в них пелось, все сбылось.
Он не любил спорт в правление императоров, наследовавших Сталину – любителю опер, кинофильмов, спектаклей и книг (императоры-наследники любили спорт – даже императору хочется говорить хоть о чем-то упоенно, свободно, смело и по-своему, они выбрали свободной темой футбол-хоккей), но в юности Бабаев выбрал фехтование, не особенно подходящее для него (короткие ноги, короткие руки, но сильные – надежда в том, чтобы выбить оружие у противника), и запомнил: нужно всегда чувствовать точку пересечения клинков – она все время двигается.
Однажды он уснул, положив сумку под голову, у большой дороги посреди Средней Азии, на южном краю Советской империи, кончалась война, Ташкент становился мальчику тесен, как одежда, из которой вырастают и отдают младшим, он спал – по дороге ехали машины, вели строем солдат, гнали ревущих верблюдов – мальчик не просыпался, люди, собравшиеся вокруг, гадали: как разбудить? – один заглянул: что у него в сумке – книги, догадался: вытащил одну, Пушкина – раскрыл и прочитал наугад несколько строк.
Мальчик получил пропуск в Москву и эшелоном пять дней в отцовской шинели ехал зимой в Москву, он приехал в нее другим человеком через много лет, а то первое прикосновение походило на сон, приснившуюся будущую жизнь (а по правде, не стоит делать выводов из случайных совпадений, из несовпадений, которых сводит попарно и разукрашивает в близнецов рубанок и долото человека, делающего последние лодки – гробы), – паровоз остановился, рельсы уперлись в тупик, в земляную насыпь с полосатой шпалой на двух столбах, и он понял: все, ехать дальше некуда – Москва.
Он вышел на Комсомольской площади и пошел в сторону, которую знал.
«Прямо с вокзала я пришел в университет на Моховой…»
Он стоял у дверей большой аудитории – невидимый лектор говорил об Атлантиде, он задохнулся у расписания: бежать на все спецсеминары сразу, к профессору Гудзию, академику Виноградову (имена, весомо звучавшие в рассказах Ахматовой и Надежды Яковлевны); оставил шинель и чемодан в гардеробе и бросился в учебную часть, «пролепетал: хочу поступить сейчас, зимой».
«С луны свалился, – сказала машинистка, глядя на меня вызывающе высокомерно…», и Бабаев уехал. Он удивлялся, что люди не заговаривают с ним в метро, что в Москве никто не знает друг друга.
Выполнив письменные поручения знаменитых ташкентских жительниц, он зашел к Пастернаку (и провалился в снежную яму в поисках дачи – я проезжаю Переделкино на электричке: никогда не поверю, что все это было здесь, по этой дороге от станции шел мальчик, которого я знал стариком), зацепился и посидел несколько неположенных минут, Пастернак говорил, что «в наше время герой не столько тот, кто пишет стихи, сколько тот, кто их хранит». Что совесть поважнее мастерства. Что пути «ухода» изучены лучше, чем пути возвращения.
И еще один поход.
Н.К. Гудзий
Что мне память насказала
В этот вечер золотой?
Как с Казанского вокзала
Шел пешком до Моховой…
…Как я дверь открыл с поклоном,
Снявши шапку с головы,
Как с попутным эшелоном
Добирался до Москвы.
Нашел дом, поднялся по лестнице и постучал в дверь. Там долго не открывали, переговаривались, тяжелыми подвижками толкали на новое место мебель, наконец дверь с третьего толчка нелегко отворилась, и все домочадцы Гудзия выстроились на пороге в большой тревоге: «Двадцать лет сюда никто не стучался!» – Бабаев, оказывается, зашел с черного хода.
На лекции Эдуард Григорьевич однажды в сторону сказал: «Гудзий… Был такой профессор, а теперь его забыли».
И я не знаю, кто это такой. Наверное, филолог.
Он все же верил во что-то, он так говорил: «У меня было столько тяжелого в жизни, но все обходилось».
Все, университет, прошло, можно получать диплом, я не хотел идти (вот надо было так и сделать!), но Шах меня уговорил, приведя доводы, сейчас уже забытые мной, я взял с него обещание сидеть рядом, я покатался с утра с обходным, заперся в приемную декана сдавать засаленный задним карманом студенческий и вдруг не своим голосом молвил: «А можете мне его оставить на память?» Соннорогатая корова (я попал в ее смену), прекратив жевать, долго сопела. Я успел подумать о причинах ее молчания. Возможно, ее смущает, что я собираюсь с помощью просроченного и престарелого студенческого получить какие-то неположенные радости. Льготный проезд на ж.д. транспорте, например. И суетливо добавил: пускай даже студенческий будет перечеркнутый. Это бледно-белесое до рвоты животное теперь высказалось: «Я триста штук забрала. Почему я должна один отдать?»
Мне надо было отъехать, что-то начинался дождь, и я отъехал в одну редакцию, дождь намочил редактора Михаила Да-выдовича Беленького, он рассказал: в школе привязал козу к звонку, она бодалась и никого не подпускала звонить на урок, я чуял себя влипшим во что-то густое, тяжелое и неотвратимое, но почему? – что такое кончалось? я ж там не учился, компаний не водил, не подымался с докладами на ученых советах; кончалась молодость? – так не в двадцать же пять она кончилась, надо пройтись погулять, разогнать все самое это, но ударил опять дождь, и с «Третьяковской» я вернулся назад, Шах не опоздал, но что-то говорил, что торопится, что со мной, может быть, сидеть и не будет, не успевает, я бешено молчал, таскаясь за ним, как хвост, Шах проломил двери в приемную: корова и еще одно существо сидели друг против друга и рвали в четыре руки наши студенческие билеты и бросали в урну, трещали тугие корочки, отлетали фотографии снова незнакомых мне людей, Шах порылся в урне, достал мои обрывки и вынес с равнодушно-вежливым видом, с каким милиционер возвращает документы избитому по ошибке прохожему, – я сунул разодранный студенческий куда-то, с тех пор ни разу не искал. Ходил туда, сюда, забрел в ремонтируемую Коммунистическую аудиторию, бюсты основателей университета стояли на полу, как инвалиды, снятые с тележек и выставленные на нищенскую работу в переходе метро, но угрюмая гордость в глазах. Огромный портрет Ломоносова завалили набок, я разобрал надпись «Михайло, 1948, Нилин», потрогал нарисованную руку, кончик гусиного пера и почему-то нос: уголки глаз Ломоносова заливала красная, воспаленная, бессонная хворь, и только по щекам полыхало малиновое здоровье. И все было как-то нервно, я не сдержался и решил свалить, но прибыл старательно веселый хохол: да ты что?! все хорошо! санаторий закончен! да мы погуляем еще до тридцати! звони, и ты звони, да я тебе надоем своими звонками! – и мы сели на свои места в Ленинской аудитории, где сидели всегда – в последний раз – прибежал всклокоченный Карюкин – проснулся в одиннадцать утра в женской комнате на девятом этаже у почвоведов и почему-то запертый изнутри – вышиб дверь и помчался получить диплом, Шах тоже подсел, томились, не было декана, чужое тревожное прикосновение тронуло спину, сверху передали записку «Поздравляю», ага; декан сказал краткую речь, начальник курса Суяров начал быстро читать фамилии, а декан вручать вот то, что должен, мужикам жал руки, барышням целовал, получившие поджидали знакомых, собирались кучей и уплывали коридором, я ждал своей буквы, расположенной невысоко, вот декан промямлил: «Поздравляю А.М.», я расписался за что-то и отошел с пылающей мордой, отличница Машка Гарькавая с первого ряда (даже здесь села в первый ряд) крикнула: «Веселей!», я тупо подошел к профессору Семену Моисеевичу Гуревичу, Семен подбодрил: «Вот все и кончилось», влез в свой ряд, сунул трясущимися руками диплом Шаху, утирался платком, остывал, кончилось, все встали и двинулись на выход, все крыльцо забила толпа, пальцем по запорошившей машину Шаха грязи было выведено: «Спасибо от тех, кто умеет писать», мы погрузились, но выехать не могли – на дороге стоял фотограф – снимал прощальную фотографию курса, расставившегося по ступенькам. Я уговаривал Шаха купить черешни и заехать к Алле Витальевне Переваловой, она не могла, он торопился, и через пять минут я остался один напротив Центрального телеграфа, напротив сияющих золотых букв, и смотрел на свободу грязной газеты, которая моталась по улице Горького (а может, уже и Тверской) – то ложилась, ее переезжали и сминали машины, то вздыбливалась парусом, и ветер ее катил по дороге, то снова белой заплаткой ложилась на асфальт.
Что же остается? Что же остается потом? Ничего. Все кончилось. Все – перестало существовать. Все поглотила Вселенная, прописанная на земле под именем смерть. Как все-таки странно, что есть на свете что-то сильней моего «не хочу». Ты идешь по коридору и однажды за поворотом слова, взгляды, коричневый листочек с результатами анализов заставят увидеть дверь, которая будет вот это. И пойдешь к этой двери, и все (или нет?) потеряет смысл (нет?), и даже неувиденный чемпионат мира по футболу – все станет не твоим, потом чужим, потом ничьим – землю сожрет солнце, а потом солнце сожрет что-то еще, а что-то еще сожрет что-то еще побольше, и никто не узнает, что такое, например, сосновый лес и моя мама.
Смерть – я никогда не вижу ее целиком, не умещается в два глаза, представить не могу – кости, песок, абсолютно черная пустота. Даже такую малость – почуять – не могу, еще большую малость – представить, как это чувствуется, – и не можешь. Почему? Старики с остервенением летописцев осажденной Троице-Сергиевой лавры описывают в дневниках насморки внуков и блеск солнечных лучей на больничных подоконниках, мокрых от ночного дождя, оформленность выделенного кишечного содержимого, собачьи плутни – но не это.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































