Текст книги "Это невыносимо светлое будущее"
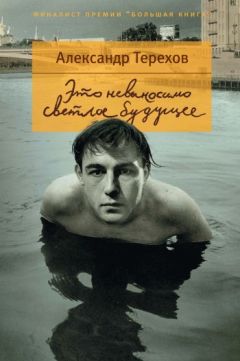
Автор книги: Александр Терехов
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
– У нас сегодня собрание, – просто начал я. – Иди, Коровин, сюда. Расскажи, что видел ночью.
Коровин вышел и рассказал. Адик Хасанов переводил для своих. Там сразу по-своему залопотали – обсуждают. Жусипбеков спокойно что-то ответил пару раз, плечом пожал – а может, и не спокойно – я по их лицам не понимаю.
– Нет. Не он, говорит, – перевел Хасанов. – Спал он.
Вот так и пошло это собрание – мне было скучно до смерти.
Коровин одно и то же повторяет. Хасанов – другое переводит. Когда хоть на одном языке говоришь, можно что-то понять, по-человечески, что ли, почувствовать, а здесь что разберешь? Но я-то поступил правильно, все равно надо было разобраться.
Старшина не вытерпел и встал. Говорит:
– Коровин, ты точно видел?
– Вроде точно… – промычал Коровин.
Я кулаками лицо закрыл: черт с ними, пусть разбираются.
– Никто больше не видел?
Молчат.
– Никто?
Кто-то сказал тихо:
– Я.
Я глянул: Раскольников из-за стола вылазит и, не моргая, смотрит на старшину. Повторяет:
– Я тоже видел. Жусипбеков по кубрику ходил ночью. Баринцов быстро мне улыбнулся и головой качнул: видал? Узбеки по-своему лопочут, наши заволновались, слова уже нецензурные поползли, но старшина руку поднял и – тишина.
– Все равно, – говорит. – Это ничего еще не значит. Люди могут ошибаться. Не должен человек невинный за другого страдать. И не волнуйтесь – вор сыщется, рано или поздно. Это точно. А то, что разобрались, – хорошо, но ошибаться в таком деле нельзя. Ждите.
Так и покончили.
Я Раскольникова практически не знал – он во взводе только числился, а так целыми днями в художке сидел. Рисовал он сам плохо, но устроился холсты художникам готовить. На занятия по специальности еще ходил, а как физподготовка – сразу в художку. Я не знаю отчего, но считали его стукачом. Так бывает – всегда нужно крайнего найти. Вот увидят человека с замполитом раз или просто не понравился он чем-то, и решат: вот он – стукач. Это прилипчивая штука. Я ее всю службу боялся ужасно. Почему-то мне казалось, что и про меня могут такое подумать – я всегда в сторонке от массы был, на таких чаще всего и думают. Но, слава богу, крепко дружил я с Серегой – он все недоумения против меня быстро развеивал.
А вот Раскольникову было хуже. Он тоже все время один был или с художниками – в художке они не только рисовали, но и в карты поигрывали на компоты или на «гражданскую» пайку из чайной, книжки читали, даже баб к себе через окно затаскивали – ну, не знаю, может, и не затаскивали, но во взводе так говорили. Да, вот еще почему решили про стукача: Раскольникову под конец лычку кинули – ефрейтора. Вот это тоже насторожило – ну за что ему-то? Службу ведь не тянет. Хотя что там в учебке стучать? Все вместе, и залетов особенных не было. Но ефрейторов вообще не любили всех. Говорили: лучше дочь проститутка, чем сын ефрейтор.
Вот так обстояли дела с Раскольниковым.
Собрание мы провели, пару недель прошло, и нужно было отправить в далекий сибирский Арединск двух солдат для несения службы в нарядах, без специальности. Этим Арединском пугали всех зашивонов и тех, кто слабо специальность тянул. Нравы там, говорят, были тяжелые. И среди этих двух отправленных оказался Жусипбеков, не знаю, случайно это, нет. Он тоже не особо успешно занимался. Я сразу подумал, что ему там невесело будет. Мы же связисты – за ним по проводам и по воздуху полетело, кто такой из себя Жусипбеков и что там за история с ним была в учебке. Я тогда только понаслышке знал о жизни в «боевых» частях, но все равно подумал, что несладко ему там будет, – прямо не знаю, надо было это собрание проводить или нет? Но тогда подумал – ладно. Да и все наши были довольны.
Учебка прошла быстро. Все яростно обменивались адресами и клятвами, что через полтора года по дембелю, через пять лет, десять все как один соберемся, как штык, там-то и там-то, а старшина считал под нос платки и носки, ботинки, аттестаты…
Нас вывели на плац, и командир батальона кричал громко, что мы должны оказаться достойными высокой чести нашего подразделения, которое воспитало немало настоящих героев. Мы даже ростом становились выше от этих слов.
Петренко присвоили младшего сержанта, мы с Баринцовым были довольны чистыми погонами и «чистой совестью», как прибавил Серега. Народ стали партиями развозить по частям. В бане зашумели новые призывники – тоскливо мне было. Петренко с Серегой увезли раньше меня. Меня оставили разобраться с комсомольской документацией, характеристиками. Я знал, что скоро встретимся, что мы попали в одну часть, но все равно тоскливо, как-то время шагает так быстро, и вообще…
А за день до моего отъезда мне ефрейтор, что дежурил на радиоконтроле, сказал с улыбкой интересную новость: в Арединске повесился рядовой Жусипбеков. Вот тогда мне стало не очень весело – сам не знаю почему. Ну что я в этой истории? Да ничего! Как комсорг – отреагировал, ну как по-другому я был должен сделать? На то ведь и комсорг, верно? И никто не знает, с чего он там повесился. Может, псих ненормальный. Ведь так? Бывает же такое?
Я вот ходил по пустой роте, все его лицо вспоминал – да они все похожи, только он почему-то самый жалкий, что ли, был, с гор откуда-то – мать, наверное, есть, ждет. Я еще подумал: а что думает мать его про такое место, как Арединск? Вот странно: погиб человек – жалко мне его или нет? Наверное, нет – да я его и не знал вообще-то, он же по-русски – ни слова. Рота вообще вся разъехалась – никто о Жусипбекове и не вспомнит, и не узнает, что все, нет человека. А вот, значит, и я умру – всем тоже плевать? Да? Да. А ты как думал? Вот так живешь, живешь…
Закруглил я свою работу с документами, и в последний день старшина нас засадил чинить все, что можно чинить, и красить все, что не крашено. Нас человек семь со всей роты только и осталось. Мне красить не хотелось – я запах тяжело переношу, тошнит сразу, я пошел зашивать. Хожу по роте, гляжу, где матрас дырявый, светомаскировка истрепалась или в одеяле дырка. Стал перед обедом наволочку зашивать, перо кулаком подбил, чую: какой-то комок среди перьев, твердый. Достал – это пачка от лезвий «Жиллетт». Разодрал ее – внутри пятерка. Вот такие дела.
Мои это деньги. Ни у кого таких лезвий не было. Мой бедный взвод все «Невой» да «Восходом» перебивался. Так-так, а чья же это коечка? Раз, два, третья, у окошечка вверху – нет, уж не помню. А… Петренко?! Подонок!.. Да нет. Он же все время снизу выпрыгивал по тревоге – или я путаю? Да нет – точно, снизу, они же постоянно с Валиахметовым про шахты базарили – да и не мог он вверху спать, он же во взводе – старший… Так, а кто же здесь спал? Кого еще дневальный постоянно тряс за плечо до подъема – он же постоянно под утро сюда лазил, все еще говорил: «Вставай, вставай, художник». Художник? Это Раскольников, это его кровать… Так, та-ак, вот та-а-ак вот… Жусипбеков, значит, ночью по кубрику ходил… И он это видел, подтверждает, видел…
Я за свою жизнь к тому времени человека ни разу не ударил. Я – человек. Но однажды в пустой, залитой январским жестоким солнцем роте мне захотелось бить кулаками лицо, видеть кровь, синие кровоподтеки, раскрошенные зубы, бить ногами в мягкое, сквозь хрипы и стон, и говорить разные слова: мразь, падаль, тварь и другие, каких я отроду не произносил. Господи, да что тогда со мной творилось?
Я пошел вечером в комитет комсомола – подержал в руках учетную карточку Жусипбекова, посмотрел на его лицо. Я его совсем не таким вспоминал, другим. И мне почему-то уже не хотелось читать про него: откуда, что – мне это неприятно стало. Я отыскал карточку Раскольникова, его анкету. Раскольников Игорь Петрович, год рождения 1964-й, в школе поручение было: ответственный за стенгазету. Мать – учительница. Отец на пенсии по инвалидности. Есть еще сестра, младшая. Ну и что дальше-то? Куда его отправили? Поехал туда же, где буду и я служить. Так-так, та-ак… Ну и что? Я искал в себе лютую злобу, вот ту, которая была всего лишь два часа назад, но никого нет из роты, никого уже не осталось, все разъехались, уже новые люди здесь будут спать на этих кроватях, уже завтра начнется новая жизнь, старшина покажет, как заправлять кровати и мотать портянки, и поперек этой жизни я стою, как дурак, – всем уже плевать на это, да и на что «на это»? На что? Где гарантия, что подушки не обменяли. Могли просто подкинуть – не такой ведь Раскольников дурак, чтобы забыть деньги, если они ему были так нужны, что красть пошел. Никто не подтвердит, никто никогда не докажет. Никому это не надо! Остаюсь только я – проклятый комсорг первого взвода.
На следующий день я уже не думал об этом.
Меня привезли в боевую часть. У казармы чистил снег Серега Баринцов, я радостно подошел к нему, обнял и спросил: «Ну как ты тут, братан?» У Сереги задрожали губы, и глаза вдруг сделались большими и дрожащими влагой. «Как… Увидишь…» – и он резко наклонился к лопате, и я видел только его спину – и больше ничего. Подошел будто постаревший Петренко, оглянулся по сторонам и прошептал: «Все делай, но носки не стирай никому. Даже если будут сильно бить». «Бить? – повторил я, как иностранное слово. – Как бить?» «Бить будут каждый день, – вздохнув, устало пояснил мне Петренко. – Но сильно – не часто. Говорят, сильно – только раза три за все время…»
Так началось салабонство – самая тяжелая, грязная, постыдная пора моей жизни.
Жизнь перевернулась за один день. В один день я узнал, чего я уже не могу, а что должен, – это было страшно.
В половине второго ночи я мыл туалет. Мыл третий раз – до этого мне два раза объяснили, что делаю я это плохо, и помогли это понять кулаками. И я не сопротивлялся. Вам сейчас этого не понять. И не надо стараться, если вы не знаете, мы – звери, мы – не люди. Натирая тряпкой пол, я раз за разом обходил чьи-то ноги, не поднимая головы, самое главное – не встречаться ни с кем взглядом лишний раз, это раздражает. А когда поднял украдкой глаза, уже выходя из туалета, увидел: это Раскольников.
Раскольников стирал носки, отвернувшись от меня.
– Раскольников, здравствуй, – сказал я ему.
Он испуганно глянул на меня и еле качнул головой.
– Как жизнь? – Я никак не мог заставить себя улыбнуться, ближайшее время улыбок не предполагало. Но я не мог уйти из туалета, который стал уже надежней, чем чужая, жестокая казарма с новым запахом.
– Как жизнь твоя, Раскольников? Хорошо? Не рисуешь тут, нет? А что тут будешь делать? Носки стираешь, да?
Он не оборачивался и все молчал, и это бесило меня.
– А сам ты откуда? – спросил я. Ну хоть что-то скажет же он.
– Я из Москвы.
– А-а… Это – столица. Москва – столица Родины… – бормотал и вдруг вспомнил: – А ты знаешь, Раскольников, друг мой, что Жусипбеков там вот повесился? А?
Он перестал стирать, сдвинув руки, но не повернулся. Я качнулся с места и пошел к нему, на ходу набирая голос:
– Да-да, вот так вот – повесился подонок и вор, вор рядовой Жусипбеков. Наш с тобой боевой товарищ, сослуживец. И я теперь очень хорошо понимаю, почему он повесился там, и ты теперь это тоже понимаешь… Осталось только понять, как поймет это его мать. А для этого надо просто представить, что это повесился ты и твоя мать – есть же у тебя мать, да? – об этом узнает… – Я схватил его за плечи и повернул к себе – он плакал беззвучно, открыв рот, у него дергалось лицо.
– А ты ничего не хочешь мне сказать, друг мой, про рядового Жусипбекова, а? Который греб там и за салабонство, и за то, что товарищей своих же обкрадывал… Ты ничего мне сказать теперь не хочешь? Ты подумай… Думаешь, нет? А я вот теперь об этом часто думаю… Хоть я… Мне ведь…
Больше я ничего не сказал – пошел спать.
Мне не очень радостно вспоминать про салабонство, если честно. Если коротко, то больше всех били Петренко – он был сержант и сильный. Поэтому, когда через полгода мы стали шнурками, я не обижался на него за зверства – я понимал Петренко. На что уж я получал меньше от шнурков, да и то иногда рука прямо сама размахивалась для удара.
Ведь это огромнейшая сладость – видеть перед собой существо, которое, если б было человеком, было бы сильнее тебя, старше или умнее; существо, которое дрожит, примечая каждый твой жест и выражение глаз, и оно замирает в немой мольбе и уже ждет в томительном предчувствии, что ты решишь сделать с ним, – ему все равно уже, лишь бы скорее, хоть внутри все же надежда – а вдруг отпустит, а ты видишь эту душонку всю, все ее наивные хитрости, попытки задобрить, отвлечь, жалкие надежды на проходящего офицера или близкий ужин, а ты держишь ее в своих руках с пьянящим чувством упоения собственной властью: ты можешь сейчас ударить, сильно или слабо, отправить мыть туалет, покупать себе свежие газеты или выпить, потребовать спеть для себя песню – это сладость тем более острая, что ты сам великолепно помнишь себя в этой же шкуре, и ты презираешь ее за это и тем самым отвергаешь прошлое свое, себя от себя – это удивительно сладкое и горькое, тошнотворное чувство.
И поэтому я не осуждал и не осуждаю сейчас Петренко за то, что он зверствовал в шнурках, – это понятно.
Меня били меньше. Но меня очень не любили. Наверное, потому, что не понимали. Деды и шнуры чувствовали, что я даже среди салабонов держусь отдельно и что постоянно о чем-то думаю, кроме того, что говорю. В моем постоянном желании простить их, и забыть, и не понять своего унижения они видели лицемерие, и, верно, высчитывали, что на самом-то дне, конечно же, – ненависть, что может быть еще внутри салабона в первые три-четыре месяца, когда он глупый и службы не понял. Для них интерес был не в том, чтобы избить меня, а в том, чтобы унизить, заставить сказать что-то очень глупое, что-то сделать смешное – чтобы все стояли вокруг и презрительно усмехались. Все вместе они очень неглупые и всё понимают четко.
Серега Баринцов очень переменился по салабонству – как-то сжался весь, сник, – хотя его трогали меньше всех, он всеми силами старался этого избежать и делал это как-то судорожно, нервно. Он почему-то больше всех боялся. Я ни разу не видел его улыбающимся. Он даже говорил редко и стал скрывать нашу дружбу. На третий день, когда во мне еще играла последняя дурь, я увидел, что Баринцова ведут на разбор в туалет. Я спрыгнул с кровати, оделся, как полагается на разбор: нижняя рубашка, брюки «хэбэ», заправленные в сапоги, – и пошел тоже в туалет. Деды стояли ленивым кружком, а в центре торчал бледный Баринцов с воспаленным взором.
Я прошел и встал рядом с ним.
«А ты чего?» – спросили меня. «А так. Постою с вами», – вежливо ответил я. Дали нам по морде двоим. На следующую ночь на разбор потащили меня. Баринцов остался в кровати. Умный дедушка вернулся из туалета и спросил в тишине спящего кубрика: «Баринцов, а ты не хочешь сделать так, как твой друг вчера?» Баринцов спал.
На следующий день его подняли одного. И я не встал за ним.
Я очень жалел Серегу и помогал, чем мог, делился маслом, если его обсасывали. Давал иголки, подшивочный материал, немного денег. Все осталось с ним: практичность, расчет, хватка, хитрость, куда только ушла улыбка? И все остальное, но это кто знает…
А Раскольникова просто сломали. Начали с ефрейторской лычки. Ему ее спарывали с погон каждую ночь, а на следующий день били уже за то, что ему сделали замечание на разводе за отсутствие лычки. А когда его повели на первый серьезный разбор, он, эта худая, несчастная цапля, сделал то, что не прощают, – он отмахнулся: шмякнул неловко по лицу первого же, кто его ударил. Его поднимали после этого каждую ночь – уже на пятый день он стирал носки всем дедушкам и откликался на похабное слово. Даже салабонам запрещали называть его по имени. Он ходил по роте, как больной, он озирался и прятался на чердаке, и я понять не могу, неужели это не было видно офицерам, мы-то ладно, мы тоже еле таскались и вздрагивали, если кто окликал, но Раскольников был явно растерт и втоптан. С ним никто не садился в клубе рядом смотреть кино или в кубрике вечером, с ним рядом была беда. Специальность нашу он усвоил плохо, места художника здесь не нашлось. Некоторое время он слонялся по нарядам: в кухню и автопарк, а потом вдруг попал на самое теплое место в роте – на телефонку.
В нашем гарнизоне был военный институт, в нем был небольшой коммутатор – там ночью должен дежурить один солдат, чтобы не привлекать гражданских. Ночью звонков почти нет, и можно было заниматься чем хочешь: письма пиши, спи, кури, живи, как дома, а днем в роте еще спи: это был рай на всю службу. Сюда Раскольников и попал.
Однако с ним была еще одна штука: может, кто привез это с учебки, может, решили именно после такого странного решения командования о переводе его на телефонку, что вдобавок ко всему Раскольников – стукач. Доказательств особых не было, кроме двух-трех крохотных встреч с замполитом, но доказательства никому и не были нужны.
Выбравшись на телефонку, Раскольников чуть распрямился, стал спокойней ходить – он мог слушать у себя на телефонке музыку, ходить в нормальный туалет, спокойно умываться и бриться. Ему институтские служащие говорили «вы» и подкармливали. Наверное, он там и отсыпался, потому что в роте спать было трудно. Каждый старался, проходя мимо его кровати, задеть ее, что-то громко сказать прямо над ухом или просто ударить в бок спящего – я не могу понять, как он выдерживал: лежать в кровати неподвижно по восемь часов с закрытыми глазами и каждую секунду вслушиваться в любой шорох, ожидать удара, ловить слова проходящих людей и в них постоянно видеть угрозу, и еще делать вид, что спишь, чтобы не бесить народ мыслями, что он может поспать и на телефонке. Я хотел даже у него спросить, как он выдерживает, но не мог – меня он боялся и избегал, хотя я никому не рассказывал про мысли свои, про те, которые в связи со смертью Жусипбекова. Некому было рассказывать. Та жизнь закончилась. В этой никому ничего не было надо, кроме спокойной ночи и неизбитой морды.
Уязвимым местом Раскольникова была столовая. Хоть иногда, но человеку все-таки хочется есть. Он был вынужден туда приходить. На глаза всему гарнизону – весь гарнизон знал его как стукача. При нем сразу барабанили ложками по столам, гоняли его без конца за кружками, тарелками, ложками, заставляли разливать чай и бегать за хлебом даже салабонам. Салабоны тоже переставали его уважать. Ему ведь неплохо жилось на телефонке, а этого не прощают.
А я жалел Раскольникова – мне все время казалось, что я тоже мог пойти по его пути, если бы что-то слепое раздавило бы меня, а не его. Будто мы не шинелями поменялись, а судьбами. Будто я вижу в нем себя, и он меня избавил.
Окончательно погубило его расслабление.
У каждого салабона поближе к приказу, к концу года службы, появляется расслабление. Не как протест – от этого и следа не остается, а как первая ласточка конца салабонства. Кто-то начинает втихаря копить стишки и фотографии для будущего дембельского альбома, кто-то качает мышцы на брусьях и турнике втайне от дедов, готовя свой авторитет для встречи будущих салабонов, а Раскольников вздумал звонить каждую ночь домой по служебному проводу.
Отец его – инвалид, днем имел возможность поспать, а по ночам чуть ли не по часу беседовал с сыном за государственный счет. Это дело открылось через бухгалтерию, уставшую платить, недели за две до приказа – ефрейтора Раскольникова вышвырнули с телефонки, а наша часть насовсем лишилась теплого места как не оправдавшая доверия.
Я подумал про себя: ничего страшного, самое страшное время Раскольников все равно отсидел на телефонке. Но я чуть ошибся.
За день до приказа роту подняли среди ночи на поверку – четыре шнурка из второго взвода отдыхали в этот момент в общежитии медучилища. Еще через двое суток эти счастливые ребята продолжили выполнять свой воинский долг в сибирском городе Арединске, где снег тает в мае. Этот факт все связали с возвращением в роту Раскольникова, решили – стуканул он. На следующий день после приказа новые деды собрали самых авторитетных из новых шнурков, в том числе и Петренко, и объявили – для Раскольникова приказа не будет. Он продолжит жить как салабон.
На следующий день сержант Петренко послал на парашу ефрейтора Раскольникова, с которым полгода спал на одной «спарке» в учебке. Такие вот дела.
Так закончилось для ефрейтора Раскольникова его расслабление.
У меня расслабление было другого рода, я вроде бы как влюбился. На работу в военный институт каждое утро ходила ослепительная длинноногая блондинка. Она ходила всегда одна, с отрешенным, гордым лицом – ей вслед смотрело полгарнизона. Смотрел и я – лысый ушастый салабон с грязной шеей, обгрызенными ногтями и в штанах с отвисшими коленками. Наверное, в нее влюблялись салабоны поколение за поколением. Это мне сейчас так кажется.
Да у меня это и не любовь была, просто я смотрел на нее, и мне легче становилось внутри, вот и всё. Идет себе человек, и ты дышишь по-другому, и не так далек дембель, и жизнь проще и ясней. Ну, еще мечтал иногда по вечерам о разных глупостях с ее участием, врать не буду. Она красивая была и очень, очень… такая… женщина, что ли, всегда в тесных джинсах или юбке с томительным разрезом, она так шла, что у дежурного прапорщика на КПП шея сворачивалась набок. О моем расслаблении знали только Петренко и Баринцов. Серега работал пару дней на уборке в институте, все вызнал про нее и ночью прошептал мне, что зовут ее – Наташа, муж ее майор, детей нет. Мужа Серега видел, у него очки и скоро будет плешь. Имя какое – Наташа! Наталья.
Серега медленно, но уверенно оживал, отогревался, мы стали, как в учебке, болтать по ночам, и, хоть изредка, но появлялась на его лице счастливая улыбка.
«Ты вот что, – предложил он мне. – Давай купим бутылку, я узнаю, когда ее муж сутки дежурит по институту, и мы к ней – на квартиру. Возьмем увал и постучимся. Вроде как за стаканом. А уж там и посмотрим, что к чему. Действовать по обстановке. Что ей за интерес за майором-то? Ты ж у нас Лобачевский будущий! И волосы отрастишь, вымоешься!»
Я хохотал, по привычке оглядываясь на кровати дедов. Мне хотелось совсем другого. Почти каждый вечер я рисовал себе, а потом и Сереге, одну картину: по дембелю я в парадке, с полной грудью значков – будут ведь у меня и значки к тому времени, – и покупаю двадцать один тюльпан, и встречаю ее утром на проходной, и в кармане у меня куплен билет домой, всё! И все кругом обалдевают. И я ей говорю: «Здравствуйте, Наташа, извините, бога ради, что я задержал вас, я хочу вам сказать, что полтора года служил в этой части и полтора года видел вас, хоть иногда. Я, быть может, нескромно смотрел на вас, простите. Знаю одно: я больше никогда не увижу вас в жизни, мой дом далеко, вы меня видите в первый и последний раз, но я хочу, чтобы вы знали, что полтора года вы были для меня символом всего самого светлого, чистого, святого. Вы помогали мне жить, выжить, сами не зная об этом. Когда я видел вас, я становился человеком и мог все. Спасибо вам». И она будет грустно-грустно на меня смотреть, и рот ее будет как мак на ветру, и она, может, первый раз в жизни задумается: не прошло ли в ее жизни что-то мимо, может, первый раз в жизни подумает, что, может, зря были когда-то разорваны на половые тряпки алые паруса, и расстреляны мечты на перевалах быта, и прерван полет, и кончена песня – ну, в общем, всякая ерунда, которая лезет в голову салабону при расслаблении. А потом она скажет что-то такое, о чем думать страшно, или просто поцелует так быстро, или вдруг даст адрес, чтоб написать, если судьба еще приведет, а она приведет, когда я буду уже, ого, кем я буду тогда… Ну и так далее. Мы стали шнурками – мы разогнулись.
Мы стали улыбаться, жить. Все бы хорошо, да ночью меня позвали в туалет, и четыре дедушки укоризненно заметили, что, по их наблюдениям, я принципиально не припахиваю стукача Раскольникова – что я могу сказать по этому поводу?
По этому поводу я молчал.
Тогда меня спросили: так может, я хочу присоединиться к Раскольникову, и ему будет все веселей? Нет, сказал я. Нет, я свое отпахал честно. А может быть, спросили у меня, я вообще салабонов припахивать не собираюсь и пальцем не трону? Нет, ответил я, нет, – салабонов я припахивать буду и мочить буду тоже, еще как… Разговор принимал затяжной характер, что ничего славного мне не обещало.
Тут в туалет зашли Серега Баринцов и Петренко и встали со мной рядом. Чего, шнурье, пришли, спросили у них. Ничего, сказали они, постоять, покурить, положено это нам по сроку службы. Ну-ну, сказали дедушки, живите, как хотите, шнурье вонючее, но чтобы Раскольников пахал и порядочек в роте был. Дедушки уползли, а Серега просто обнял меня, и я почувствовал себя счастливым оттого, что кончилось мое салабонство, что будет у меня все здорово, что есть на свете женщина с солнечным именем Наташа и солнечными, живыми волосами, что на дворе уже осень, и все остальное здорово.
– Дураки, – сказал нам Петренко, надув усы (шнуркам усы уже полагались).
Дни пошли быстрее. Нашего Раскольникова я видел редко, да и не хотелось его замечать – ничего отрадного в этом живом напоминании о близком прошлом ни для меня, ни для кого из новых шнурков не было.
Седьмого ноября на обед были апельсины в столовой, а рота встретила праздник массой веселых событий.
Среди ночи меня разбудил Серега и объявил, что, во-первых, ему присвоено звание ефрейтора; во-вторых, он и Петренко получили отпуск, первыми среди шнурков; в-третьих, у дыры в заборе пойманы с добытым на «гражданке» самогоном салабоны Ланг и Джикия; в-четвертых, ефрейтор Раскольников сломал правую руку, занимаясь на брусьях, и теперь он в теплой и сытной санчасти.
– На каких брусьях? – поразился я. – Да он никогда в жизни не пошел бы в спортгородок!
– В-пятых, – загнул последний палец Баринцов, – деды и шнурки считают, что сломанная рука – это все чепуха. Просто замполит хочет вывести стукача из-под ответного удара после результативной операции у секретной дыры.
Мне было страшно тоскливо, я бормотал:
– Господи, ну откуда Раскольников мог знать про дыру, он из туалета не выходит…
– Народ собирает специалистов идти в санчасть. Устраивать стукачу «темную», – закончил новости Серега и скомканно добавил: – Я вот только сейчас из санчасти, с Серегой-фельдшером побазарили…
Баринцов был невероятно грустным. Мне казалось, что я понимаю его: отпуск дело хорошее, для шнурка вообще радость неслыханная, но вот как возвращаться после обратно, зная, что впереди еще целый год?
– Ну вот, – утомленно сказал Серега и с трудом вдохнул, – мы, значит, с фельдшером спиртику трахнули, и он мне рассказал… Он ко мне вообще уважение имеет. Он нашего Раскольникова… Раскольникова ведь Игорем зовут… Ты знал? Я – нет, вот так… Ну, вот он жалеет этого Игоря… Раскольников пару раз в санчасть ложился, помнишь, тогда, на День авиации? Да? Ну вот – это Серега его ложил. Он может. Он, говорит, и мне предложил бы в случае, если мне хреново в роте станет, но он посчитал, что я обижусь, посчитаю ниже… Ниже чувства собственного достоинства. Па-ра-ша! А замполит наш, он, видишь, мужик оказался-то не такой чурбанистый, как на вид. Он ведь, оказывается, все сечет, что с Раскольниковым в роте творится. Это мне Серега сказал, а ему – сам Раскольников, Игорь. И замполит обещал ему: через две недели я тебя переведу. В другую часть. От нас. Куда-то подальше, туда, где не связисты… А Раскольников, как мужичков у забора накрыли, прибежал в санчасть и Серегу просит: я хочу руку сломать, чтобы продержаться в санчасти эти две недели…
Баринцов был не сильно пьяный, но рассказывал с длинными паузами, сопя носом в тишине и часто морща лицо.
– Серега-фельдшер, он, видишь, тоже мужик оказался, Серега ему укол обезболивающий сделал и говорит: иди, ломай! Если что не выйдет – про меня ни слова. Посадят. Наш Раскольников, идиот, стал руку свою бить об угол дома. Сам бил! И ни хрена, синяк набил, а рука, как деревяшка, отскакивает, да и всё. В спортгородок побежал, в шведскую стенку руку совал, чтоб переломить – не может. Он опять к Сереге пришел: ну а что теперь делать? Серега сажает его в нашу «скорую» и везет в травмопункт – там его парень знакомый, он его уговорил гипс наложить, и хорошо… Вот так-то, братан, жизнь вот…
Он глянул себе под ноги и сдавленно сказал:
– А я домой еду. Мне отпуск.
– Да, – сказал я про Раскольникова. – Это просто судьба.
– Судьба, – повторил за мной Серега и странно спросил: – А у тебя? А у меня? А?
Он смотрел на меня, и я чувствовал, что надо немедленно что-то ответить, и неестественно весело произнес поскорей:
– А у нас что… У нас – все еще впереди.
Баринцов снял ремень и стал расстегивать «хэбэ», погладил ладонью грудь, почесал бок и опять поднял голову:
– Но ведь этот хиляк – он ведь один смог отмахнуться – он! И ты помнишь, тогда в учебке многие, наверное, видели, как эта гнусь Жусипбеков по карманам лазил, но ведь сказал-то только Раскольников. Ты помнишь учебку, а?
– Я помню, – ответил я. – Я все очень хорошо помню. Иди, братан, пора спать. Все хорошо. Все закончилось плохое. Мы выдержали – как настоящие мужики… И всё.
Серега хмыкнул и потом уже улыбнулся мне:
– Пожалел волк кобылу… Оставил хвост да гриву.
И он пошел от меня, помахивая ремнем, накрученным на правую руку, отвесил щедрую затрещину случившемуся навстречу салабону, возвращавшемуся с уборки туалета, и засмеялся чужим, дребезжащим голосом, и вдруг сказал на всю казарму:
– Вот я шнурок. И я до сих пор не могу понять, что я никому ничего не должен.
И раздался звук, похожий на судорожный всхлип. Слава богу, все спали. Только припозднившийся салабон перепугался насмерть.
Серега все-таки перебрал спирта в тот день.
А мне в голову пошли вереницей мысли, простые и серые, как заборные доски, одна за другой; а ведь я много уже прожил – минимум треть своего, отведенного мне, и все, что было со мной, останется неизменным до самого конца, не забудется – вот это и будет моя жизнь. Ничего другого на этом месте уже не вырастет. Только это и только так. Интересно, странно, страшно.
Серега уехал в отпуск.
Рука у Раскольникова срослась через две недели. Его, по-моему, ходили бить два раза, но не получилось, что-то мешало, просто грозили в окно. И прямо из санчасти его перевели в отличную часть другого рода войск – там, говорят, дедовщины не было, но за малейшую провинность вся часть бегала кроссы вокруг казармы. Это был рай для салабонов и тюрьма и каторга для шнурков и дедушек – все, короче, наоборот, и выходит, что одно и то же.
Мне почему-то хотелось увидеть Раскольникова на прощание, но не пришлось – его увезли втихую, быстро, до завтрака. А только странно – мы ведь с ним ни разу не говорили, кроме той салабонской ночи, самой первой, в туалете, но мне все время казалось, что он постоянно думает про меня и знает, что я думаю про него. Ну вот, подумал я, расстались, отмучился. И слава богу. Но я опять чуть ошибся.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































