Текст книги "Свет мой, зеркальце, скажи…"
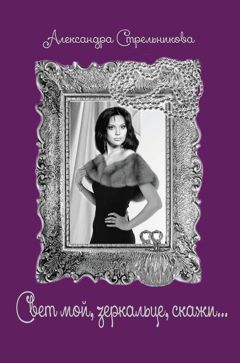
Автор книги: Александра Стрельникова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
«Почему, почему так бывает?» – размышляла я по дороге домой, глядя в окно троллейбуса. – Ведь когда-то эти люди любили друг друга, решив соединить свои судьбы. Потом у них родился сын: такая радость. Сколько времени прошло, когда однажды возникло это отчуждение и непонимание в их жизни? Сын вырос и моделью своего поведения тоже выбрал ту, которую исповедовал старший мужчина в доме».
Как это грустно, однако… И как психологически уже всё запущено, если даже в присутствии постороннего человека мужчины не смогли сдержать своего привычного раздражения. Вроде бы культурные люди, раз в филармонию ходят… Неужели один не мог сам разогреть себе ужин, а другой – обойтись без галстука? Ведь оба знали, что у хозяйки – гостья. Конечно же, она предупредила их заранее, что к ней приедет корреспондент. И, наверняка, к ее увлечению они относятся так же неуважительно. Так – просто блажь, не заслуживающая внимания ерунда…
Я вздохнула. Полезла в сумочку, где лежали уже готовые к печати фотоснимки этих забавных изделий, которые мне дала мастерица. И невольно залюбовалась ими, понимая: удивительно добрые и жизнерадостные, они стали просто спасением и отдушиной в жизни этой миловидной женщины. Она наполняла их тем содержанием, которого ей самой так не хватало в жизни…
Получалось, что я невольно подсмотрела чужую тайну. Но мне надо будет рассказать об этом человеке так, чтобы чужая тайна в этой истории осталось «за кадром». Чтобы никто не догадался… Конечно, я напишу. Я постараюсь очень хорошо написать о ней. И пусть прочитают ее мужчины. А они обязательно прочитают. Хотя бы из любопытства. И пусть узнают, какая она к тому же еще умница и рукодельница – женщина, с которой они живут под одной крышей. Это единственное, что я могу для нее сделать. Просто сказать добрые слова…
Почему так бывает? И сегодня задаю себе этот вопрос, вспоминая ту давнюю историю. А также еще и другие, чем-то схожие с ней по семейным обстоятельствам. Почему так бывает? И грустно развожу руками. Просто это жизнь…
* * *
…Запыхавшаяся и уставшая уборщица неожиданно вкатила в наш отдел писем тяжеленное металлическое ведро с растением, а точнее – целое полутораметровое деревце, густо обсыпанное зелеными листьями.
– Возьмете к себе? – просительно сказала она, – а то я уже устала сражаться с этими мужиками-курильщиками, каждый день выгребая окурки из ведра. Жалко будет, если загубят такой цветок.
– Конечно, возьмем. И ухаживать за ним будем. К тому же, в нашем кабинете никто не курит, – успокоила я женщину. – А что это за цветок?
– Многолетняя китайская роза, – уважительно по отношению к растению произнесла женщина.
Мы установили зеленое деревце у окна и у стола с той стороны, где я сидела.
– Вот спасибо, – поблагодарила уборщицу, – я просто чувствую, как от этой зелени в нашем кабинете сразу прибавилось кислороду…
Но это растение, заботливо умыкнутое предусмотрительной техничкой из другой редакции (так сказать, конкурирующей фирмы) прибавило нам не только кислороду, но еще и массу положительных эмоций, когда зацвело.
Очень быстро, буквально дней через десять, я, поливая цветок, вдруг заметила маленькие зеленые бутоны. Присмотревшись внимательнее, обнаружила, что их просто несметное количество… Бутоны росли, набухали на глазах и, наконец, начали раскрываться. Какая же это была красота!
– Не может быть, – изумленно сказала уборщица, – он не цвел уже семь лет! Представляете, семь лет…
И всё же, это была не китайская роза, а какой-то другой цветок. Потому что китайскую розочку я знала: в нашем доме в моем детстве была такая. И цветок ее был скромнее, и «жил» в распущенном виде только один день. А этот бутон был совсем другой: крупней, ярче, с какой-то удлиненной тычинкой, которая красиво свисала с раскрывшегося бутончика, да и радовал глаз своим цветением дольше…
(Да, это была не китайская, а суданская роза. Теперь-то я это точно знаю. У нее есть еще и другое название – каркаде. Много лет спустя после описываемых событий однажды в супермаркете, я, выбирая чай, случайно наткнусь на коробочку, на которой будет изображен тот самый цветок, не узнать который будет просто невозможно. Удивлению не было предела. Вот оно что еще оказывается: не только красота, но и польза! Но откуда нам тогда было это знать – неискушенным и неизбалованным советским потребителям)?
Мы «пользовали» тогда, в основном, чай «грузинский» 1-го и 2-го сорта, который нам предлагали в магазинах. Про «второй сорт» этого товара, вообще, лучше не вспоминать. Это было нечто: то ли перемолотые опилки, то ли сено-солома. А, уж, за какое счастье почитали мы тогда, если удавалось отхватить, отстояв в очереди, (именно, отхватить – а не купить) чай, который назывался индийским. На коробочке желтого цвета был нарисован серый слон. Нынешние рекламщики, очевидно, не случайно педалируют на ностальгическую ноту, и сегодня используя тот бренд: упаковку желтого цвета с серым слоном, на которой написано: «Тот самый чай»… Да чаями мы явно не были избалованы.
Купив однажды из любопытства заварочку под названием «суданская роза» и попробовав ее, я полюбила этот напиток. У него яркий бардовый цвет и необычный вкус. Он очень напоминает мне… вишневый компот или морс. Но кто же знал, кто же знал тогда…
У того сказочно красивого деревца цветов было больше, чем листьев, а оно всё выпускало и выпускало новые бутоны. Никто не мог равнодушно пройти мимо открытой двери нашего кабинета. Однажды притормозила даже свой шаг в коридоре отнюдь не сентиментальная баба Маня, выразив то ли свое удивление, то ли восхищение.
– По-моему, она положила глаз на наш цветок. Око завидущее, как бы не умыкнула, – тихо заметила я Тамиле, когда заместитель редактора ушла.
– Перебьется, – сухо парировала заведующая. – Если бы он у мужиков в отделе находился – то прихватила бы, без всякого сомнения. Но у трех дам забрать – не посмеет. А сами мы ей ни за что не отдадим…
И всё-таки однажды наш необыкновенный цветок, нашу «мальву Венеции» (еще одно из названий того роскошного растения) умыкнули.
Я первой пришла в тот день в отдел писем, и первой обнаружила пропажу.
– Ну, конечно, стыбзили в тот момент, когда никого в отделе не было, – с возмущением вырвалось у меня.
Я ринулась в коридор и заглянула в ближайший кабинет: отдел культуры. Мадам Нинель я не увидела. Но зато обнаружила редакционного сотрудника, с которым она вынуждена была делить казенное помещение.
Мужчина средних лет, вообще-то, числился совсем в другом отделе – партийном. Но там ему то ли не хватило места, то ли он просто не смог ужиться в одной комнате со своими коллегами. С ним я лишь здоровалась. Не помню, чтобы за всё время моей работы в редакции он заговорил со мной о чем-либо. И я окрестила его молчуном. На летучках он всегда тоже выглядел «онемевшим», если только не был обозревателем по очередному номеру газеты. Этот коллега производил на меня всегда немного странное впечатление: с виду, вроде бы, нормальный мужчина, он постоянно выглядел то ли подавленным, то ли затравленным.
Каково же было мое удивление, когда я увидела означенного индивида, гордо восседающего рядом с потрясающе красивым деревцем, умыкнутым из нашей комнаты.
«Ну, если не «под сенью девушек в цвету», то хотя бы под сенью нашей роскошной цветущей розы, – промелькнула мысль. – Ничто человеческое нам не чуждо, оказывается. Впрочем, какие там девушки. Девушки любят ушами. А этот такой молчун»…
– И как это прикажите понимать? – обмолвилась я, наконец, обалдевшая от такой наглости.
В ответ мне было молчание. Разумеется. Сотрудник спокойно продолжал водить авторучкой по бумаге, как ни в чем не бывало. Очевидно, писал очередной материал на важную партийную тему. Мой вопрос не нарушил процесса его, наверняка, творческой мысли.
– Как понимать? – повторила я, чувствуя, что теряю самообладание.
Молчание.
– Вы – такой большой эстет? Такой большой, что решили украсть красивый цветок у трех дам, воспользовавшись моментом, когда в кабинете никого не было?
И опять в ответ – молчание.
– Ну, знаете… Это выше моего понимания. Обычно мужчины дарят женщинам цветы, а не крадут их у них. Такое мог сделать только… только мужчина из партийного отдела, – вдруг сказала я, очевидно, исчерпав все свои аргументы.
(Ну, конечно же, я была неправа, сказав тогда такую фразу. И сегодня каюсь. Конечно же, и партийные мужчины дарили своим дамам цветы. Но просто сотрудник так возмутил в тот момент, что меня пробил «удар» чисто женской логики).
Но коллега не «снял печать молчания» со своих уст, даже услышав столь нелестный отзыв о партийных мужчинах.
– Скоро появятся женщины из нашего отдела, возмутятся не меньше меня… Лучше вам сразу вернуть цветок на место, – сказала я, презрительным взглядом смерив сотрудника на прощанье.
Но партийный мужчина не стал этого делать. Потом я с напарницами, выждав момент, когда в соседнем кабинете никого не было, перетащила тяжеленное ведро с роскошным деревом обратно в наш отдел. Больше на него никто не покушался. Во всяком случае, пока я там работала.
Сегодня, вспоминая ту историю с цветком, всё же понимаю: искать в ней надо было, прежде всего, мадам. Да, опять шерше ля фам, получается… Хоть партийный товарищ был, возможно, и подпольно-завуалированный эстет, но не настолько, чтобы решиться на такой неблаговидный поступок. Подозреваю, что подвигла на эту авантюру его всё та же… неистовая Нинель. Ох, энергию бы этой редакционной «пассионарии» – да в какое-то иное русло!
Меня она как любила», однако… И никогда этого не скрывала.
Однажды, проходя мимо ее кабинета, услышала, как она умышленно громко сказала своему соседу-«молчуну» в мой адрес:
– Я бы тоже так хотела приходить в редакцию: к обеденному перерыву и вся разодетая и напомаженная. Я бы тоже так хотела работать – в свое удовольствие…
Я, естественно, на такие провокации не поддавалась. И поэтому не стала объяснять мадам, что еду не из дома, а уже после редакционного задания. И приходить в удобное для меня время, имею полное право хотя бы потому, что не получаю здесь зарплату. И что мое присутствие в «печатном доме» заключается не в буквальном «протирании штанов» на редакционных стульях, а в постоянном присутствии моей фамилии на страницах означенной газеты. И мелькает она очень часто. Так часто, что все время приходится использовать псевдоним, когда идет сразу две моих публикации в один и тот же номер…
Ну, а что касается «удовольствия» от проделанной работы – то кто ж мне запретит? Да, действительно, получаю удовольствие, потому что люблю свою профессию. Ну, а быть мне «напомаженной» или нет – это, вообще, не ее забота…
И есть еще очень большое сомнение, что мадам «тоже так хотела бы работать». Она такой шум поднимала в секретариате по поводу заниженных, на ее взгляд, гонораров за свои статьи… А уж если бы ее лишили вдруг зарплаты, посадив на «сухой паек» журналиста-договорника, не сомневаюсь, перевернула бы вверх дном всю редакцию.
…Помню, как-то приехала я однажды в редакцию. Зашла в наш пустой отдел писем. Заведующая была в отпуске. Подойдя к столу, обнаружила свой, сданный ранее, очередной материал. На нем сбоку, на полях, значилась резолюция, сделанная рукой заместителя Аркадия о том, что статья отклонена редактором от публикации. Без указания причины.
«Ну, отклонена и отклонена. Подумаешь. Не стоит грустить по этому поводу, – усмехнулась я. – Тем более, что статья эта – пусть маленькая, но моя интеллектуальная собственность. На нее я потратила свое время, а также силы – умственные и физические. А, значит, имею полное право распорядиться ею по своему усмотрению».
И я сделала то, что сделал бы любой другой журналист в моей ситуации. Не случайно, у собратьев по перу существует с незапамятных времен такое понятие – «пристроить материал». Тем более, когда под одной крышей находится еще несколько редакций. Я позвонила в соседнюю «фирму» и у меня тут же отхватили то, что было без объяснения причины «забраковано» в моей газете.
Когда я уже возвращалась обратно, проходя мимо кабинета Нинель, редакционная «фурия», молча стояла в открытых дверях, провожая меня насмешливым и мстительным взглядом.
С того момента, как я «пристроила» свой материал в другой редакции, прошло не более двадцати минут. И тут раздался телефонный звонок. Звонил Аркадий.
– Саша, зайдите ко мне, пожалуйста, – сказал он, и в его голосе мне почудилось то ли недовольство, то ли обида.
– Может, я просто чего-то не знаю, потому что меня вчера не было на рабочем месте, – начал он, пытаясь скрыть, всё же, некоторое недовольство, – но вот только что мне позвонил разгневанный главный редактор и попросил узнать, почему корреспондент такая-то свою статью, предназначенную для нашей газеты, отдала в другую редакцию.
(«Вот интересно: а как начальник так быстро узнал об этом? – невольно промелькнуло в сознании).
– Да что вы! Редактор так вам сказал? – мои глаза, должно быть, стали круглее тарелок. – Так он же сам вчера забраковал мой материал! Разве не могу я после этого распорядиться своим опусом по собственному усмотрению? Тем более, что это была не обязательная статья из редакционного плана, а предложенная по моему личному усмотрению, что я довольно часто делаю, когда нахожу интересную тему.
– Как забраковал? – в свою очередь изумился ответственный секретарь. – Это точно?
– Точнее не бывает. С резолюцией вашего заместителя.
– Так это меняет всё дело, – сказал мужчина немного растерянно. – Я сейчас же перезвоню редактору.
Ответственный секретарь помрачнел.
– Позволил себе отгул один день, а тут без меня такого вчера наворочали, – сказал в сердцах Аркадий, намекая на какие-то текущие производственные проблемы, и добавил с досадой, – лето, половина корреспондентов в отпуске. Мне нечего на полосы ставить, забиваю газету официозом. А начальство, значит, бракует материалы собственных сотрудников. Что за хрень… Ни на один день нельзя работу оставить.
– Вот и не оставляйте. Вас не было, моя начальница в отпуске – и сразу, видите, какие нападки в мой адрес. Ладно бы, обоснованные…
Аркадий усмехнулся, намереваясь что-то сказать.
– Только не говорите, как редактор меня «любит». Мы этот вопрос уже обсуждали, – грустно усмехнулась я, покидая кабинет ответственного секретаря.
«Ах, Нинель, ах, Нинель! Что ж тебе так неймется-то! Слышала звон, да не знаешь, где он», – думала я, поднимаясь по лестнице на свой этаж после разговора с Аркадием.
Кабинеты наши рядом, она расслышала только часть фразы о том, что я предлагаю кому-то материал, сделанный для нашей газеты. А почему – не разобралась… Но, боже мой, какая готовность «номер один» – наушничать, доносить, выслуживаться…
И какая быстрота ответной реакции на начальственном телефонном проводе! Как будто там только и ждали, что «эта» имярек допустит какую-нибудь оплошность…
А не с легкой ли руки неистовой Нинель появилась приставочка «эта» к моей фамилии? Как знать, как знать…
Пока шла в свой кабинет, вспомнила известную истину о том, что «мы любим людей за то добро, которое им делаем, и ненавидим за то зло, которое им причиняем». С грустью разумея, что количество этой нелюбви в здешней конторе почему-то продолжает множиться в геометрической прогрессии…
«Боже мой, ну, наступит же однажды день, когда я буду вспоминать всё это как кошмарный сон»? – с такой мыслью вернулась в свой отдел писем, где я была в тот день одна.
Впрочем, не совсем одинока. Буйством зелени и жизнерадостностью многоцветья меня встретила здесь суданская роза и мальва Венеции в одном лице (хоть я и не знала тогда еще этих названий).
Роскошное растение приковывало взгляд, невольно отвлекая от мрачных мыслей своей красотой. Я припала лицом к прохладным зеленым листьям и красным бутоном, перепачкав нос желтой пыльцой. Чихнула пару раз … и мне стало немного легче.
«Обязательно наступит этот день», – вдруг с необычайной ясностью промелькнула мысль, как будто меня кто-то тут же успокоил в моих сомнениях и тревогах… Присутствие красивого растения действовало на меня умиротворяюще, гармонизируя не только окружающее пространство кабинета, но и мои чувства.
Сегодня ведется немало дискуссий на тему: разумны ли растения? Не вникая во всю глубину научных изысканий, могу лишь заметить, что растения – несомненно, интереснейшие естества. А раз живые – то, вполне могут что-то чувствовать.
Существует довольно устоявшаяся истина о том, что цветы и растения умеют «распознавать» добрых и злых людей.
Когда уборщица принесла к нам в отдел то чудесное дерево, на нем даже никакого намека не было на цветение. Но я, поливая его, дотрагиваясь до листьев, всё время произносила такую естественную фразу: «Как бы хотелось увидеть, какие же у него цветки».
И случилось невероятное на наших глазах: через несколько дней, как растение «поселилось» в нашем кабинете, оно выпустило побеги будущих бутонов. А, по словам уборщицы, которая случайно осчастливила нас этой красотой, оно не цвело уже семь лет…
Кстати, еще вот о флоре. У нас в родительском доме среди прочих был один многолетний цветок (впрочем, он и сейчас есть). Ничем не примечательное, скромное комнатное растение с удлиненными листьями, свисающими с горшочка, которое цвело очень редко. Но когда оно зацветало, то выпускало нежную розовую лилию, которая буквально «выстреливала» в окружающее пространство, заставляя любоваться собой.
Все родственники подметили одну удивительную закономерность у этого создания природы: растение расцветало всегда обязательно к какому-то приятному и радостному событию в нашем доме. Невероятно, но это так. Абсолютно скромный с виду росток буквально «салютовал» выстрелом лилии, когда каждая из трех сестер поступала учиться или получала «диплом», когда мы поочередно выходили замуж и когда у нас рождались дети… Вот такой цветок радости. Вот такие чудеса флористики.
Поэтому ничего удивительного нет в том, что между мной и суданской розой невольно установилась некая эмоциональная связь. Я, приходя на работу, любовалась ею, всё время отпуская комплименты этому одушевленному существу. Я всё время нюхала цветки, дотрагиваясь до лепестков и листьев, а роза, словно в благодарность за ласковые слова, всё выпускала и выпускала новые бутоны.
И хотя нас три женщины было тогда в одном кабинете, и сегодня возьму на себя смелость утверждать то, что чувствовала тогда: эта роза цвела именно для меня. Она была так созвучна с тем невидимым для посторонних глаз бутоном, бутоном любви, который распустился в моем сердце, что мы просто должны были звучать с ней в унисон…
* * *
Тогда и сейчас… Сегодня ты уже знаешь, что было потом. Просто теперь приоткрыта именно та часть завесы, которая была сокрыта тогда.
Я уеду из моего родного города, и стану приезжать сюда два раза в году. А когда дочка пойдет в школу, буду приезжать один раз в году, на ее летние каникулы. Но всё это будет потом, потом…
Всё изменится постепенно. И большая страна перестанет существовать, и мы окажемся в разных государствах, и даже – в разных часовых поясах, находясь, при этом, всего в десяти часах езды на неизменном фирменном поезде «Харьков-Москва».
И это мне тоже расскажут потом… Когда подуют перестроечные ветры (вначале казавшиеся такими свежими и обновляющими), коллектив редакции, решив вздохнуть свободней, поспешит проводить своего непрофессионального редактора, наконец, на пенсию.
Просто не нужны станут такие начальники, которым всё равно, чем руководить: редакцией, наукой, строительной или кладбищенской конторой… Лишь бы руководить. И стучать кулаком по столу, как кувалдой. Да и «красная книжечка» к тому времени потеряет свое значение и власть. Кто-то станет топтать ее ногами, сжигать, а кто-то еще ближе прижимать к сердцу. Всё так изменится в нашей жизни…
Однажды в свой очередной летний приезд в любимый город я окажусь рядом с магазином сладостей «Медведик».
(Есть такая слабость: всегда любила и сегодня люблю изделия харьковской кондитерской фабрики, как бы она не называлась теперь).
Уже побывав в этом магазине и накупив лакомств, вышла на улицу, облокотившись на мраморный парапет подземного перехода станции метро «Советская» («Радянська»). Я никуда не торопилась. Мне было немного грустно. Просто уже завтра жительница ближнего зарубежья, иностранка в моем лице, уезжала в Москву. И поэтому мысленно прощалась с городом.
Магазин находится на площади, которая является преддверием моей любимой улицы Сумской – в самом центре. Позади от меня, через дорогу – расположились «Театр кукол» и «Художественный салон». Прямо, перед глазами – роскошный старинный особняк, в котором размещается харьковская консерватория. Все такие знакомые и любимые места…
Разморенная южной жарой, стоя рядом с магазином, я ностальгически вдыхала такие знакомые еще с детства ароматы ванили, кофе и шоколада, которые долетали до моего обоняния сквозь открытые двери торгового предприятия, смешиваясь с духотой августовского вечера…
Перед моим созерцательным взором проплывали красивые харьковчанки, высокие каблучки босоножек которых оставляли «точечный» след в нагретом за день асфальте. В открытое окно была слышна ненавязчивая, приятная мелодия… И я стояла, завороженная и заторможенная, не в силах двинуться с места и расстаться с «картиной в масле», что открывалась моему взору.
Боковым зрением подметила, как из открытой двери ресторана вышел швейцар в униформе, очевидно, чтобы глотнуть свежего воздуха, и направился к мраморному парапету подземного перехода. Он остановился неподалеку от меня. Я повернула голову в его сторону. Наши глаза случайно встретились. И… Меня, словно, шибануло током. От моей созерцательной заторможенности не осталось и следа.
«Не может быть»! – содрогнулась я. – Но эти глаза цвета темной стали я ни с какими другими не спутаю»!
По дороге в родительский дом я размышляла над мистикой мимолетной встречи и над метаморфозами жизни, вообще. Может быть, я ошиблась? Может, мне показалось? Но тогда у того человека должен быть двойник…
А, собственно, чему удивляться? Возможно, человеку с психологией «чего изволите» по отношению к начальству из того казенного дома, который находился на главной площади моего города, вовсе несложно было «перестроиться» под такой девиз в своей дальнейшей жизни?
А что? Советская распредиловка для «избранной» партийной и прочей руководящей элиты закончилась. Красная книжечка, знаменующая собой партбилет, тоже уже никому не была нужна. Как, впрочем, и отработавший свое пенсионер, выброшенный течением непредсказуемой жизни в условия рыночной экономики или дикого капитализма, девиз которого: спасайся, кто может. Или – как может. И каждый – в меру своих способностей…
…А в тот летний день, когда кому-то так хотелось посягнуть на мои авторские права журналиста, выйдя из редакции и обнаружив, что нет моего троллейбуса, решила прогуляться до следующей остановки.
Следующая была у станции метро «Московский проспект». А там, как всегда, толчея. Я садилась последней и была уже на верхней подножке, когда чья-то похабная рука скользнула по моей «пятой точке». Развернувшись, увидела мерзкую ухмыляющуюся рожу. Изо всех сил толкнула «рожу» локтем, соскочив со ступеньки и крикнув ему вслед: «Скотина». Перспектива ехать на близком расстоянии с таким уродом, который будет дышать в лицо и, пользуясь давкой, распускать руки, меня не прельщала.
– Та ты шо? Така нэдотрога? Та дэ ж йому за таку кралю подэржатысь, як ни у тролэйбуси, – раздался насмешливый голос за моей спиной поддатого и замызганного мужичонки.
«Да что ж за день такой»! – возмущение кипело во мне. Как я не любила общественный транспорт из-за таких вот инцидентов! Особенно летом.
Даже если не было таких вот «мерзких» прилипал, которые так хорошо знакомы нашему женскому сословию, я просто не переносила духоты так называемых «резиновых салонов», разгоряченных и потных тел… В другое время года это было не так заметно. Но летом – просто невыносимо. Стоит ли удивляться тому, что летом я очень часто ходила пешком.
Помнится, придя домой в тот раз, я что-то недовольно буркнула сестрам, что опять добиралась «на своих двоих» и так устала от духоты, хамства и немытых тел в переполненном общественном транспорте… Мои слова услышал папа.
– И в кого ты у нас такая чересчур нежная? Как же ты жить будешь дальше? А если вдруг война или какие-то экстремальные обстоятельства? – сказал он.
– Я выносливая, – всегда в таких случаях отвечала я папе, который не раз (очевидно, жалея самую младшенькую) почему-то выказывал озабоченность по этому поводу: как же я жить-то собираюсь на этом свете?
Ах, папа, папа… А уж войны и прочего «экстрима» на его долю хватило с лихвой на всю оставшуюся жизнь.
Лет через тридцать пять после окончания войны его стало беспокоить старое ранение: осколок от разорвавшегося снаряда когда-то задел позвоночник. Да, десятилетия спустя врачи обнаружат небольшое доброкачественное образование. Операция пройдет успешно. И об этом можно было бы забыть.
Забыть… Если бы несколько лет спустя не случился тот «экстрим» во всей нашей жизни, когда на исходе двадцатого столетия вопросительным знаком для мирового сообщества завис так называемый «мирный атом».
А такой уж он мирный, на самом деле? Очевидно, прозванный «тихим убийцей» не случайно, он и подкрадывался тихо и незаметно: без вкуса, без цвета, без запаха… Не сразу, постепенно, с годами, начинали себя чувствовать хуже даже те, кто был абсолютно здоров. А уж что было говорить о тех, кто был наиболее уязвим – детях и пожилых людях, или о тех, кто уже имел какие-то хронические недуги?
(Вот, кстати, к примеру, такой факт. Когда мои племянницы и племянник еще учились в школе, при ежегодной медицинской диспансеризации, абсолютно у всех учащихся фиксировались те или иные нарушения щитовидной железы.
К слову, в одной статье я как– то прочитала, что японцы-мужчины после бомбардировок американцами известных городов сознательно избегали невест из Хиросимы и Нагасаки, хотя считалось, что там живут самые красивые японские девушки. Так они вынужденно заботились о своем будущем потомстве. Но ведь, и теперь это известно, радиоактивный выброс в Чернобыле был в сотни раз сильнее, чем в Хиросиме и Нагасаки… А теперь «почувствуем разницу» и подумаем о генетике и здоровье будущих поколений)…
Мы все сначала думали, что это случилось потому, что папа курил всю жизнь. Но доктор нас разубедил. Дело было не в легких. Причину нужно было искать в том давнем фронтовом ранении, на которое так некстати наложился «мирный атом»… И понимаешь: если бы не война, если бы не техногенный «экстрим», папа мог бы прожить дольше. Он ушел из жизни, когда ему было 73 года…
В детстве мы часто приставали к нему, чтобы он рассказал нам что-нибудь о войне. Мне почему-то из всех историй врезалась в память именно эта.
…Однажды их рота под покровом ночи должна была в брод перейти реку. А на дворе был месяц ноябрь. Когда солдатики во всем своем мокром обмундировании, с мокрыми сапогами и портянками, выбрались на берег, им, чтобы не быть обнаруженными противником, нельзя было даже развести костер, чтобы обогреться и обсушиться. Можно было только курить, пряча огонек папиросы в рукаве шинели. И даже плохо согревало содержимое походной фляги. А на дворе был ноябрь…
У меня и сейчас стынет всё внутри, когда я пытаюсь представить, какой ледяной была та вода в реке, и как стучат у солдат зубы от холода… Само собой – вся рота заболела. Но подумаешь: что такое простуда и температура во время войны, даже очень высокая! Зато все были живы, не было даже ни одного раненного бойца. Наверное, в таком решении командования был свой резон. Наверное…
Пехоту быстренько подлечили и направили дальше на фронт. А у папы к высокой температуре тогда добавилась еще сильная крапивница по всему телу. Кто будет лечить какую-то там крапивницу, когда вокруг рвутся снаряды?
Незалеченный дерматит перейдет потом в хроническое кожное заболевание, которое будет сопровождать его по жизни и после войны… Как ветерану ему по профилю недуга потом будут предоставлять по месту работы бесплатные ежегодные путевки в санатории Кавказа. И иногда он еще профилактически будет ложиться в больницу, и мы будем проведывать его, принося передачи из дома. Вот тебе и «ерундовый» дерматит – тоже память о той войне, заработанная однажды ноябрьской ночью во время перехода в брод ледяной реки…
Обычно папины воспоминания обрывались на одном и том же месте, когда три любопытствующие дочери доходили вот до этого вопроса: «Папа, а ты стрелял и…?»
– На войне нельзя зевать… Всё решают секунды: если не ты, то тебя…
После этих слов папа всегда замолкал и мрачнел. Но тут же приходила на помощь мама:
– Что ж вы пристали к отцу опять со своими расспросами? Неужели вы не понимаете: если бы тогда убили вашего папу, вас бы, вообще, никогда не было на этом свете! Вы бы просто не родились, – приходила на помощь родителю наша мама.
– Представляете, мы бы никогда не родились! Нас бы никогда не было! – с ужасом восклицала самая младшенькая, то есть я.
После некоторого затишья иронично подавала голос средняя сестра:
– Да уж без тебя точно можно было бы обойтись…
– Точно, точно, – вторила ей и старшая сестра, намекая на некоторую мою вредность.
(Я всегда пыталась увязаться за своими старшими сестрами, которые, в свою очередь, хотели отлепиться от «мелюзги» в моем лице. И когда им это удавалось, мне было обидно. И тогда я в отместку ябедничала на них родителям. Да, иногда я была ябедой. Грешна. И сегодня каюсь в этом. Каюсь. Но уж очень было обидно, когда они меня называли «лишним ребенком» в нашей семье, без которого можно было обойтись).
Да, тогда я искренне и по-детски ужасалось, что нас просто могло не существовать в этом мире… Но сегодня прекрасно понимаю, отчего замолкал и мрачнел наш папа.
Как же это должно быть противоестественно всей природе недавнего студента: держать оружие в руках. И не по своей воле. Хоть и был он связистом. Противоестественно – и не только для студента. Вообще – чуждо нормальной человеческой природе. Впрочем, не мы всё это затеяли…
А дядя Миша пережил папу всего на один год. Наверное, потому, что они близнецы. А близнецы, как подмечено, друг за другом «ходят»…
Хоть после войны они стали жить в разных городах, дядя Миша часто приезжал к нам погостить летом, чтобы отдохнуть от шумной Москвы. Наверное, тянуло его в родительский дом, в город детства и молодости.
Папин брат после войны закончит заочно институт и станет преподавателем математики. Он будет учить этому предмету и студентов в различных технических вузах столицы, и учеников в так называемой школе рабочей молодежи. Станет директором техникума…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































