Текст книги "Свет мой, зеркальце, скажи…"
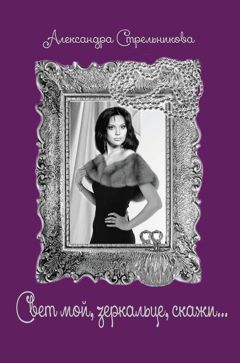
Автор книги: Александра Стрельникова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
И тут она, в такой, далеко не лучший момент своей жизни, случайно узнает, что бывают у кого-то совсем иные истории…(Что, в общем-то, неизбежно и естественно, исходя из многовариантности самой жизни).
Все люди, конечно, разные. Но встречаются и такие, кому всегда хочется «перераспределить некий ресурс в свою пользу», говоря научным языком. А по-простому, хоть немного перетянуть на себя «чужое одеяло», оторвать хотя бы лоскуток от чужого счастья, радости, потому что именно эти люди очень плохо себя чувствуют, когда другим хорошо…
Помнится, я отказалась в то утро идти на пикник, где должны были делать на костре шашлыки, сославшись на то, что я лучше останусь на хозяйстве и перемою всю вчерашнюю посуду. В душе я надеялась еще немного поспать после практически бессонной ночи.
Когда я осталась одна, решила: сначала немного отдохну, а потом возьмусь за работу. Но не тут-то было. Когда я легла на тахту и сомкнула веки, тут на меня и «напал» впервые этот жуткий «колотун». Я испугалась. И было от чего. Со мной никогда такого не было в жизни: я вся вдруг поледенела, и при этом бил такой озноб, что стучали зубы и коленки подпрыгивали до потолка. Я встала с постели и еле доплелась до кухни, где по-быстрому заварила крепкий чай. Потом, вернувшись в комнату, укуталась в теплое одеяло, хотя на дворе было лето…
Что это было? Да просто меня «нежно погладили», когда я спала – абсолютно беззащитная, расслабленная и доступная для всякого негативного воздействия.
Поэтому совсем неудивительно: когда со мной во второй раз случился подобный «колотун», моментально вспомнился тот, первый… Хотя от него меня отделяло уже не менее десятилетия, но который запомнился очень хорошо, наверное, на клеточном уровне.
… Помню, как в детстве мама нас – всех своих трех подрастающих дылдочек – еженедельно водила на помывку в баню. Не смотря на то, что она родила трех дочек, сама очень долго оставалось стройной, подтянутой, без всякого намека на живот, целлюлит и прочие там «растяжки».
Я очень хорошо помню, как на маму с неподдельным интересом глядели женщины, зачастую удивленно даже спрашивая у нее: «Неужели все трое – ваши дети?» Мама кивала. И тогда неизбежно следовал второй вопрос: «Как же вам так удалось сохранить фигуру?» Или звучало удивленное: «Не может быть! У вас же фигура, как у девушки!»
Мама очень не любила эти расспросы. В тот же день после такого «помывочного мероприятия» в большой «дамской зале» бани она довольно часто жаловалась: опять ее знобит, опять поднялась температура 37 «с хвостиком». А это значило, что кто-то опять посмотрел на нее «нехорошими завистливыми глазами», как она сама говорила. И вздыхала: «Хоть не ходи в эту баню»…
Не скрою, было сомнение: стоит ли писать вот об этих неприятных вещах? Но ведь из песни слова не выкинешь. Что же делать, если по жизни нас преследует чьи-то косые, завистливые взгляды?
Я ловила их и от тех, кого была на четверть века моложе, и от тех, кого на двадцать пять лет старше… Я прошла всё это сполна: от чужого случайного взгляда, от которого тут же спотыкалась в буквальном смысле, до использования магии теми, кому я почему-то застила свет… Наверное, потому что никак не «перераспределялся ресурс», в ход шла явная или скрытая агрессия…
Я очень часто встречала людей, девизом жизни которых мог бы быть вот этот анекдот: «Прошли мимо своего счастья? Не расстраивайтесь – вокруг так много чужого»! Даже, если об этом анекдоте они никогда не слышали…
А если ваша профессия еще носит творческий характер, как тут не вспомнить о Моцарте и Сальери… На память тут же еще приходит хорошая украинская поговорка: «наша песня гарна, нова – починаем ее снова»… Уже по другому кругу.
«Вы, ведь, крещеная? – как-то спросили у меня. – Почему не носите крестик? Это ваша защита и оберег: от лживых друзей, недоброжелателей и всех прочих «враг видимых и невидимых».
«А, действительно, почему?» – задумалась я.
Меня крестили в то время, когда это было не принято афишировать. Да и к тому же, папа мой был партийным.
В моем классе, вспоминаю, никто не носил крестик, хотя многие тоже были крещеные. И на Пасху в качестве перекуса приносили в школу даже крашенные яйца и куличи… Сюда надо добавить всё наше школьное атеистическое воспитание, потом студенческие годы с зубрежкой по какому-то непонятному предмету – типа научного коммунизма…
На моей памяти, как для местной молодежной газеты «сверху» спускали директиву: печатать списки комсомольцев, которые венчались в церкви или крестили своих деток… Я, как и большинство моих ровесников, росла атеисткой по воспитанию и незнанию. Стоит ли удивляться? Но однажды приходит момент истины. Всё равно приходит…
Вспоминаю: мама уговорила покреститься папу, потом они обвенчались. Случилось это за несколько лет до того, как папы не стало.
…Мне кажется, что ничто так не портит и не старит человека, особенно женщину, как зависть и злость. Этот угрюмо-жесткий взгляд, этот перекос в уголках рта от агрессивно сжатых челюстей. Никакой пластический хирург потом не поможет, даже если учесть, как далеко косметология шагнула сегодня. Даже если знать: время нельзя остановить, но его можно обмануть… Но только не этот душевный перекос, который всё равно отразится на лице, обезобразив его…
Я никогда не понимала этого: зачем примерять чью-то судьбу на себя? Что ты знаешь обо мне? О моей жизни? У всего есть внешняя и обратная сторона медали. Чужая жизнь – как наряд с чужого плеча. Не на тебя он сшит, и чья-то судьба на твою не наложится. Потому как – у каждого своя. Но почему-то эта, такая простая истина, недоступна многим…
Мне кажется, если бы это понимали иные женщины… Если бы понимали, тогда бы спокойней подходили к зеркалу, и, возможно, этот извечный вопрос не казался бы им таким приговором: «Свет мой, зеркальце, скажи да всю правду доложи: я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?»
Такой незыблемый постулат этой жизни: всегда кто-то будет лучше и моложе нас. И чем раньше понять это, тем лучше. Лично я поняла это очень рано. Может быть, отчасти этому поспособствовало то, что я выросла в сонме украинских красавиц, природная привлекательность которых и сегодня для меня остается загадкой? И полагаю, что не только для меня. Я имею в виду, в первую очередь, мужчин…
Сказка ложь, да в ней намек. «Но царевна молодая, тихомолком расцветая, между тем росла, росла, поднялась – и расцвела»… Ну и что там зеркальце ответило царице на ее неизменный вопрос? Известно что: «А царевна всё ж милее, всё ж румяней и белее»…
Просто таков непреложный закон бытия, который не смогла постичь злая царица, «черной зависти полна».
Помню, когда подросли мои племянницы-погодки, обе семнадцатилетние приехали пытать счастья в московских вузах. Я отводила за руку харьковских абитуриенток – Юлию и Нику к месту предполагаемой учебы точно так же, как когда-то меня дядя Миша. С интересом отмечая, что на моих юных родственниц «сворачивает головы» мужской пол. Впрочем, как и на меня, когда я приехала сюда учиться. С иронией я им рассказывала какие-то забавные истории из этой серии. И мы смеялись… Ну, вот хотя бы над этой.
Когда я приехала на свою первую экзаменационную сессию на первом курсе, за мной бежал какой-то молодой человек с горящими глазами и вопрошал: «Девушка, а, девушка, почему я не встречал вас раньше на нашем факультете?»
– Наверное, потому, что я учусь на заочном отделении, – спокойно ответила я.
– На заочном? – с сожалением переспросил он. – В это невозможно поверить. Такие девушки, как вы, должны учиться только на дневном. Переводитесь, пожалуйста, на очное отделение. Я вас очень об этом прошу…
… Помню, как мы поджидали с дочкой, на тот момент второклассницей, во дворике моего родного факультета мою племянницу Юлю, сдававшую очередной экзамен. Ее к нам подвел шустрый молодой человек.
– Хочу сказать, что ваша племянница – самая красивая девушка на этом абитуриентском потоке, – восторженно проговорил он.
– Обижаете, молодой человек, – невозмутимо заметила тетя в моем лице. – Моя племянница – самая красивая, независимо ни от каких «потоков».
Вспоминая это, мы часто потом смеялись…
Затем подросла моя доченька и ее многочисленные подружки, превратившиеся в симпатичных Аленок, Катюш, Маш… И я радовалась за них всех. Школа закончилась, и начались институты. Красавицы взрослели.
Помню, как однажды, мою дочку, приболевшую простудой, пришел проведать один молодой человек из компании дочкиных друзей. Юноша принес цветы, лимоны и сладости к чаю. Спустя какое-то время, когда она уже выздоровела, я поинтересовалась: а как там поживает тот молодой человек, такой внимательный и заботливый, вроде?
Дочка, усмехнувшись, неопределенно пожала плечами:
– Да никак. Мне с ним скучно. А он сказал, что ему трудно со мной дружить, потому что я – слишком умная…
Я рассмеялась.
– Мы это тоже уже проходили когда-то. Мне говорили то же самое. И как бы в осуждение. Много ума не бывает… Понимешь, то, что в его устах звучит, как осуждение, и есть похвала…
* * *
Люблю красивое: музыку, стихи, картины, природу, лица… Что в этом плохого? Когда смотрю на красивые лица, то думаю: как здорово, значит, красота продолжится и размножится. У кого-то будут дети, потом «будут внуки расти, всё опять повторится сначала». Пусть множится красота в геометрической прогрессии… А еще существует поверье, что беременные женщины должны смотреть на всё красивое. Особенно, детские лица.
Я не помню, как впервые там оказалась. Наверное, однажды просто случайно проезжала или проходила мимо того места по Комсомольскому проспекту.
Но мимо этой красоты невозможно было пройти: Храма Николая-чудотворца в Хамовниках, который вклинился своей неповторимостью и величием в суету большого города. Поражало и внутреннее богатое убранство – наличие разной величины старинных икон, конечно же, намоленных…
У меня сегодня там есть три любимые иконы. Я не очень люблю распространяться на подобную тему, так как считаю ее весьма приватной. И, вообще, люблю приходить в подобные места не в шумные праздники с большим скоплением народа, потому что не выношу толчеи и духоты. Всё это мешает внутреннему сосредоточению, для которого так необходимы, мне кажется, одиночество и тишина.
И хотя мы тогда жили совсем в другом районе столицы, я, готовясь стать мамой, почему-то приезжала именно сюда. И стояла именно перед этой большой иконой: у меня на раннем сроке была угроза срыва беременности. И конечно, просила о том, о чем просят, наверное, все женщины мира в моем положении…
Когда дочке было годика три-четыре, я однажды пришла с ней в эту церковь, подвела ее к той самой иконе и сказала: вот перед ней я стояла, когда ты должна была появиться на этот свет…
– И я сидела в твоем животе точно так же, как этот мальчик в животике вот у этой тети? – спросил она, кивнув на некий сферический круг, в который на иконе был заключен младенец.
– Это не просто тетя, это – Богородица. И мальчик не просто мальчик – а Христос, – попыталась объяснить я ей тогда.
Потом мы бывали в той церкви с ней еще не раз, приезжая с другого конца Москвы.
Как-то приехала к нам в гости племянница Юлия, на тот момент – уже старшеклассница. И мы нацелились в музей. Почему-то именно в музей имени Льва Толстого, тот, что находится на улице, которая носит сегодня имя русского писателя (или Долго-Хамовническом переулке, как она называлась при жизни классика).
И так совпадало, что усадьба писателя оказалась рядом всё с тем же храмом Николая-Чудотворца в Хамовниках. Сначала по пути мы зашли в златоглавую церковь. А потом уже направились в музей-усадьбу.
… В будний день в музее посетителей можно было по пальцам пересчитать. Вообще, это удивительное чувство: ты вдруг попадаешь в очень личное, закрытое пространство, в которое тебе позволили заглянуть…
Совсем рядом шумно бьется пульс мегаполиса, но здесь время, словно, остановило свой бег.
Вот лестница, ведущая на второй этаж… Вот огромный стол с большим самоваром на столе… Комнаты домочадцев, кабинет писателя. Живя в этом доме, Лев Николаевич написал около ста произведений. И я на миг представила, как медленно поднимаясь по лестнице, он, возможно, обдумывал какой-то эпизод из «Крейцеровой сонаты» или, гуляя во дворе по саду с раскидистыми яблонями, размышлял над сюжетом романа «Воскресенье»…
Время, отведенное на экскурсию, пролетело незаметно.
– Может, у вас есть какие-то вопросы? – обратилась к нам экскурсовод.
– Вот мы столько разных комнат обошли, – вдруг выпалило мое чадо со всей непосредственностью шестилетнего ребенка, – вот и не пойму, а где все эти люди купались? Где у них ванна и туалет?
– Какая наблюдательная девочка! – женщина-экскурсовод засмеялась. – Ванной комнаты в сегодняшнем нашем понимании в этом доме просто не было, так как тогда было принято ходить в баню. А что до туалета… Господа пользовались так называемыми «ночными горшками». А слуги – отхожим местом во дворе…
Узнав даже такие подробности, благодаря непосредственной детской любознательности, мы, наконец, вышли во двор, огороженный заборчиком.
И вновь, после прохлады писательской усадьбы, вернулись в этот душный июль душного большого города. Уходить сразу не хотелось. Во дворе росло несколько высоких старых яблонь. Под ними валялись мелкие, невзрачные зеленые яблочки, которые, наверное, уже переродились за столько-то лет…
– Представляете, девчонки, мы стоим под яблонями, которые, вероятно, посадил сам Лев Николаевич, – сказала я.
– А можно подобрать хоть несколько штучек? – спросила у меня негромко племянница.
И покосилась на охранника, изнывавшего от духоты и лениво глядевшего на нас – замешкавшихся посетителей.
– Попробуй, – я пожала плечами, глянув на россыпь мелких и грязноватых яблок, валявшихся в большом количестве после прошедшего ночью ливня.
Племянница быстро наклонилась и подобрала несколько штук.
– Так мы их сейчас будем есть? – поинтересовалась дочка.
– Нет, они же грязные, – нравоучительным голосом сказала старшая двоюродная сестра своей младшей двоюродной.
– Дело вовсе не в том, что они грязные. Их, вообще, не надо есть. В Москве плохая экология. Эти бедные фрукты впитали в себя все столичные кислотные дожди, и всю гарь и свинец с соседнего Комсомольского проспекта.
– А зачем же мы тогда их взяли, если не собираемся есть? – непонимающе спросила дочка.
– На память, – ответила я.
– А что будет, если я всё-таки съем яблоко? – не унимался ребенок.
– Станешь такая же умная, как Толстой, – сказала Юлия.
И мы все засмеялись.
Спустя какое-то время племянница написала мне письмо из Харькова. Она рассказывала о том, что получила «пятерку» за сочинение под названием «Яблоко от Льва Николаевича». А еще – как она с Никой и с подружками (невзирая на какую-то там экологию) разделили заветное яблочко на несколько частей – по числу собравшихся, и съели его, загадав желание. Желание – быть умными. Даже, если не такими умными, как Лев Николаевич, но всё равно – не быть дурочками в этой жизни…
* * *
Я уже говорила и повторюсь: иногда мы бродим по лабиринтам памяти, мысленно возвращаясь туда, где нам было хорошо и приятно. Но что делать, когда помимо нашей воли, жизнь почему-то возвращает нас снова и снова туда, куда бы мы не хотели возвращаться? И ты вдруг очень остро начинаешь ощущать, что «за нами следуют тени – эти странные слуги времени, эти верные стражи времени»…
Непонятным, мистическим образом тот дом, что находится в начале улицы Сумской, будет периодически по жизни напоминать мне о своем существовании. То неправильно заполненной строкой в официальном документе. То лицом, случайно промелькнувшем в телевизионной передаче. Или мадам – ярой поклонницей Поля Брэга, которая много лет спустя поселится именно в соседнем со мной доме. Что особенно удивительно, если учесть московские масштабы. Почему? Я этот вопрос задавала себе не однажды, когда жизнь вдруг опять давала мне напоминание о той давней истории.
А однажды, вообще, произошла некая странность… Мне, в буквальном смысле, стали попадаться на глаза люди, которые были очень похожи на того молодого человека, который своим типажом так напоминал когда-то Алешу Поповича… Они встречались мне в магазине, на улице, метро. Как наваждение. И я, находясь в здравом уме и здравой памяти, понимала, что, наверное, всё это не случайно. Если жизнь так настойчиво вдруг напоминает мне о прошлом, значит, это прошлое хочет мне что-то сказать? Но что?
Боже мой, сколько же лет прошло с тех пор! У меня уже дочка на тот момент была студенткой, и пожалуй, в возрасте как раз того молодого человека, когда вся эта история на улице Сумской произошла…
«А что, если, – подумала я тогда, – мне неким бумерангом теперь, когда я сама уже мама, вернулись переживания и боль матери того молодого человека, когда всё это с ним случилось? Может такое быть?»
Наверное, может.
«Но в чем же моя вина? Разве в той истории я сама – лицо не страдательное тоже? Разве не осталось в результате всего случившегося – шрама, памятной зарубки на моем сердце? Просто они никому не видны».
Но, стоп. Эмоции побоку. Я уже давно вышла из того комсомольского возраста, который соотносил меня с тем временем. А это значит, что я должна искать причину. Никто, кроме меня самой, на этот вопрос не ответит.
И я стала размышлять. Я попыталась представить того юношу сегодняшним зрелым мужчиной. О чем он думает, многократно, изо дня в день, видя на своей руке тот памятный шрам?
Может быть, он так ему уже примелькался, что он его не замечает даже?
(«Не знаю. Может быть. Впрочем, не уверена»).
Если вспоминает обо мне, то как? Незлым тихим словом?
(«Вряд ли»).
Зло и недружелюбно?
(«Вполне возможно»).
А если с проклятьем?
(«Только не это, только не это»)…
Наверное, когда-то, давно, тому молодому человеку очень не хотелось, чтобы я однажды взяла и исчезла из того дома на улице Сумской. Но что мне оставалось делать тогда? Я и сама не собиралась увольняться, но обстоятельства (тождество – он) не оставляли мне выбора. Тогда в чем моя вина?
Не думала, не гадала, не ведала, что такое со мной может произойти. Точнее, из-за меня. Не ведала…
Вот именно: не ведала. Неужели слово, наконец, найдено? А за ним – и, может, объяснение всему? И всплыли в памяти сами собою слова о поступках, которые мы совершаем по жизни «в ведении и неведении»… Ну, то что «в ведении», это я хорошо понимала. А вот – «в неведении»? Это как?
Есть такое понятие, оказывается – «невольный грех», который трактуется как такой, которого человек не предвидит, который случается вопреки его воле и желанию. Не думала, не хотела, не желала, но так почему-то получилось… Значит, выходит, как не крути: всё равно виновата. А есть и такие грехи «по неведению», о которых мы просто не помним, или такие, которые не считаем даже за провинность. Но они на нас, всё равно, как-то «значатся» или «числятся»…
Эта давняя история, которую я бы так хотела не вспоминать. Такая давняя… Но каким-то странным образом случайные люди, случайные обстоятельства периодически напоминали мне об этом по жизни.
Некий тайный «груз» прошлого, который висел на мне все эти годы… Но я не сразу смогла понять это. Сколько лет прошло… Но потом, кажется, разобралась. А когда разобралась, то оказалась перед человеком с очень проницательными глазами, который выступает «посредником» между нами и Тем Высшим и Вечным, думая о котором мы зачатую воздеваем голову в эту небесную синь… И рассказала ему эту историю, давясь комком в горле. И услышала, почти шепотом произнесенные им слова: «Прости все мои согрешения, в ведении и неведении содеянные»…
Тогда же я повинилась (представляю, как удивятся мои знакомые коллеги-журналисты!) за свою профессию, выбранную по жизни. Парадоксально, но факт – вторая древнейшая поразительным образом вступает в противоречие с одним библейским постулатом (или даже спорит с ним?): «Не судите, да не судимы будете». Хотя всегда в том, что писала, я пыталась рассуждать, а не осуждать кого-то огульно… Но кто знает, как иной раз наше слово для кого-то отзывалось…
Я столько по жизни видела своих коллег – и мужчин, и женщин с исковерканными, поломанными судьбами… Мужичков, как правило, спившимися. А иных женщин-журналисток – такими несчастливыми, что несчастней может быть, разве что, немолодая уже актриса, которая так и не нашла в своей жизни режиссера, который снимал бы ее по жизни в своем кино или ставил под нее театральные постановки, где она – всегда Примадонна. Даже стареющая…
А когда некое количество примеров из жизни собратьев по перу переходит в некое качество, то поневоле начинаешь задумываться: почему так происходит? И закрадывается сомнение: а, может быть, отчасти и поэтому? Или – именно поэтому? Не знаю, не знаю…
Но если бы мне сегодня кто-то задал этот банальный вопрос: если начинать жизнь заново, то какую профессию я бы выбрала? Я, ни секунды не раздумывая, сказала: ту же самую. Потому что журналистика (и без всякого ложного пафоса) стала моим призванием. И, вообще, «писать – моя профессия». Мне, кажется, заниматься чем-то иным, к чему у тебя душа не лежит, это всё равно, что изо дня в день, ложиться в постель с нелюбимым мужчиной. А это всё равно значит – изменять себе… Зачем?
Думаю, что не открою Америку, если здесь, к слову, замечу: многие мои собратья по перу однажды приходят к этому. И, очевидно, я – не исключение. Просто однажды наступает день, когда тебе вдруг захочется писать не только очерки, корреспонденции и статьи. Тем более, что написано их предостаточно. Тебе захочется вдруг сотворить нечто иное – новеллу, повесть, например…
Когда-то очень-очень давно, мне было тогда от силы лет семь, я вдруг с гордостью «выдала» всем своим домашним: «А я буду писать книгу!» Но я сейчас уже не помню: сказала ли я, что буду писать книгу про всех нас, или просто книгу…
Наверное, это было столь необычно для всего нашего окружения тихой улицы Серпа и Молота и переулка с тем же названием, что кто-то из моих старших сестер (но точно не я, скромница), похвастался этим неординарным «событием» в нашей многолюдной детской компании, с которой мы играли в лапту и прочие игры… И один здоровый «лоб» – подросток-переросток, прославившийся тем, что всю округу оглашал своим диким «иго-го» ишака, какое-то время преследовал меня вопросом: а про что я пишу? И чтобы непременно дала ему почитать…
Но это была только моя тайна. Я доверяла ее ученической тетрадке в обложке салатового цвета (в клеточку или линейку?) Конечно, я не исписала даже этих 12-ти ученических листов…
Я рассказала о том, кто мои родители, сестры, бабушка, тетя… Написала, как ходила с папой в зоопарк. А еще, как родитель водил меня в поликлинику, когда мне в глаз попала соринка. И как этой совсем не соринкой, а, оказывается, «инородным телом», занимался потом доктор, возясь с моим глазом. И, конечно же, впервые услышав такое неожиданное для меня словосочетание – «инАродное тело», я его запомнила и прилежно зафиксировала в своей писательской тетрадке. И, конечно же, с орфографической ошибкой…
Написанное никто не должен был видеть. У меня был тайник. Между старинным немецким пианино «Dresden» и стенкой комнаты был небольшой зазор, где в самом низу, у плинтуса, отклеились обои. И вот под эти обои тоненькой ручкой я просовывала тоненькую школьную тетрадку, пряча ее от глаз домочадцев. Чтобы никто не догадался… Ну, о чем я могла тогда написать?
Откуда маленькой девочке было знать, что, по большому счету, книга нашей жизни пишется каждый день и – всю жизнь? Но пролетят несколько лет, и когда мне исполнится пятнадцать, я вновь выдам фразу, которая опять удивит и озадачит домочадцев: «А я буду журналисткой».
Хоть в нашем роду, никаких таких писателей-бумагомарателей отродясь не было…
* * *
– Что ж ты всё так долго сидишь над уроками? – сокрушалась мама. – Твои подружки уже давно на дворе гуляют. – И добавляла озабоченно, – может быть, ты медлительная? Или, вообще… медленно соображаешь?
– А, может быть, она – просто тупица, – тут же язвила сестра Валя, обыгрывая фамилию маминой мамы (девичья фамилия бабушки Ани была Тупицына).
– Я не тупица, – это отповедь сестрице.
– Я – не медлительная, мам, а просто – усидчивая. Вот сейчас закончу писать изложение и тоже пойду играть на улицу.
(Просто мне нравилось писать изложения и прочие сочинения в том возрасте. В отличие от математики и прочих геометрий, брр…)
А насчет «усидчивая» – как в воду глядела. Как будто знала о том, что часами потом придется просиживать за письменным столом, печатной машинкой или компьютером…
– И как ты сочиняешь свои статьи? – много лет спустя будут спрашивать меня тетя Валя и мама, с любопытством и удивлением заглядывая через мое плечо на стопку исписанной на столе бумаги.
– Легко! – отвечала я.
И этот ответ был абсолютно искренним. Потому что я занималась тем, что мне нравилось. Хотя я не знала тогда еще этих слов: «Заниматься надо тем, что дается тебе легче всего. Но делать это изо всех сил». Как, впрочем, не знала еще и высказывания британского коллеги Дэвида Рэндалла, который скажет, что «журналист – это самый трудолюбивый лентяй на свете».
Все мы – пишущие люди – очень разные. Я не раз слышала подобные жалобы от иных собратьев по перу, понимая, что всё это – неизбежные издержки нашей журналистской профессии. Некоторые из коллег говорили, что на них буквально нападает ступор, депресняк или паника, когда они сидят перед чистым листом бумаги и с ужасом понимают, что никак «не приходит» первая фраза. Или что вот сейчас им предстоит все эти чистые листы заполнить какими-то предложениями. Потом, это состояние у них, конечно, проходило. Как-то они себя перебарывали…
К счастью, мне эти муки неведомы. Однако, почти всегда, чтобы заставить себя сесть за написание чего-либо, требуется, образно выражаясь, чтобы некий «дятел» тихонечко клюнул меня в «темечко»…
«Надо садиться за работу», – обычно уговариваю я себя. Но день проходит, за ним – второй. Наступает третий. «Надо писать» – в приказном порядке говорю я себе. – Что-то я совсем разленилась».
Но продолжаю заниматься какими-то разными текущими, и даже неинтересными, делами. Нет, я не жду никакого крайнего срока, после которого уже нельзя будет откладывать ненаписанное. Я просто жду, когда вдруг почувствую то особое состояние, про которое когда-то поэт написал: «И пальцы просятся к перу – перо к бумаге»…
Независимо от того, пишешь ты это на бумаге, или листе, продернутом через каретку печатной машинки, или слегка мерцающем экране монитора…
И тогда надо только быстро ловить этот момент, потому что за полдня или день я могу сразу сделать то (тьфу-тьфу), чтобы делала бы в течение недели, но только понемногу, постепенно. Иной раз вдруг ловлю себя на мысли: да я же девять часов уже сегодня просидела за компьютером! И так увлеклась, что даже не заметила бы, если бы не устали глаза и спина.
Действительно, время летит незаметно, возможно, отчасти еще и потому, что привычку есть перед телевизором, я перенесла и на мой компьютерный «печатный станок». Поэтому перекусывать могу даже без отрыва от «производства»: пью крепкий чай с лимоном или кофе с молоком и бутербродами, грызу разные орешки и лакомлюсь любимыми цукатами и финиками…
А, вообще, всё, что связано со словом, для меня представляется загадкой, которую я, вряд ли, когда смогу до конца разгадать. Потому что… Вот он передо мной этот вордовский лист: такой белый, белый и абсолютно чистый. Вот сейчас я начну по буковкам набивать текст. И слова сольются в предложения, предложения – в некую словесную форму…
Я хочу написать новеллу или повесть, и у меня есть некая, очень приблизительная канва повествования. У меня в голове оформилась только первая, начальная фраза. До конца задуманного – сплошняком белые листы. И я не знаю, чем закончится мое повествованье…
Но я напишу первое предложение, затем – второе, третье и так далее… Потом с какого-то момента вдруг начну ощущать, что уже не я руковожу своими героями, а, словно, мои персонажи главенствуют надо мной, водя моей рукой, когда я стучу по клавишам. И я не знаю сама, куда меня моя рука заведет… Или персонажи? И мне самой становится вдруг интересно, а что же будет дальше, дальше? И я продолжаю стучать по клавишам…
* * *
Если бы меня сегодня спросили: помогало ли мне по жизни «быть обаятельной и привлекательной» или, наоборот, мешало? Поразмыслив, помолчав, вспомнив все свои «ума холодных наблюдений и сердца горестных замет»… Хорошо уже зная, «что могут женщины» и «что могут мужчины», я бы ответила: скорее, «нет», чем «да». Ну, или с большой натяжкой: пятьдесят на пятьдесят. И не покривила бы душой.
Всё-таки, мы живем в удивительной и диковатой стране, при всей ее удивительности. Где зачастую для определенных типов (я даже не могу называть их мужчинами) является нормой красивой незнакомке, встреченной на улице, бросить какое-то оскорбительное предложение. А для какой-нибудь тетки – вслед, или даже откровенно в лицо, обязательно сказать вам какую-нибудь гадость. Мне всегда не хватало цивилизованности нашего социума. Отсюда, возможно, возникало это чувство некой незащищенности.
Помню, как однажды, еще, будучи студенткой, днем ехала на очень длинном московском эскалаторе метро. За мною стоял мерзкий тип, который, поинтересовавшись, «сколько я стою» в денежном эквиваленте, и, не дождавшись ответа, стал предлагать мне сумму, в которую он меня «оценил»…
Я, сцепив зубы, постаралась оторваться от негодяя, всё время поднимаясь на несколько ступенек движущейся лестницы, но он меня преследовал. Когда эскалатор стал уже «подплывать» к вестибюлю, я процедила сквозь зубы: «А вот я тебя сейчас сдам милиционеру». (В то время к милиции еще можно было взывать о помощи).
Гнусный тип рванул вверх, обгоняя меня. В руках у него был зонт с металлическим острием, которым он мстительно ткнул мне в ногу, оставляя на ней синяк с кровоподтеком. Сам же быстро и трусливо растворился в московской толпе. Ну, и кому было предъявлять претензию за явно хулиганскую выходку, даже с легкими телесными повреждениями?
А однажды мне предстояло радостное мероприятие – встреча с однокурсниками. Нужно ли говорить, как я к этому готовилась. На мне было, конечно же, то черное облегающее платье (да, то самое, в духе Коко Шанель) с рукавом в три четверти, длиной до середины колена и не очень глубоким вырезом спереди, черные колготки, и абсолютно новые, из черной замши туфельки на высоченной шпильке, которая заканчивалась изящной металлической набойкой…
И опять эскалатор, невероятно длинный, московский… Был приятный майский вечер выходного дня. Людей на движущейся лестнице-чудеснице почти не было. Тем более, неожиданным оказался удар именно в новую туфельку, полученный от обладателя отнюдь не изящных тупоносых бутсов, который неожиданно возник за моей спиной.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































