Текст книги "Свет мой, зеркальце, скажи…"
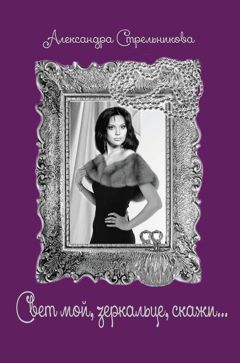
Автор книги: Александра Стрельникова
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц)
Я зашла в кабинет отдела информации, где я теперь числилась, и позвонила на означенный завод, договорившись на завтра о моем визите на данное предприятие и попросив, чтобы мне не забыли выписать пропуск.
Затем быстро пробежала несколько пролетов лестницы вниз с одиннадцатого этажа по «Комбинату печати», где я теперь работала и где находились редакции всех четырех харьковских газет и типография. Притормозила на восьмом: тут располагалась редакция молодежной газеты, и тут трудилась на «ниве журналистики» моя, более опытная по жизни подруга, коллега и просто – кареглазая красавица Тамара.
Как всегда, моя коллега умудрялась одновременно делать сразу несколько дел: писать статью, говорить по телефону, курить и пить остывающий кофе, заглядывая при этом еще в зеркальце пудреницы, поправляя прическу…
– Ну, и как тебе на новом месте? – полюбопытствовала она, кладя трубку на рычаг телефона и красиво затягиваясь сигаретой в длинном изящном мундштуке.
– Да что меня может ждать в областной партийной газете, если я – «не член ВКП (б) с 1905 года»? – невесело пошутила я. – И никогда им не стала бы, даже, если бы мне предложили…
– И не предложат. Тебе, дружок, не предложат, можешь не сомневаться, – усмехнулась Тамара. – Мы все – «не члены ВКП(б) с 1905 года»: и я, и ты, и наша подруга Инночка. Поэтому мы все имеем то, что имеем… – И тем не менее, надо работать. И делать свое дело достойно, даже в предлагаемых обстоятельствах, – подытожила Тамара.
Я согласно кивнула, понимая, что никакого отношения к пафосу ее слова не имеют. Они выстраданы и подкреплены жизнью. И именно тем самым «делом ее жизни», благодаря которому она – талантливая и известная журналистка, лауреат республиканской премии «Золотое перо» независимо от того, какие идеологические времена на дворе…
Коллега пристально посмотрела на меня и спросила:
– А ты какая-то подавленная, или мне показалось?
– Возможно, – вздохнула я. – Всё никак не могу еще отойти от той истории на Сумской. Не понимаю, почему это должно было случиться именно со мной…
Тамара выдохнула сигаретный дым, допила остывший совсем кофе, выдерживая паузу.
– Это жизнь, детка. И в ней случается всякое. И никто не будет подстилать коврик там, где нам суждено споткнуться. И уж тем более, никто не будет персонально усыпать это место лепестками роз… Ты не банальна, слишком не банальна, – сказала она в задумчивости, – значит, должна понимать…
– Значит, должна понимать, что всё случилось из-за моей «слишком небанальности», по твоему выражению? – перебила я подругу на полуслове.
– А чему ты удивляешься? – большие карие глаза посмотрели на меня с ироничным прищуром, – я же неоднократно тебе говорила, что ты – вамп…
– Ой, умоляю тебя, прекрати, – обиженно сказала я. – Какая же я – вамп? Очевидно, у меня просто обманчивая внешность. И ты это прекрасно знаешь…
– Ну, положим, я знаю то, чего не могут знать другие. Но для этих других, ты – всё равно будешь вамп. Откуда им знать, что у тебя обманчивая внешность? – веселые искры посыпались из Тамариных насмешливых глаз, – пусть ты и маленькая, но всё равно – вамп, – повторила она.
– Ну, уж нет. Это ты у нас – настоящая вамп, – сказала я.
– Так я ж не отрицаю, что это так. Да пойми ты, наконец: лучше быть женщиной-вамп в этой жизни, чем серой мышкой или бесцветной молью. Учу тебя, учу жизни, и всё без толку…
За вечной игрой Тамариных слов я не всегда могла понять, когда моя коллега шутит, а когда говорит серьезно.
– Короче, хватит грустить, детка. Иди работай. И не забудь принести мне свой новый опус…
Моя Тамара была права: работа – это, несомненно, лучшее лекарство от хандры. Разумеется, если это – любимая работа. Но у меня так и было. Ну, а что до нового руководства, которое мне так не глянулось… Я умела разделять эти понятия. Как говорится: «мухи – отдельно, котлеты – отдельно».
* * *
На следующий день я отправилась на завод, где изготовляли зеркала.
…Пожилой мастер водил меня по цеху и весьма старательно делился секретами данного производства: от самого начала цикла до его завершения. Помнится, я поинтересовалась у него тогда, а как он сам лично относится к расхожему мнению о разбитом зеркале.
– Пожалуй, эта примета в нашем случае утратила свою актуальность, – пожилой мужчина добродушно развел руками и улыбнулся, кивнув по сторонам на мелкие отходы производства.
Всюду: на столах и под ногами валялись небольшие осколки и обычного, и уже посеребренного стекла. И там, где на эти отходы падали солнечные лучи из окон, они переливались радужными брызгами…
Я поблагодарила мастера за ознакомительный экскурс и отправилась в кабинет главного инженера, чтобы узнать теперь об успехах предприятия, планах на будущее и всё в таком духе.
Это была совсем небольшая, какая-то даже тесноватая комнатка (так почему-то врезалось в мою память).
С молодым главным инженером: на вид ему было года тридцать два, я разговаривала совсем не долго. И уже начала прощаться, когда он вдруг озадачил меня вопросом, поинтересовавшись: а где я еще работала, помимо того издания, который на данный момент представляла.
Я назвала контору на Сумской, будучи абсолютно уверенной, что для человека, не посвященного в журналистские дела, это специфическое название ни о чем не скажет.
– Вы работали в ТАСС-РАТАУ? – неожиданно для меня переспросил он.
– Да, – ответила не без удивления корреспондентка.
– Тогда, тогда… наверное, вы должны быть в курсе той истории, которая там произошла? – сказал он вдруг, подавшись вперед, но произнес эти слова тихо и осторожно, пытливо заглядывая мне в глаза.
Я вздрогнула. Вздрогнула от мгновенно пронзившей меня мысли: да, ведь, вот он передо мною – тот мужчина, замешанный в «шекспировской» драме с рапирой, разыгравшейся в семье начальника местного отделения «ТАСС»…
«Главный инженер какого-то завода» – вспомнились слова наших рассерженных дам, приходивших обедать в «редакторскую» и сыпавших на голову этого человека свои проклятья.
И именно этот человек был сейчас предо мною.
По моему смятению, которое я не смогла скрыть, мужчина понял, что я не только знаю ту историю, но и что поняла, кто он…
– Поверьте мне, всё было не так, совсем не так… как это потом пытались представить на суде, – с запальчивостью сказал он.
И было ясно, что драма, случившаяся более трех лет назад, не отпускает его и сейчас…
– Видите ли, всё это произошло немного раньше, еще до моего прихода туда на работу, – сказала я в задумчивости, ошарашенная такой неожиданностью и, понимая, что морально абсолютно не готова сейчас к исповеди человека, которому хотелось, очевидно, просто выговориться.
Мужчина тактично замолчал.
Мое журналистское задание было выполнено. А то, что оказалось вдруг «за кадром» моего визита, ошарашивало, как снег, свалившийся на голову.
(Сколько потом по жизни случалось еще ситуаций, когда журналистский блокнот был уже захлопнут, а интервьюируемый, исповедуясь, всё рассказывал и рассказывал истории из своей жизни явно не «для печати». И я терпеливо слушала. Это, без сомнения, давало знание чужого жизненного опыта. Знание, которое, увы, не всегда окрыляло и обнадеживало.
Напротив, порою от такой откровенности наваливались тяжесть и усталость. Ведь журналист – не духовник, а обычный человек. Просто, всё это, очевидно – неизбежные издержки профессии. Как, впрочем, и умение сбрасывать с себя чужой «негатив», что я не всегда умела делать и чему нужно было еще учиться по жизни).
Даже и сегодня не знаю, нужно ли было мне тогда задержаться и выслушать исповедь того человека…
У каждого в той страшной истории была своя правда. А уж какую формулировку предпочел суд: «по неосторожности», «несчастный случай»… Ну, уж явно не «преднамеренное»… Женщину, жену, мать было не вернуть. А живым надо было жить. Жалко было дедушек и бабушек с обеих сторон. Особенно жалко – малолетних детей, отец которых должен был пребывать за решеткой. И, очевидно, что максимальный срок наказания ударял бы по всем невольным участникам той истории, вместе взятым. Суд должен быть учитывать и это…
А тогда… Тогда я попрощалась с главным инженером, сказав, в каком номере газеты можно будет прочитать репортаж. Выйдя на улицу и вдохнув морозного воздуха, я ощутила в душе тяжесть. «Вот тебе и легкий репортажик»! – невольно обожгла мысль.
«Вот я сейчас уйду и через несколько дней забуду обо всем, а ему жить с этим теперь всю жизнь», – вздохнула я, думая о мужчине с напряженно-встревоженными глазами, которому в этой истории отводилась роль героя-любовника.
Мне вдруг на какой-то миг даже представилось, как человек по долгу службы каждый день имевший отношение к зеркалам, однажды, отразился в одном из них, словно, в зеркале своей судьбы. И отражающая поверхность просто не смогла вынести такой тяжести, лопнув и рассыпавшись на множество мельчайших осколков, осыпав и его самого, и всех участников, имевших отношение к той страшной истории… Только никакого отношения эти осколки не имели к тем радужным брызгам, освещенным солнцем и рассыпанным по всему цеху, когда по нему меня водил словоохотливый мастер завода зеркал.
(Никого не осуждала и не оправдывала в той истории ни тогда, ни сейчас. Как говорится, не судите – да не судимы будете. Жизнь порой озадачивает такими своими закавыками).
… Я поежилась от холодного встречного ветра. Нет, конечно, я понимала, что мир тесен даже в двухмиллионном городе, но не до такой же степени.
Странно всё же получалось: мое самое первое редакционное задание на новом месте почему-то так мгновенно и так неожиданно снова отбрасывало меня назад – на улицу Сумскую, где вся эта страшная история произошла. И где своя печальная история случилась также и со мной… Вовсе не подозревающей еще тогда о том, что отныне это место каким непонятным, мистическим образом, будет периодически по жизни напоминать мне о своем существовании.
Иногда мы вспоминаем прошлое. Мысленно бродя по лабиринтам своей памяти и возвращаясь туда, где нам было хорошо и приятно. Это так естественно. Но что делать, когда, помимо нашей воли и желания, жизнь упорно напоминает о тех местах и моментах, где в душевном плане мы чувствовали себя не очень комфортно?
«За нами следуют тени – эти странные слуги времени, эти верные стражи времени», – слышу я сегодня голос популярного тенора, поющего эти слова под вечно живую и невообразимо прекрасную мелодию «Адажио» Альбинони. Но кто мне ответит: а зачем они следуют за нами, эти тени, и почему?
* * *
Старый новый год мы отмечали всегда. Это была не только дань традиции. Для нашей семьи это был еще и двойной праздник: 13 января у мамы был день рождения.
Всё было скромно, но, как всегда, вкусно и уютно в тесном домашнем кругу. На столе: обязательно коронное блюдо – сибирские пельмени, слепленные вручную мамой и ее родной сестрой. Для нас – тетей Валей (доброй душой, которая нянчила когда-то нас, а потом помогала нянчить всем нам троим еще и наших детей).
…Всевозможные соленья и консервация из домашнего погреба, селедочка с картошечкой (как же без них)? Мамины пирожки, холодец. А из выпивки – вишневая наливка, специалистом в приготовлении которой в нашем доме считалась только я. На столе также было еще мамино яблочное вино, изготовленное по особому рецепту: яблочный сок долго бродил в большой бутыли с опущенной туда трубкой. Вино было необыкновенно прозрачным, чуть розоватым на цвет, не сильно крепким и невозможно нежным на вкус. Особую, терпкую ноту, ему придавала «райка» – райские яблочки из нашего сада… В общем, всё было вкусное, домашнее и натуральное, а потому – полезное. Без всякой химии и консервантов.
Конечно, никто не дожидался двенадцати часов и боя курантов. Когда в доме маленькие дети, все поневоле ложатся раньше спать, подстраиваясь под их режим.
Мне же почему-то долго не спалось в тот вечер, хотя время приближалось к полуночи. Я тихонько прошла на кухню, налила в чашку вкусного яблочного компоту из трехлитровой банки домашней консервации. И тут меня кольнуло: как же я забыла! Под старый новый год, как впрочем, под Рождество и Крещенье я всегда с сестрами раньше загадывала желания…
Но в сегодняшней личной жизни сестер, в отличие от меня, была уже определенность. И, скорее, отдавая дань традиции, чем из любопытства, я взяла чистый стакан, наполнила его водой и опустила туда колечко. Нужно было еше произнести вслух слова о суженом, который, вроде, должен был явиться моему взору. (А мог и не явиться).
Помнится, я проговорила эти слова мысленно, «про себя». Когда рябь от брошенного в стакан предмета успокоилась, и поверхность воды стала совсем гладкой, я заглянула в маленькое пространство, очерченное колечком. Смотреть нужно было именно в этот кружок. К своему удивлению, я почти сразу и весьма отчетливо увидела лицо молодого человека. Оно было приветливым, даже с улыбкой… Невероятно, но в долю секунд я успела рассмотреть и его светлые волнистые волосы, и то, что человек был светлоглазым…Нечто фантастическое, конечно. Но еще более сразило меня совершенно иное: было абсолютно очевидно, что я откуда уже знала этого человека…
Да, да. Мелькнувший лик мне был знаком. Наши пути уже пересекались. Но где, когда? Вот это была загадка, которую я не могла разгадать. И никак не могла вспомнить, где же я встречалась с ним раньше…
Напрасно вглядывалась я в случайно попадавшиеся мне мужские лица. Никого похожего я не встретила. А потом в моей душе всегда жила некая уверенность (интуитивная, очевидно), что ОН не придет ко мне с соседней улицы, и я не встречу ЕГО в большом многоэтажном «редакционном доме», именуемом Комбинатом печати, или беря интервью. ОН приедет ко мне откуда-то издалека, обязательно издалека… Так я чувствовала. И это правда.
Но… Подумаешь – гаданье. Подумаешь – загадка. Сколько об этом можно было думать или помнить? Два-три дня? Даже не серьезно как-то. Старый новый год прошел. Других забот, что ли, не было в моей жизни? И я забыла об этом, конечно. Напрочь забыла…
Что, впрочем, совсем не удивительно. На новом месте нужно было работать, а не грустить.
Я трудилась в отделе информации, где числилось двое молодых мужчин и еще одна мадам – моя ровесница и тоже выпускница факультета журналистики МГУ. Но мы с ней учились на разных отделениях, поэтому не были ранее знакомы. И с первых дней моего появления здесь для меня стало очевидным, что наша общая «альма-матер» нас с ней никак не объединит. Слишком разные мы были.
Ей почему-то периодически хотелось разыгрывать из себя то «тургеневскую девушку», то великосветскую даму. Всё это было ей жутко неорганично. А потому выглядело нелепым и смешным. Я же, вообще, не понимала такой неестественности: а зачем нужно кого-то из себя изображать? Почему нельзя быть просто самой собой?
Да, и если говорить о нашем отделе, вообще, то его я никак не могла бы назвать сплоченным коллективом энергичных и молодых сотрудников. Призванные, вроде, делать одно общее дело, мы были, как персонажи из произведения известного баснописца – «лебедь», «рак» и «щука». Но поскольку, нас было четверо, то под четвертым (разумеется, негласным номером) у меня значилась «гусыня» – уже упомянутая мадам. Так я ее «про себя» называла.
Если честно, я поначалу даже где-то ее жалела: всё же двое детей дошкольного возраста. Я понимала, как это хлопотно и ответственно, сколько отбирает сил. Дети неизбежно болели, сотрудница часто отсутствовала из-за этого на рабочем месте. А когда появлялась, то выглядела замотанной и раздраженной, как мне казалось, на весь белый свет. И была зла, как осенняя оса. А раз оса – то надо было кого-то жалить.
Я ее жутко раздражала. По-моему, просто фактом своего существования. Когда я появлялась в нашем отделе (и не каждый день, и не с утра, потому что мне, ведь, не платили зарплату) и приносила очередную новую статью, она взяла за правило произносить одну и ту же странную и гадливенькую фразу: «У нас почему-то пахнет клопами…»
Между прочим, негромко так проговаривала, но постоянно при моем появлении…
Я всегда приходила в редакцию и на встречу с разными людьми в полной «экипировке»: от опрятно уложенных волос, благоухающая всякими парфюмами, начиная от дезодорантов и заканчивая ароматами духов и прочих эфирных масел. И не только потому, что журналист – профессия публичная. Просто всё это было и остается так органично для моего женского естества…
И тут вдруг какие-то вонючие клопы… Но я была девушка неглупая, поэтому понимала, что надо выдержать паузу, чтобы расставить все акценты по своим местам. И однажды, когда в отделе было много народу, и опять прозвучала знакомая гадливенькая фраза, я лишь небрежно заметила: «Странно, вы так часто говорите об этих насекомых. А я вот ни малейшего понятия не имею, как пахнут клопы, потому что я их никогда в жизни не видела»…
Мадам позеленела от злости. Но с клопами раз и навсегда было покончено. И навсегда мы с ней остались на «вы».
И я тогда сразу подумала, что надо присмотреть, на всякий случай, еще «запасной» вариант редакционного отдела, куда бы я тоже могла бы предлагать свои газетные темы и идеи, которых у меня было предостаточно. Такой отдел был быстро найден – отдел писем, где я тоже стала сразу активно печататься.
Вот парадокс: пока я работала на Сумской и предлагала свои опусы в отдел информации, которые потом со знаком «плюс» отмечались на редакционных «летучках», я была для них просто автором, в котором эти молодые журналисты очень были заинтересованы, потому что этот «плюс» шел в зачет их отдела. Став сотрудником редакции, я ведь не стала писать хуже. И поначалу мои материалы также отмечались на «летучках». А потом – какая-то странная тишина воцарилась вокруг них. А потом – даже, вроде, как появились некоторые «критиканты».
Обо всем этом я стала узнавать от ответственного секретаря – Аркадия, так как я не обязана была ходить на эти редакционные собрания. Тогда же откуда-то появилось и словечко-приставка к моей фамилии «эта». «Эта имярек»…
Какой смысл кто-то вкладывал в данное определение? Пренебрежения в нем, точно, не было. Скорее, настороженное неприятие. «Эта» – обозначало некую, особую метку чужеродности. То ли – «белая кость», то ли «не нашенская»…А всё одно – «не простая», «чужая». Короче, не нашего поля ягода…
– Ну, критика должна быть, как двигатель прогресса, – улыбнулась я ответственному секретарю, – пусть критикуют…
– Критика должна быть объективной, а не заказной, когда «кто-то» дружит против «кого-то»…
– Да кому я дорогу могла перейти? – в свою очередь удивилась корреспондент. – Сижу на одном гонораре, как на сухом пайке…
– Вас в отделе четверо, – сказал Аркадий. – И вы пашете, как молодая лошадка, публикуясь чуть ли не в каждом номере. На этом фоне трое остальных, которые получают зарплату, и к тому же – тоже молодых журналистов, как-то лениво стали выглядеть.
Я развела руками.
– Что же мне теперь делать?
– Работать. И помнить, что в обиду я вас никому не дам. Знаете, что я сказал всем этим критиканам?
– Что же? – не без удивления поинтересовалась я.
– Что они так никогда не смогут написать, потому что они и слов таких не знают… какие знаете вы.
– Да что вы, – благодарно удивилась я такой неожиданной похвале и стойкой защите, – буду стараться дальше…
Я вдруг вспомнила себя совсем юной, неопытной журналисткой, когда только еще начинала взахлеб зачитываться статьями своей Тамары. Помнится, я ей сказала тогда однажды: «Я никогда так не смогу написать. Я и слов таких не знаю…»
И вот теперь, так неожиданно, журналист, которого я уважала, профессионал, защищая меня, на редакционной «летучке», оказывается, произнес те же самые слова в мой адрес…
Не скрою: мне было очень приятно. Да и, вообще, как тут не вспомнить о «добром слове, которое и кошке приятно». Добром слове, сказанном вовремя и в качестве поддержки, и таком необходимом в любой творческой профессии.
«Однако, – подумала я, в тоже время не без грусти, – однако, не всё так гладко в датском королевстве. – Это кому же я жить так мешаю?»
И я вновь ощутила удушливую волну, а с нею – одновременно мечту о глотке кислорода, который ассоциировался у меня с личной свободой. А ее, эту свободу, по моим тогдашним ощущениям могла дать только работа собственного корреспондента в той газете, которую я себе наметила.
«Я не знаю, как это сделаю, – размышляла я, опять направляясь пешком по Московскому проспекту домой, – как перепрыгну через обком партии, не будучи, к тому же, «членом ВКП (б) с 1905 года», но я это сделаю. Иначе – я просто задохнусь в этом болоте».
Наверное, это будет забавно, возможно, даже смешно сегодня: когда я представляла себя собственным корреспондентом той газеты, мне виделся всегда один и тот же конкретный образ. Я представляла, как приду в такой экипировке в театр, на какое-то значимое культурное мероприятие моего города, пресс-конференцию…
Я представляла себя одетой непременно в элегантное черное, облегающее фигуру платье «в духе» Коко Шанель, с неглубоким вырезом на груди, в три четверти рукавом и длиною до середины колена. На мне обязательно должны быть одеты черные колготки и шпильки на очень высоком каблуке. А еще – на плечи должна быть наброшена горжетка из чернобурки или крашеного черного песца… Горжетка должна была присутствовать обязательно.
Этот образ так шел вразрез с типажом преуспевающей партийной дамы, закованной в серый скромный, с неизменным белым воротничком костюмчик, который я так ненавидела и который никогда бы не смогла на себя примерить даже в мыслях.
Моя внутренняя свобода предполагала и иное внешнее выражение. Именно такое, какое рисовало мое воображение. И каким мне виделось то, как должна выглядеть собственный корреспондент центральной газеты. Конечно, это был протест. Протест против всего серого, рутинного и идеологического. Это было время, когда надо было доказывать, что «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей», как давно когда-то сказал поэт. Кому-то сегодня, возможно, всё это трудно не то что понять, но даже – представить…
Кстати, о сером. Одежды серого цвета у меня не было ни тогда, ни сейчас – даже перчаток. И хотя в дизайнерском искусстве этот цвет считается одним из классических, я и сейчас верна своей нелюбви к нему. Ну, ничего не могу с собой поделать. Не выношу ничего серого. И сейчас, и тогда мои любимые оттенки – бирюзовый, голубой, салатовый (что так естественно, ведь я же по гороскопу Рыбка). И, вообще, по жизни люблю яркие и теплые тона – красный, малиновый, розовый, яркую сирень…
А тогда… Тогда мне надо было много работать. И здесь, на новом месте, не взирая на чьи-то интриги. И на свою мечту.
Я поставила себе целью, чтобы короткие информашки в 20–30 строк обязательно появлялись в каждом (или почти каждом номере той газеты, издававшейся в Москве). А какая-нибудь статья или расширенная корреспонденция – не реже раза в месяц. Это было необходимо, чтобы мой город у читателей ассоциировался именно с моей фамилией (а еще лучше, чтобы она буквально примелькалась).
Но был нюанс – ведь не всякая информация городского или областного масштаба подходит под общесоюзный формат. Но я не стала сильно заморачиваться по этому поводу. Ведь за моими плечами уже была трехгодичная «тассовская школа», которая в профессиональном плане дала мне немало. Я умела свои, опубликованные в местной прессе опусы величиною в 200–250 строк, ужать до…30 строчек, придумывая, в зависимости от обстоятельств, то информационный повод, то броский заголовок или необходимую фразу обобщения, благодаря которым события «местного разлива» могли интересно прозвучать и во всесоюзном масштабе.
Мои старания не остались незамеченными. Очень скоро фотокорреспондент «вечерки», каждый раз встречаясь со мной в огромной и неуютной столовой нашего «Комбината печати», стал упорно называть меня только «девушкой с Новослободской улицы» (по адресу этой улицы находилось та, издающаяся в столице газета, с которой я так активно сотрудничала). И предлагать, в случае чего, свои услуги фотографа. За что я ему была весьма признательна.
С фотокорреспондентами я всегда дружила и очень уважала их работу. Ведь я была сугубо «пишущей», а в нашем журналистском деле очень часто нужны и «снимающие» корреспонденты. Куда же без них. Не случайно ведь, говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
А вскоре московские коллеги из той центральной газеты переслали мне письмо, написанное в их редакцию, но адресованное лично мне. Как оказалось, две любознательные читательницы того всесоюзного издания, проживающие в подмосковном Сергиевом Посаде, проявили неожиданный интерес к моей персоне. Они писали, что привлекла их изначально не только моя фамилия (мы оказались однофамильцами), но, и, вообще, мои публикации. И просто рассказывали о себе, о своей жизни и просили также меня что-нибудь немного рассказать о себе… (В те времена, вообще, читатели очень часто писали доверительные письма в редакции газет).
Не скрою, я была приятно удивлена и тронута тем письмом. И конечно же, этим двум любознательным и уже немолодым женщинам – родным сестрам, одна из которых была школьным учителем, а другая – инженерным работником, я написала приватное письмо в Подмосковье, где попыталась ответить на интересующие их вопросы…
«Значит, читают, – размышляла я про себя. – Значит, «просматривает» и мое нынешнее нелицеприятное руководство, и те, кому это положено делать «по долгу службы» в том главном казенном партийном доме, расположенном на главной площади моего города. Ну, что ж, пусть и они привыкают к тому, что моя фамилия мелькает не только на страницах местной прессы»…
Помню, было уж начало лета. Однажды, когда я находилась в редакции, раздался телефонный звонок. Меня приглашал зайти в свой кабинет заместитель редактора.
«Опять, наверное, какой-нибудь темой меня хочет загрузить», – подумала я, зевнув от серой скуки и спускаясь с одиннадцатого этажа на десятый.
Почему-то этому человеку казалось, что он предлагает мне очень интересные темы, с которыми не смогут справиться другие журналисты (как бы особый знак доверия и уважения к моей персоне от начальства).
То он меня направлял пообщаться со своим знакомым-юристом, который вдруг решил выставить иск государству (что по тем временам было довольно необычно, но сам интервьюируемый произвел на меня странноватое впечатление своим сутяжничеством). И поэтому писать я ничего не стала. То предлагал еще, как ему казалось, какое-то особо интересное письмо, присланное в редакцию и взятое им под свой личный контроль. А проверить это письмо читателя газеты должна была именно я…
Причем, он всегда добавлял при этом, что и сам бы не прочь заняться данным вопросом, да вот весьма загружен своими служебными обязанностями…
(Здесь никак не могу без иронии не вспомнить, что заместитель редактора публиковался крайне редко. Его фамилия всегда появлялась на первой полосе газеты лишь под скучно-идеологическим отчетом с какой-нибудь областной или городской партийной конференции).
Я «надела» себе на лицо маску «вежливо-деловой озабоченности», пока шла по лестнице и длинному широкому коридору.
Надо сказать, что в моем журналистском «арсенале» было немало таких лицедейских приемчиков (куда ж без них?) Своего рода – обратная сторона моей коммуникабельности. Общаясь с разными людьми, я удивительно быстро умела подстраиваться на «нужную волну» интервьюируемых, как бы чувствуя, в каком качестве они меня лучше воспринимают. В профессиональном плане это было просто необходимо, чтобы незнакомый человек максимально раскрылся.
Если я чувствовала, что кому-то хотелось, чтобы я выглядела, как строгая учительница, я была ею… А кто-то мыслил меня весьма солидной дамой с богатым жизненным опытом, не могла же я человека разочаровать… А иногда в жизни случались ситуации, когда какой-то человек считал молодую корреспондентку явно глупее, чем она была на самом деле. Ну, как же было тут не «подыграть» своему собеседнику? Тогда я «напяливала» на себя маску «наива» или даже – «откровенной тупости»… Это было сродни актерской игре, такой естественной для меня.
(Возможно, этой свободе перевоплощаться я научилась еще в детстве, перебарывая робость и выходя на сцену большого киноконцертного зала Дворца культуры харьковского электромеханического завода, куда я школьницей бегала заниматься в драматический кружок, по-девчоночьи мечтая стать, конечно же – актрисой).
Однако, маски – это маски. Какими бы они ни были, одно всегда оставалось неизменным – главный действующий персонаж, который скрывался под ними. Он-то был неизменен – со своими сложившимися взглядами, принципами и установками в этой жизни. Иначе я бы уподобилась хамелеону. А им я никогда не была…
Я всегда стремилась к гармонии внешнего и внутреннего в себе. И находила ее в некой, особой интонации своего существования, своего «звучания», что ли. И в жизни, и в профессии. Это трудно объяснить. Наверное, практически невозможно. Иногда, проснувшись, человек может вдруг услышать некую мелодию, звучащую в нем, и прожить с этим ощущением целый день. Мелодия может быть радостной, грустной, маняще-интригующей и куда-то зовущей… Ведь даже, когда я писала какую– то статью, выкладываясь на полную катушку, в конце работы я всегда начинала что-то мурлыкать себе под нос…
Это могла быть реально существующая уже песенка или нечто, родившееся во мне, как симбиоз умственных усилий и души… Но я всегда знала: если зазвучала во мне эта мелодия в конце праведных трудов, значит, материал получился, и я честно сделала всё, что могла. Перед собою, а значит, и перед читателями. Это, действительно, трудно объяснить. Но так было, и так остается и сейчас.
(Более того, признаюсь, что сегодня я могу сознательно выбрать мелодию, под которую буду работать. То есть, пишу под музыку, чем удивляю некоторых. И музыка не только не мешает или отвлекает, а она задает, как мне кажется, единственно правильную ноту повествования. Только сегодня я слышу эту мелодию в самом начале творческого процесса, а тогда – в конце. Но всё равно слышала)…
Да, так я говорила о масках лицедея. Впрочем, о них и их применении по жизни можно сказать и так: это был еще и своеобразный щит или даже – панцирь, защищающий мою индивидуальность от такой, часто негармоничной и озадачивающей жизни.
…Я зашла в кабинет заместителя редактора.
– Наверное, опять какую-то интересную тему хотите мне предложить? – вежливо поинтересовалась корреспондент, поздоровавшись с начальственным лицом.
– Да.
И я тут же нацепила на себя маску, выражающую «абсолютное внимание».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































