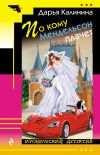Текст книги "Цирк"

Автор книги: Анастасия Носова
Жанр: Городское фэнтези, Фэнтези
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Глава 18
Дедушка
Январь **** года
Саратов, Цирк имени братьев Никитиных
Небо над цирком сияло, как будто неумелые маляры раскрасили его киноварью. Солнце мелькало в тучах, роняло блики на купол цирка. Оля шла через площадь, плыла сквозь толпу укутанных в тулупы людей. Некоторые мужчины поправляли на голове ушанки, женщины закапывались в шерстяные платки. Она опустила голову, не сбавляя шаг, увидела белые валенки (они явно были ей велики) и нечаянно толкнула плечом высокого человека в шинели. Оля успела разглядеть у него на рукаве значок – золотые колосья обнимали алый герб, на котором сияли в лучах солнца скрещенные серп и молот. Мужчина даже не заметил Олю.
– Простите, извините, – пробормотала она, выставляя ладони перед грудью, точно защищаясь, но мужчина разговаривал с тетенькой и девочкой, которую тетенька держала за руку. Он наклонился к девочке, сложив руки за спиной, и что-то шептал ей, а тетенька смотрела на них и смеялась.
Оля обернулась, двери цирка были открыты, звали, манили, заставляли сделать еще один шаг и еще один… Оля подняла взгляд на купол. Солнечный блик ослепил ее, и в ушах вспыхнул чей-то голос, крик о помощи – кричал коренастый мужчина в смешной жилетке с лацканами, а рядом с ним, схватившись за голову, замер другой, статный человек в сверкающем мундире иллюзиониста и в черном цилиндре – они стояли на самой вершине купола и даже не думали падать. Оля почувствовала, как ветер бьет ее по спине. Как будто падала она.
– Лови ее, Паша, едрить твою коня!
Крик смолк, как только Оля отвела глаза от купола. Видение пропало. В цирке Оле в нос ударил знакомый запах навоза и животных. Она принюхалась и недовольно шмыгнула: в гардеробной и коридорах обычно не бывало такого удушающего запаха. За животными убирали сразу. Оля разглядывала стены цирка, и они показались ей новее – стыки между мраморными плитами не успели напитаться желтизной от времени, деревянные столешницы в гардеробе еще не растрескались, а лак на них не рябил царапинами. Оля пробежала через фойе и дернула на себя дверь служебного входа.
Манеж тонул в полумраке, не светили ни лампы, ни прожекторы, сквозь маленькое окошко под куполом (Оля могла поклясться, что его раньше не было!) в манеж проникал луч солнца, протискивался сквозь мрак и замирал на красном ковре солнечным зайчиком. Оля перепрыгнула через бортик арены, остановилась в самом центре манежа, прищурилась и стала подкрадываться к форгангу. Ей показалось, что бархат всколыхнулся и снова опал. В манеже иногда гулял ветер, и Оля, оглянувшись на пустынный и словно бы заброшенный цирк, решила, что виновником ее страха был именно сквозняк.
– Как ты думаешь, почему ты здесь одна?
Голос ударил в спину, сбил Олю с ног, она знала эти тон и тембр, хотя голос звучал звонче, как будто его обладательнице раньше, когда Оля ее слышала, было много лет, а теперь вдруг стало меньше. Оля повернулась к форгангу и увидела грустного клоуна. Он держал за руку маленькую девочку в смешных длинных чулках, натянутых прямо поверх панталон. Платья на девочке не было, зато была длинная накидка с завязками. Помпоны на завязках прыгали сами по себе, и Оля улыбнулась, когда красный помпон налетел на белый и пронзительно запищал.
– Тщ-щ-щ! – Девочка опустила голову и зашипела на помпоны, те грустно повисли на своих ниточках и больше не подпрыгивали.
– Я не думаю, что я одна, – Оля отвечала, улыбаясь. Ее больше не пугал ни опустевший цирк, ни голос.
– Хм. – Девочка склонила голову к плечу. – Я хочу тебя кое с кем познакомить.
Грустный клоун медленно кивнул, снял свой миниатюрный берет, тоже увенчанный помпоном, только зеленым, и потряс его над ковром. Оттуда кубарем выкатилась черная кошка, с громким «мяв!» прокатилась по ковру, зашипела и, выпустив когти на всех четырех лапах, рванула к выходу.
Клоун рассмеялся, и Оле стало от этого смеха не по себе: ей показалось, будто черная кошка вцепилась когтями в ее горло и не отпускала, пока смеялся клоун. Он потряс берет еще раз, и из него вывалилось черное облачко, оно растеклось по ковру, а потом свернулось, как ежик, который чует опасность в огороде у бабушки, и пружиной рвануло прочь из манежа.
– Помнишь, я показывала тебе фотографии? – Девочка шагнула вперед и дернула Олю за рукав.
Оля неуверенно кивнула. Она вспомнила, где слышала этот голос. Перед глазами промелькнули деревня в Камышине, сугробы, Арина Петровна и комната, вся обложенная коврами, во рту появился гнилостный привкус чая, и Оля увидела тетю Эллу, которая шлепнула перед ней на стол пачку фотографий. Поверх всех лежала фотография клоуна, который стоял сейчас перед ней. Даже берет, полосатый, несуразный, который был ему мал, и такие же в полоску носки совпадали. «Это твой дед», – вот что сказала тогда Арина Петровна.
«Тетя?» – хотела спросить Оля и не спросила. Вместо этого она задала другой вопрос:
– Дедушка? Где мы?
– Там, где встречаются все те, кого нельзя встретить в реальной жизни, – объяснила тетя Элла. – Мы в темноте.
Клоун кивнул. И снова потряс берет. На ковер посыпались те самые фотографии из семейного альбома тети Эллы. Оля углядела свадебный кадр, на котором молодая Арина Петровна и незнакомый мужчина (отдаленно напоминающий грустного клоуна, но без полосатых носков и беретика) смеются, подбрасывая свадебный букет в воздух. Она никогда не видела, чтобы бабушка так смеялась. Оля засмотрелась на фотографии и не заметила, как из берета на ковер манежа опустился зеленый мохеровый шарф. Мамин. Шарф вспорхнул растрепанной птицей, пролетел над залом, раздался крик волжской чайки, и шарф опустился Оле на шею.
– Его еще твоя бабушка носила, – дедушка подошел к ней и завязал из шарфа толстый узел. – Потом, наверное, мама его сохранила. Шарф этот мой, привез с гастролей из Индии, заходил к ней, но не смог в глаза посмотреть, шарф на крыльце оставил. Это все, что у твоей бабушки от меня осталось. Не теряй его.
Оля моргнула и замотала головой, цирк поплыл перед глазами, а когда шаткий мир снова превратился в ясную картинку и все поехавшие кирпичики сложились в правильный пазл, клоун и тетя Элла уже уходили к форгангу. Клоун обернулся и помахал ей открытой ладонью.
– Оля, – услышала она голос дедушки. – Не играй со своим даром, даже если тебе будут предлагать все ценности и богатства мира. Или он сыграет с тобой.
Качнулся форганг, и клоун вместе с маленькой тетей Эллой скрылись за кулисами. Оля побежала за ними, но снова задул сквозняк, Оля заметила, что в воздухе летает пепел. Серая пепелинка зацепилась за ее варежку, не желая расставаться с Олей и с цирком, но все же улетела, подхваченная ветром. Весь цирк закачался, посерел: ковер, манеж и даже купол стали разлетаться хлопьями пепла. Оля зажмурилась и закричала, но пепел летел ей в лицо, щекотал уши и щеки, он обдавал холодом – неживым холодом времени, как будто цирк сгорел давно, а по ветру его развеяли только через несколько лет. Оля опустилась на ковер и легла на живот. Когда ледяной пепел окутал негреющим снежным одеялом ее всю, она дернулась и, часто дыша, резко села на кровати. Онемевшая шея тут же отозвалась металлической долгой болью.
Первыми проснулись органы обоняния – в воздухе запахло подгоревшей подливой (в больнице разносили по палатам обед). На Олю смотрели три пары потухших от слез глаз. На краю кровати сидела тетя Элла. Она поглаживала Олину руку и улыбалась всеми своими морщинами. В ногах замерли две бабушки, Арина Петровна и Лидия Ивановна. Вторая держала в руках поднос с едой, который вручила ей медсестра. Оля ощупала фиксатор для шеи и втянула носом прогорклый запах подливы.
– Вспомнила? – Тетя Элла говорила негромко, боясь спугнуть Олины неокрепшие воспоминания.
Оля непонимающе уставилась на тетю Эллу, а потом перевела взгляд на Арину Петровну. Взгляд получился звериный, исподлобья: ни поднять, ни запрокинуть голову Оля не могла.
– Бабушка, – по голосу Оли было понятно, что она обращается к Арине Петровне – так, как обращаться к ней не разрешалось никогда и никому, но от окаменелого Олиного голоса вздрогнули обе бабушки. – Дедушка снился.
Голос ее дрожал, рублено падали камни слов, сыпались на пол и отбивали грустный ритм. Арина Петровна вздохнула и подсела на край кровати к тете Элле.
– Мне тоже иногда снится, – заверила она внучку, морщинистое лицо задрожало. – Да, Элла? Сколько раз я тебе говорила, что снится?
Арина Петровна ласково потрепала по руке сестру, и та согласно закивала. Оля опустила голову на подушку и снова вытянулась на кровати. На этот раз она заснула без снов и только слышала, как кто-то за стенкой играет на губной гармошке. Музыка тянулась – лениво, протяжно, иногда застревала на слишком высокой ноте, а потом продолжалась как ни в чем не бывало. Сквозь сон Оле нравилось думать, что это грустный клоун поет ей колыбельную.
Глава 19
Баба Элла
11 ноября 1994 года
Саратов, Городская клиническая больница № 2
Огареву не дали пройти к Оле, а его ночные десантные вылазки в больничное окно засек охранник. Огарев убежал и несколько дней спустя попытался попасть в больницу днем и через двери, но пускали только близких родственников. Поэтому после очередной репетиции Огарев околачивался у калитки и курил одну сигарету за другой. Его окутывал такой столб дыма, что старушки, проходящие мимо на костылях и проезжающие на колясках, плевались и пополняли огаревский словарный запас. Охранник недовольно крутил на пальце ключи, поглядывая на Огарева и ожидая, что тот таки зайдет на территорию учреждения, и вот тогда, вот тогда охранник покажет ему, как старушек-то травить. Одной из таких старушек оказалась баба Элла. Она семенила к калитке, запахивая на ходу длинную дубленку. Мех на воротнике свалялся и стал похож на шерсть бездомного старого пса. Огарев тряхнул головой и тут же бросился ей навстречу. Перед ним стояла та самая старушка, к которой он в 1991 году съехал жить по совету Сан Саныча. Та самая, что «может так спрятать, что никакая нечисть не найдет». Огарев сам не заметил, как схватил ее за рукав пальто.
– Баба Элла?
Баба Элла, казалось, не удивилась, только хмыкнула недовольно и выдернула рукав из цепких пальцев Огарева.
– Постарел, – протянула она, разглядывая лицо давнего знакомого. – Сын-то взрослый уже, наверное.
– Сын взрослый, – эхом повторил Огарев. – Жена вот… умерла.
– Знаю, – откликнулась Элла ровно, в голосе – ни сочувствия, ни сострадания. – Сан Саныч рассказывал.
Теперь хмыкнул уже Огарев. Он знал о склонности друга заводить странные знакомства. Как будто земная жизнь и годы, проведенные в Чечне, и побег оттуда вместе со смертной (ради ее же блага!) дочерью Коломбиной так и не смогли выбить из него замашек, которые порождает бессмертие. Хранитель цирка всегда оставался собой.
– Он, кстати, склянки эти все так же коллекционирует?
Огарев заметил, что, как только речь зашла о Сан Саныче, Элла оживилась.
– А вы свои ковры?
Элла засмеялась шершавым смехом и закашлялась.
– Насмешил! Значит, собирает. – Элла хихикнула, и лицо ее замерло, стало вмиг суровым, точно она меняла эмоции, не успев их испытать. – Ольку-то мою ты угробил?
– Я. – Огарев понял, что уклоняться и врать нет смысла. Элла все равно узнает, по чьему недосмотру с купола сорвалась Оля.
– Ты смотри мне, – погрозила она кулачком. Кулачок тонул в рукаве дубленки, баба Элла ростом не доходила Огареву и до плеча. – Еще раз недосмотришь, я ее к Арине насовсем заберу. Эти все, – кивнула она на окно Олиной палаты, подразумевая бабушек и родителей Оли, – сейчас перестанут ее в цирк пускать. Но я-то знаю, что у нее это, как и у тебя, – в крови. Так что даю еще шанс.
Тетя Элла улыбнулась, закуталась в дубленку поплотнее и засеменила дальше, ко входу в больницу.
– Баб Элла! – закричал Огарев. Он побежал за ней, спотыкаясь и путаясь в полах осеннего пальто. – А с вами можно?
– Рано еще тебе к ней.
И последняя надежда Огарева попасть к Оле, минуя охрану легальным путем, исчезла в дверях больницы.
– Ну мне же надо ей сказать!.. – Огарев в отчаянии хлопнул себя по бокам, сплюнул сигарету и поплелся по улице Горького.
– А ну выкинь свой мусор! – кричал ему вслед охранник, но Огарев даже не обернулся.
Охранник ругался и еще резвее крутил на пальце связку ключей. «Динь-дзын!» – звенела связка.
«Динь-дзын!» – вторил ей трамвай. Он пролетел мимо Огарева так близко, что едва не зацепил. Огарев брел по Чернышевского в сторону Заводского района и не замечал, как его обгоняют прохожие. На переходе его чуть не сбила машина, кинул в него мягкой игрушкой какой-то мальчишка, выбежав из соседнего двора. Игрушка отскочила и выкатилась на дорогу. Мальчик заплакал. Огарев очнулся от звука детского плача, вздохнул, и черное облачко выловило игрушечного зайца из лужи и доставило в руки мальчику. Тот захлопал большими беличьими глазами и заревел еще сильнее – от страха.
«Зато не будет швыряться в прохожих», – рассудил Огарев. Поймал переполненную маршрутку, влез и поехал стоя. Когда он вышел на конечной у стадиона «Волга», в городе начали зажигаться фонари. Огарев теперь точно знал, куда идет. Свернул на улицу Азина и стал искать нужный ему дом. Остановился у подъезда, достал из кармана деньги и пересчитал их. Это были последние деньги из тех самых, нечестно заработанных вместе с директором завода. Огарев откладывал их на черный день. Черный день настал не только для него и Олиной семьи, но и для всех горожан разом – утром на торгах доллар оставил их всех без штанов, и Огарев порядком подустал от разговоров, которые ходили по цирку. Слухи растекались под куполом быстрее, чем чары темноты. Кто-то говорил, что цирки теперь закроют. Кто-то – что перестанут платить. Огарев не боялся ничего. Он молился, чтобы Оля выздоровела, а ее семья смогла его простить. Пересчитав деньги, Огарев грубо дернул дверь подъезда, она распахнулась, и Огарев растворился в бетонном эхе лестничной клетки.
Глава 20
Мужской разговор
11 ноября 1994 года
Саратов, улица Азина, 55
Огарев нажал на кнопку, но тишину подъезда не нарушили ни трель звонка, ни шаги за дверью. Огарев подождал, вслушиваясь, и нажал еще раз. Звонок не работал, Огарев стал стучать. На стук откликнулся мелкий топот чьих-то ног. Зашуршало у двери, и все снова стихло.
– Кто? – Детский голос врезался в тишину и протянул Огареву спасительную ниточку к искуплению вины.
– Дядя Паша, – виновато проговорил он. – Артёмка, тебя же так зовут? Помнишь, фокус с тарелками тебе показывал?
Огарев приходил к Оле домой всего два или три раза и на второй застал всю семью в сборе. Тогда Артёмка вцепился в полы его пальто, ехал на попе за ним по паркету и смеялся – не хотел отпускать иллюзиониста.
– Ну, мы еще разбили одну, – продолжал Огарев.
За дверью помолчали, а потом снова что-то зашуршало и щелкнул замок. Огарев выдохнул. Дверь отворилась, и перед ним предстал Артёмка. Лицо у мальчика было измазано шоколадом, он держал руки в карманах, и карманы шебуршали и хрустели, как целый улей пчел.
– Здрасьте! – бодро заявил Артёмка, вытащил липкую руку из кармана и протянул ее Огареву.
– И где же ты этот клад нашел?
Артёмка причмокнул шоколадными губами, будто бы вспоминая, откуда он стащил целый мешок конфет, смакуя послевкусие, которое остается только после абсолютной свободы (в семь лет долгая отлучка родителей еще может гарантировать полную свободу!).
– Там! – он махнул рукой в неопределенном направлении.
Огарев подумал, что такие конфеты были припасены явно не на кухне. И явно не для Артёмки. Он улыбнулся и протиснулся в квартиру. Артёмка не возражал. Огарев уже не был ему чужим, Огарев втерся в доверие с того самого дня, когда Артёмка умолял показать еще один фокус. «Дядя Паша, еще один, ну пожалуйста, Оля пока что так не умеет!» Огарев усмехнулся, вспомнив, как Оля отвесила Артёмке оплеуху после этой реплики. И тут же нахмурился. Еще предстояло выяснить, будет ли Оля дальше работать в цирке, будет ли так же задирать братьев, сможет ли она ходить. Про темноту Огарев не заикался даже в мыслях. Если Оля не смогла спасти себя от гибели и пришлось вмешаться ему, то без разницы, что там думает Сан Саныч, будь он хоть тысячу раз Хранителем. Важно лишь то, что сама Оля может в свои четырнадцать. Четырнадцать – приличный возраст для того, чтобы нащупать свою власть над темнотой.
Почему он никогда не спрашивал, снились ли Оле сны? Сбывались ли они? «Плохой наставник, – думал Огарев, заглядывая на кухню к Куркиным. – Плохой».
Артёмка оказался самостоятельным малым: он деловито подошел к плите и зажег конфорку. Огарев не успел присесть за стол и снять кепку, а юный хозяин дома уже грел чайник и подставлял стул, чтобы достать с запретной для детей верхней полки в шкафу печенье «Юбилейное».
– Мое любимое, – заметил Огарев невзначай. – Дай помогу!
И печенье с хлопком (Огарев специально сопроводил исчезновение звуковым эффектом) исчезло в шкафу и с таким же хлопком появилось на столе.
– А вот Оля так не умеет! – Артёмка слезал со стула медленно, сначала на четвереньки, потом спускал на пол одну ногу, потом другую, придерживаясь за стул руками. – Но вы же ее научите?
Огарев задумчиво смотрел на стол: узоры на скатерти заплясали перед глазами, каждый завиток, кажется, образовывал очертания Олиного лица – она летела вниз с купола, рассекая спиной волжский саратовский воздух, а он стоял наверху, кричал и ничего не делал. Лицо Оли застыло, омертвело, навсегда замерло в его памяти.
– Что ты говоришь? – Он перевел взгляд на Артёмку, который уже стоял наизготовку с горячим чайником и кружкой.
– Вы же ее научите? – чуть слышно повторил Артёмка.
В тускло освещенной кухне глаза мальчика сверкали, как софиты в цирке, требовали ответа, слепили Огарева непринужденностью и наивностью.
– Научу… Наверное, – пробормотал Огарев, поднимая голову к потолку.
На потолке висела черная тень. Она не шевелилась, но Огарев знал – она ждет любого его приказа. Он заплатил сполна: жена, сын, Оля – две отданные жизни и еще одна – покалеченная. Он может просить у темноты всего чего захочет. Только вот теперь он не станет учить Олю – не такой ценой. Пусть тень на потолке подавится своим даром. Пусть забирает всё. Он не станет. Осознание пришло к Огареву вместе с блеском Артёмкиных глаз, и он тут же вскочил, чуть не опрокинув чайник на мальчика.
– Мне пора, Артём, – очень серьезно сказал Огарев, хватая кепку со стола. – Попей чаю и жди маму.
Огарев погладил мальчика по голове и, сгорбившись, шагнул в сторону прихожей.
– Вы же ее правда научите? Она станет знаменитой и будет каждый день носить мне конфеты! – Артёмка кричал Огареву в спину.
«Детские, наивные теории, – думал Огарев. – Темнота не делает никого знаменитым. Только очень несчастным».
Что-то в прихожей щелкнуло. Еще раз. И еще. Часовым механизмом звучал замок входной двери. Огарев понял, что он не успеет уйти из этой квартиры. И от Оли он никуда не денется. Вернулись домой Олины родители. Огарев замер в прихожей, смяв в руках свою несуразную кепку из кожзаменителя. Дверь распахнулась, и невысокий мужчина вошел в квартиру. Он замер, увидев гостя, а потом кинулся на Огарева с кулаками – тот еле успел выпустить из рук кепку и перехватить меткий удар Толика. Костлявый кулак завис между ними. Тяжелое дыхание Толика, вошедшего с холода, Огарев слышал так, словно тот дышал у него над ухом.
– Как Оля? – только и смог выдохнуть Огарев, придерживая одной рукой неожиданно тяжелого Олиного папу. – Я спрашиваю, как Оля?
Глава 21
Девочка с афиши
Ноябрь 1994 года
Саратов, улица Азина, 55
Олю выписали домой ровно через месяц. Широкоплечий и широкощекий врач в очень маленьких для его лица очках, которые делали его похожим на большого ребенка, молча протянул выписку и рецепт на уколы («В больнице-то лекарства наскребли с трудом, где ж нам-то их найти?» – причитали бабушки). Врач пожал плечами, пробормотал что-то про психосоматику и восстановление после перелома Джефферсона и ушел. Теперь Оля лежала дома, в закутке за шкафом. В свете зимнего солнца по комнате летала, серебрилась, танцевала пыль, и Оля задумчиво ловила пылинки рукой, разминая постоянно затекающие пальцы. Она смотрела на афишу, наклеенную на задней стенке шкафа – афишу ей в цирке подарили в честь дебюта, и девочка в белом шифоновом костюме на переднем плане казалась Оле далекой и чужой. Девочка на афише зависла над ареной в нескончаемом полете, и у нее над головой в такой же бесконечной невесомости парили кольца. Оля смотрела на пыль, на «свою комнату», в которой она провела тысячи нудных минут за уроками – заполняла контурную карту по географии или зубрила параграф по истории, – и не узнавала ни комнату, ни себя. Она с трудом приподнималась с кровати, опуская ноги на холодный паркетный пол, и плелась к зеркалу – из него тоже смотрела на нее какая-то другая Оля. С синяками под глазами и отеками на лице от долгого лежания.
Передвигалась она, медленно переставляя стопы. Скрипел под ногами паркет, и Оле казалось, что так же скрипят ее суставы, просто она не слышит их стона и плача, потому что скрипят они на каком-то своем языке. Жалуются на свою незавидную долю. Она смотрела на мячики для жонглирования, которые кто-то (Артёмка!) раскидал в прихожей. Родители были слишком заняты, чтобы их собрать, а Артёмка, наверное, просто позабыл. Кажется, только вчера, да, так и было, она училась кидать в воздух восемь предметов, ни одного не роняя, а сегодня заново учится ходить и боится, что ее грузное и неуклюжее, отяжелевшее за месяц в больнице тело уронит себя снова. Оля подняла с пола шарик, и какой-то нерв в шейном отделе позвоночника придавлено запищал. Она выпрямилась. Оля в зеркале скривилась, рот у нее подрагивал от боли. Подкинула мячик и не смогла поймать – шебурша солью, мячик безвольным мешочком стукнулся об пол.
Все выходные дни (которых стало чудовищно много) она коротала за давно забытой и брошенной математикой, нагоняя программу с такой скоростью, что мама не успевала забирать у нее задания на проверку.
– О жонглировании не вспоминаешь?
Вопрос прозвучал неожиданно, когда Оля смотрела в окно: первый снег заметал спину старого «запорожца». «Запорожец» давно приржавел к своему месту, перекосился на один бок – шины справа сдулись, а слева еще нет. Снег накрывал его, позволяя поспать еще немного, до лета, не просыпаться совсем, не видеть своей беспомощности, неподвижности.
Мама сидела за рабочим столом, проверяла тетради, штамповала красной ручкой значки на полях – перечеркивала, расчеркивала, расписывалась, складывала тетрадку в стопку – непрерывный цикл движений, за которыми ее спина гнулась с годами все сильнее, бока становились круглее, а морщинки на лице превратились в борозды и каньоны. Все те же цифры, никаких новых задачек. Программа с пятого по одиннадцатый на отлично, и заново – в пятый класс. Мама вздохнула, потянулась и, отложив последнюю тетрадку, подошла к Оле, положила руки ей на плечи:
– Так вспоминаешь?
Оля покачала головой.
– Ну вот и хорошо. Теперь никакого цирка. Поступишь в физмат класс, потом в университет. Все как у людей.
Оля кивнула: сил сопротивляться не было. Она украдкой скосила глаза в сторону прихожей – в темноте все еще виднелись раскиданные по полу мячи. Никто к ним не прикасался с тех пор, как Артёмка вероломно разорил Олину сумку.
«Главное, чтоб не выкинула», – подумала Оля и отвела взгляд.
Мама снова сидела за столом и то ли перекладывала на другую сторону ту же стопку тетрадей, то ли успела выудить из большого полиэтиленового пакета новую.
– Что-то Лидия Ивановна Артёма не ведет домой, – пробормотала мама и тоже посмотрела на снег за окном.
Так они и сидели вдвоем, мать и дочь, без мыслей и слов. Снег падал и падал, то разлетающимися хлопьями, то мелким дробным пшеном. «Запорожец» почти совсем скрылся в хлопковом сугробе. Волшебство длилось, время замедлялось и тут же ускорялось вместе со снегом – метель диктовала правила мироздания. Оля взглянула на мать и перехватила ее взгляд. Всё тут же прекратилось. Миг был надорван и испорчен. Оля встала и отодвинула стул от подоконника. Ножки заскребли о паркет. Оля вышла в прихожую, бросив:
– Я в комнату!
Мама не ответила. Она, замерев, сидела, не моргая и не двигаясь. Как будто в первый раз заметила, что бывает так: идет первый снег, разрешает земле отдохнуть, и все замерзает, останавливается.
– Может, Артёмку в школе задержали из-за подготовки к праздничному концерту? – Мама обернулась и беспомощно взглянула на Олю.
Оля пожала плечами и вышла. Собрала мячи в сумку, с трудом ворочая тело, наклоняясь и выпрямляясь через боль. В комнате схватила две-три футболки и джинсы, подумав, сняла с полки несколько книг, отчего остальные, как домино, повалились на бок. Не обращая внимания на то, что среди томиков про цирк (Куприн, Григорович) затесалась книжка с портретом сурового бородатого человека на обложке, она сунула книги к остальным вещам. Потом сдернула со шкафа афишу. Хотела скомкать и выкинуть в окно, но девочка в белом зашевелилась, затанцевала, поймала кольца, снова подкинула их и замерла.
Оля помотала головой и отогнала видение.
– Только глюков мне еще не хватало, – пробормотала она и затолкала афишу в сумку вслед за книгами.
В коридоре послышался заливистый смех Артёмки, басовитый – Лидии Ивановны и строгий голос мамы:
– Это вы где так изгваздались?
– Давно я так не веселилась! – Лидия Ивановна как будто бы не слышала маминых протестов.
– А ну марш в ванную! Всё мокрое, всё…
Когда замок в ванной щелкнул, зашуршала за стенкой вода, Оля распахнула створку шкафа и вытащила оттуда зеленый мохеровый шарф и варежки, которые вязала бабушка Лида.
– Прости, бабуля, – всхлипнула Оля и, вытерев пылающую и уже влажную щеку, прокралась в прихожую.
За грохотом воды, смехом Артёмки и громким спором бабушки с мамой никто в квартире Куркиных не услышал, как заскрипел под Олиными тяжелыми шагами в прихожей паркет и хлопнула входная дверь.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.